
Бесплатный фрагмент - До начала зверей
Посвящается родным,
которых больше нет со мной.
Маме. Сестре. Бабушке.
Я вас не забуду.
Предисловие
Словно волшебной палочкой, раскрывает человек темные глубины неизвестного прошлого, и первобытные страны возникают перед ним в солнечном сиянии при свете дня, в сумерках тихого вечера и в темноте ночи, при спокойной погоде и при свисте ветра и грохоте бури…
Августа Иозеф
В ледяных глубинах космоса, там, где звезды шепчут друг другу о тайнах мироздания, вокруг ничем не примечательного желтого карлика вращается пылинка палевого цвета, мельчайший из всех кусочков Вселенной, за который едва ли зацепится посторонний взгляд. И небрежный представитель чужой цивилизации пролетит мимо Солнечной системы, даже не заподозрив, что на пропущенной им крошечной планете уместились четыре с половиной миллиарда лет истории, по меньшей мере десять миллионов видов живых организмов и уж никак не меньше семи миллиардов разумных существ, называющих этот мир своим домом.
Называется же планета, разумеется, Землей.
В течение многих лет, из которых уже сложились целые эоны, она кружится вокруг Солнца, точно танцовщица фламенко, и пестрое ее одеяние вспыхивает то безмятежной лазурью океанов, то ослепительной белизной ледяных шапок, горит полыхающими лавовыми озерами и наливается мертвенной позолотой разрастающихся пустынь — но, сколь бы неприветливо она ни выглядела, она всегда была, есть и остается колыбелью жизни. С самого момента своего появления в первобытном океане эти крохотные слизистые капельки, именуемые клетками, развивались и росли, объединялись в группы и увеличивали численность, постепенно начав все больше влиять на окружающий мир, все глубже проникать в течение земной истории, оставляя в ней свой собственный, уникальный и неповторимый след.
Чем является история Земли, если не историей развивающейся на ней жизни? Перемещение земных плит может заинтересовать разве что геологов, ведь это масштабный, но слишком медленный процесс, если только не представлять, как сталкивающиеся между собой континентальные блоки вызывают мощные толчки, валящие наземь деревья и заставляющие животных в панике спасаться бегством, если не воображать окутанные пламенем вулканические хребты, засыпающие мелководное море густым серым пеплом, если не переживать последствия резкой смены климата, наблюдая за обитателями влажного леса или сонного болота, собравшимися у последнего пересыхающего водопоя. Уничтожая одни виды, подобные катаклизмы всегда открывали дорогу для других форм жизни — однажды освоенные, горные склоны или каменистые пустыни никогда не оставались свободными от неожиданно покинувших их обитателей. И вместо трилобитов и ракоскорпионов мелководные моря заселили плезиозавры и ихтиозавры, лишившиеся птерозавров небеса освоили птицы и летучие мыши, а там, где сравнительно недавно мирно паслись мамонты, ныне кочуют стада северных оленей, за которыми ходят терпеливые ненцы и коряки. Все меняется, и на смену чему-то ушедшему приходит что-то новое: до нас были только звери и птицы, еще раньше планету населяли динозавры…
А что было до них? До появления «ужасных ящеров», чьи колоссальные останки столь безгранично властвуют над воображением любого, кому стоит лишь услышать о доисторических временах? Ведь динозавры появились на Земле сравнительно поздно: если сжать всю историю планеты в одни сутки, то получится, что первые живые существа плавали в океане еще в четвертом часу ночи, первые наземные животные выползли на берег только к одиннадцати часам вечера, динозаврам отвели примерно минут пятнадцать ближе к полуночи, а сам человек разумный существует лишь последние несколько секунд. Воспринимать всю историю планеты исключительно сквозь призму тираннозавровых зубов и диплодочьей длинной шеи — все равно, что пытаться любоваться цветком, выложив на белую скатерть кончик листа да ссыпав пару крупинок пыльцы — глупо и бесполезно.
И уж подавно не стоит думать, что до появления динозавров в мире не за что было зацепиться глазу, тогда как после пришествия ящеров начался «Парк Юрского периода», с рычащими на каждом углу хищниками и колоссальными травоядными, размером с дом.
Вовсе нет.
Да, динозавры были первыми наземными созданиями, достигшими столь огромных размеров, и в этом смысле их действительно никто не переплюнет — но даже в меньших масштабах порой заключается не меньшее разнообразие форм. И задолго до появления первого «ужасного ящера», когда предки трицератопсов и карнотавров еще только выбирались из породивших их тропических болот на сухие равнины, рядом с ними свое победоносное шествие начали синапсиды, называемые также звероящерами или тероморфами — удивительнейшая и необычнейшая группа наземных позвоночных.
Эти восхитительные создания, главенствовавшие на планете около пятидесяти миллионов лет, были крохотными как землеройки и огромными, подобно слонам, массивными и поджарыми, длиннохвостыми и куцыми, с продолговатыми «собачьими» челюстями и короткими мордами, покрытыми роговым чехлом, напоминающим клюв попугая. От тяжеловесных охотников каменноугольных болот, едва ли не первыми после древних амфибий перешедших на питание крупными позвоночными животными, до последних пушистых обитателей раннемелового подлеска, больше смахивающих на привычных нам сусликов и мышей — синапсиды жили по всему земному шару, от полюса до полюса, и долгое время именно их присутствие не давало предкам динозавров стать крупнее и сильнее, выйти из тени соперников и дать начало Эре Рептилий, о которой столь часто грезит современный человек.
Между прочим вроде и забывая, что не динозаврам, но именно роду зверообразных мы с вами, как и вообще все млекопитающие, обязаны своим появлением на Земле. Ибо около двухсот миллионов лет назад, примерно в то же время, что и первые динозавры, на планете возникли совершенно новые создания — произошедшие от высших синапсид представители нашего с вами мохнатого класса. Эти первые зверюшки были малы и слабы, а размножившиеся рептилии на долгие сто пятьдесят миллионов лет оттеснили пушистое племя в «подвалы» наземного мира — но млекопитающие были упорны и терпеливы. Они развивались, неустанно размножались и постепенно наращивали разнообразие, путаясь под ногами гигантских ящеров в ожидании того момента, когда ситуация на планете в очередной раз изменится.
Потому что, как уже было сказано, ни одно вымирание в истории не было настолько глобальным, чтобы дотла выжечь всех живых существ и превратить Землю в безрадостную пустошь. После вулканических извержений или метеоритной бомбардировки, задушенные глобальными изменениями климата или исчезнувшие по каким-то своим, пока еще не ведомым причинам, но живые существа неизменно захватывали утраченные плацдармы, возвращались на арену и, сперва неуверенно, но потом все быстрее и быстрее начинали отплясывать на костях своих предшественников!..
И из всех созданий, обитавших на Земле, малых или больших, лишь одно-единственное по-настоящему задумалось о том, кто населял планету до его появления. Это странное существо, вместо того, чтобы просто искать пищу, просто спасаться от хищников, просто спариваться и просто же умирать, с какой-то радости начало копаться в земле — но не ради сочных корней или вкусных личинок, но разыскивая древние, совершенно не годящиеся в пищу окаменелости, дабы проводить часы, вглядываясь в их притягательные изгибы и силясь представить себе, какими были все эти загадочные существа, исчезнувшие с лица планеты миллионы лет назад.
Имя этому необычнейшему из животных — Homo sapiens.
И, как ни странно, первые строчки его истории оказались написаны очень и очень давно, в те далекие времена, о которых и пойдет наш рассказ…
Справочный отдел
Слово о миллиардах, или Что такое геохронология
Как уже говорилось, возраст нашей планеты составляет порядка четырех с половиной миллиардов лет, и такой огромный срок уж никак нельзя измерить человеческими мерками. Год, век или даже целое тысячелетие — все это поистине ничтожно по сравнению с теми миллионами, что отделяют, скажем, вымирание последнего индрикотерия от появления первого шерстистого носорога, так что, дабы не утонуть в безбрежном океане времени, ученые-геологи прибегли к давно испытанному способу: разделили срок существования Земли на более мелкие кусочки, потом на еще более мелкие, и еще, и еще… пока, наконец, вгоняющие в дрожь четыре с половиной миллиарда не превратились в куда более удобоваримые миллионы лет.
Тоже, разумеется, не так мало… Но, по крайней мере, в этих временных промежутках еще можно разобраться!
Итак, самой крупной единицей деления геологической истории является эон, что по-древнегречески значит «эпоха» — колоссальный отрезок времени, радикально отличающийся от остальных составом и степенью развития всех сфер Земли — водной, земной, воздушной и биологической.
Всего эонов насчитывается четыре:
1. Катархей («ниже древнего») — древнейший из эонов, начавшийся в момент зарождения Земли и окончившийся примерно четыре миллиарда лет назад. Осадочных горных пород того времени не существует — они на тысячу раз успели переплавиться в земной мантии, поэтому что именно происходило в те времена на поверхности планеты — неразрешимая загадка.
2. Архей («древний») длился целых полтора миллиарда лет, и именно в те времена на планете впервые появились живые организмы. Поскольку атмосфера древней Земли была бедна кислородом, первые живые клетки были анаэробами (то есть не нуждались в кислороде, более того — для них он был ядовит!) и обитали в глубинах архейского океана — мелкого и чрезвычайно кислого соленого раствора, ставшего колыбелью всей современной жизни.
3. Протерозой («первая жизнь») был еще длиннее архея и является самым продолжительным из всех эонов: он занял почти два миллиарда лет! За это время сформировалась кислородная атмосфера, объем мирового океана достиг современного уровня, а среди живых существ появились многоклеточные организмы, в том числе многие современные беспозвоночные, такие как моллюски и членистоногие. Также некоторыми учеными предполагается, что протерозоем датируется самое продолжительное глобальное оледенение, превратившее Землю в снежный шар почти на триста миллионов лет; в результате этой катастрофы огромная часть живых организмов погибла, и лишь чудом некоторым из них удалось выжить.
4. Фанерозой («явная жизнь») — последний из эонов, начавшийся примерно 550 миллионов лет назад и продолжающийся до сих пор. Именно во время фанерозоя жизнь окрепла и расцвела, породив сложные сообщества как в океанах, так и на суше; количество ископаемых, датируемых фанерозоем, в разы превосходит все, что известно из более ранних эпох, так что ничего удивительного, что именно на этом времени сосредоточена львиная доля внимания палеонтологов, и именно про фанерозой ученым известно большего всего.
Следом за эонами «по старшинству» идут эры — несколько меньшие по размеру временные отрезки, обычно разделяемые массовыми вымираниями. Насчитывается эр целых десять, при этом большая часть их относится к архею и протерозою, тогда как из фанерозоя известно всего три эры: палеозойская («древняя жизнь»), мезозойская («средняя жизнь») и кайнозойская («новая жизнь»). Эры же делятся на периоды, каждый из которых обычно составляет от пятидесяти до ста миллионов лет (есть, впрочем, и исключения — например, силурийский период длился всего около двадцати пяти миллионов лет), и именно периоды принято считать своеобразной «универсальной единицей» измерения геологического времени, точно так же, как объем измеряют литрами, а массу — килограммами. То, что периоды могут делиться на системы, ярусы и отделы, никого особо не волнует, и если об эоархейской эре или оленекском ярусе мало кто слышал, то юрский или четвертичный периоды известны многим школьникам.
Впрочем, рассматривать все периоды истории — а их насчитывается двадцать два — не слишком-то интересно, особенно если учесть, что, опять же, чуть меньше половины их приходится на время до начала палеозойской эры… так что, пожалуй, остановимся подробно лишь на пяти периодах, имеющих к нашему рассказу непосредственное отношение. Два из них — каменноугольный и пермский — выделяются в конце палеозойской эры, а еще три — триасовый, юрский и меловой — это уже мезозой, и именно за этот промежуток времени, длившийся более двухсот миллионов лет, появились, расцвели и постепенно исчезли наши зверообразные предки, на середине своего пути успевшие-таки дать начало первым млекопитающим.
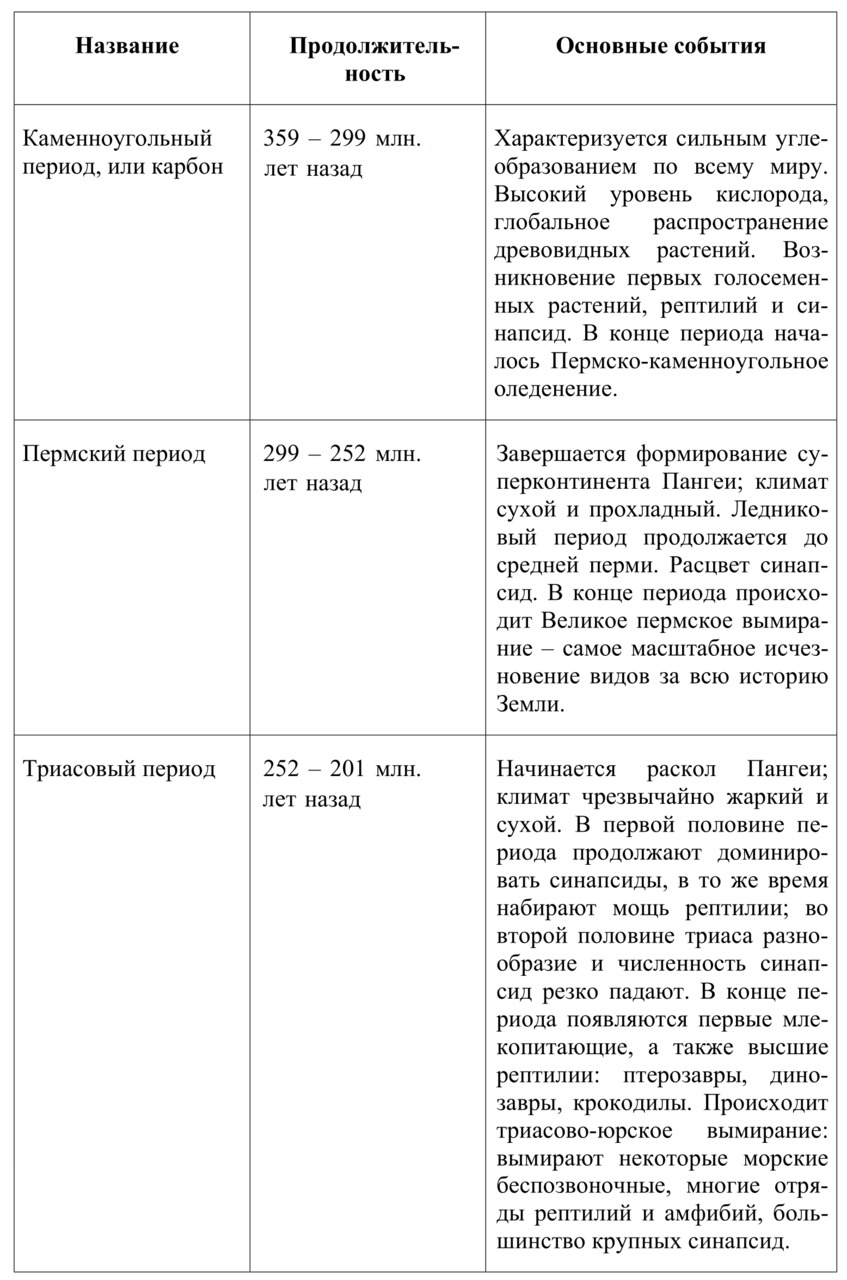
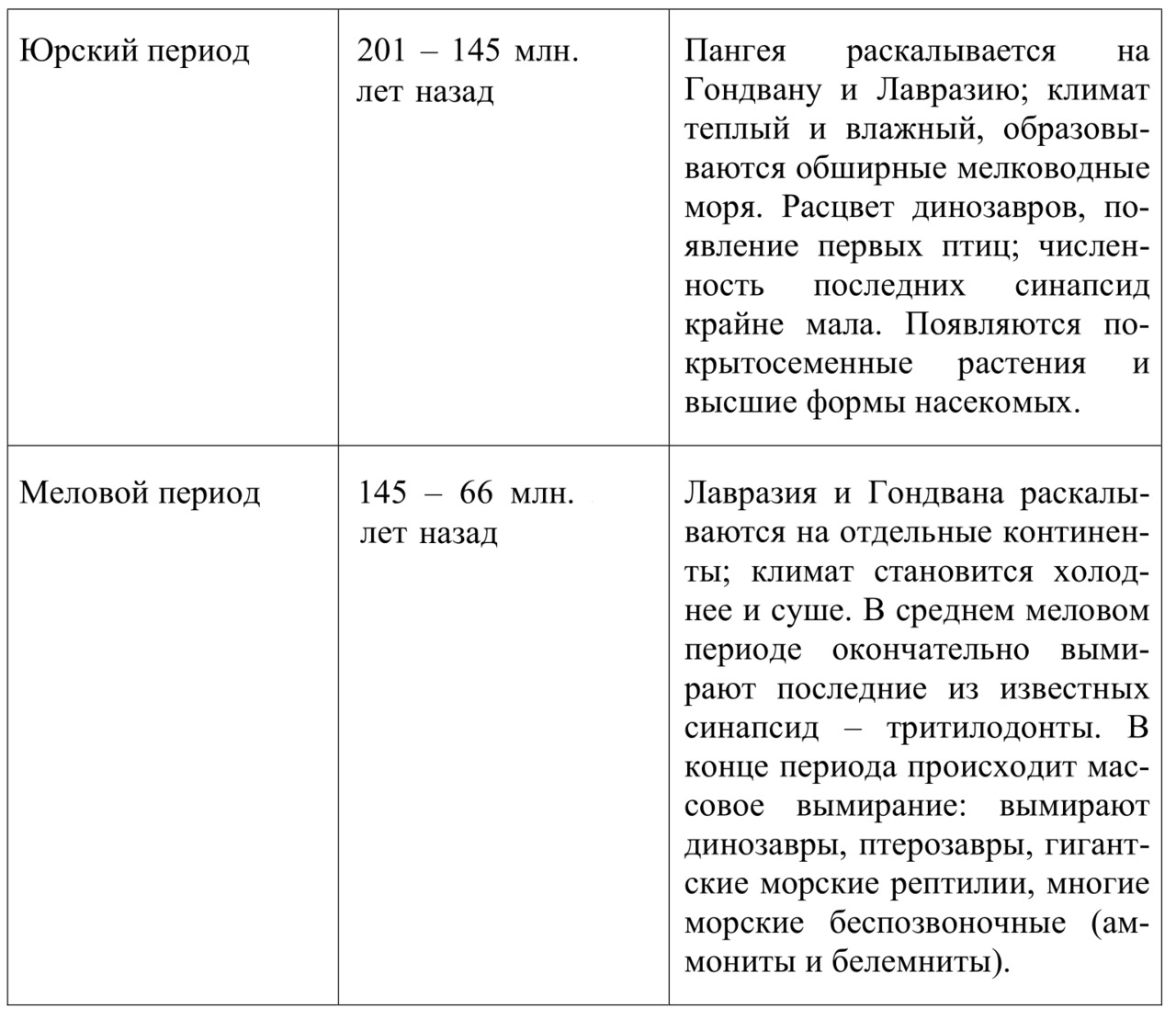
…и о миллионах, или Немного о систематике
Количество видов живых существ, населяющих Землю, поистине огромно — оно оценивается примерно в десять миллионов, при этом большая их часть по-прежнему не известна ученым. Каждый год все новые и новые имена вносятся в гигантскую библиотеку данных, и, как и во всякой библиотеке, этому впечатляющему собранию томов потребовался свой каталог, призванный не дать постороннему читателю заблудиться и запутаться в бессчетном количестве букв, слов и предложений, которыми записано биоразнообразие нашей планеты.
Так и родилась на свет наука под названием систематика.
Впервые о возможности упорядочить окружающую природу задумались еще древнегреческие мудрецы Гептадор и Аристотель, призвавшие объединять похожее с похожим, но в то же время не класть в одну корзинку розу и жабу, тритона и лягушку, а также саламандру черную и саламандру огненную, даром, что последняя и без того «кричит» о своем отличии вызывающей пятнистой окраской! Идея прижилась, и сегодня без систематики уже не обойтись, а уж в отношении ископаемых видов животных — тем более…
Вот только с ними все гораздо, гораздо сложнее.
Скажем, для примера, живет в современном мире серый волк. Canis lupus, если по-латыни, то есть волк (lupus) из рода Собак (Canis). Род этот, к слову, не такой уж многочисленный, однако только на территории России обитает сразу два его представителя: уже упомянутый серый волк, он же обыкновенный, а также азиатский шакал, он же чекалка Canis aureus. Оба этих вида довольно сильно смахивают друг на друга, внешне отличаясь лишь размерами, мелкими деталями анатомии и цветом меха, а уж по скелетам их и вовсе разграничить могут разве что специалисты, даже если кости в идеальном состоянии!
Теперь же представьте, что кости переломаны. Скручены. Частью потеряны, частью уничтожены геологическими процессами, давным-давно превратившими их в порошок. Что живые родственники обладателя костей приходятся ему далекими-далекими потомками, тысячу раз прошедшими горнила эволюции, либо же их прямое родство вообще не установлено, поэтому ученым приходится прибегать к «помощи» с левого бока притесавшихся десятиюродных внучатых племянников, дабы придать своим выводам хоть какое-то правдоподобие.
На подобном уровне быть полностью уверенным в идентификации скелета до вида?
Пф-ф-ф. Тут бы с семейством как-нибудь не ошибиться!..
Но не будем углубляться в дебри, ограничимся тем минимумом, что потребуется для переправы через двести миллионов лет, отделяющих друг от друга наших первого и последнего зверообразного предшественника. Итак, базовой единицей палеонтологической систематики, как и любой другой, служит вид, объединяющий тех животных, что разделяют общий внешний вид, анатомию и физиологию, живут в схожих условиях и способны приносить плодовитое потомство. Правда, при идентификации вымерших животных добраться до вида не так-то просто: мало того, что, как уже упоминалось, близкие виды не слишком-то отличаются друг от друга строением скелета, так еще и животные различных возрастов могут выглядеть совершенно по-разному! Поэтому тираннозавр рекс Tyrannosaurus rex как был, так и остается единственным видом рода Tyrannosaurus, тогда как род пситтакозавров Psittacosaurus насчитывает как минимум тринадцать видов животных, довольно хорошо различающихся как анатомически, так и местами обнаружения скелетов. Вдобавок, для пситтакозавров известны скопления останков молодых и взрослых животных, что позволяет с уверенностью отличать родителей и их детенышей друг о друга, так что, пожалуй, это один из немногих случаев, когда выделение нового рода ископаемых не ограничилось одним-единственным, так называемым «типовым» видом, но приобрело почти «современный» облик.
Следующим за родом обычно следует семейство, за семейством — отряд, за отрядом — класс… ну, а дальше уже идут такие крупные объединения, что обычно употребляются лишь в научной литературе, поэтому их мы рассматривать не будем. Также существует множество промежуточных делений — например, в семействе Кошачьих (Felidae) выделяют подсемейство Больших кошек (Pantherinae) — и внесистематических рангов — например, клад — которые зачастую вводятся исключительно удобства ради… либо же как «мусорная куча» для тех видов, которые пока еще не могут занять определенное положение в системе из-за малого количества окаменелостей или же сочетания нескольких противоречащих друг другу признаков, что не позволяют отнести животное к какой-то конкретной группе.
Часть I. Заря истории
Начальный этап развития наших зверообразных предков занял весьма долгий промежуток времени — с конца каменноугольного периода (или карбона) и до конца периода пермского, в общей сложности — около шестидесяти миллионов лет из тех последних, что были отведены природой на закат палеозойской эры, «эры древней жизни».
В те времена большая часть суши на планете была собрана в два гигантских континента — Лавруссию на севере и Гондвану на юге. В течение всего карбона эти два массива сближались друг с другом, и к концу периода между ними оставались лишь узкие проливы, занятые мелководным морем. Другие крупные «острова» — например, Ангарида, располагавшаяся неподалеку от Северного полюса — также двигались по направлению друг к другу, пока, наконец, не столкнулись, после чего медленно, но верно поползли на юго-запад, на встречу с Лавруссией. В конце концов все эти перемещения должны были привести к образованию единого суперконтинента — Пангеи — но до истечения каменноугольного периода теплые течения все еще безвозбранно омывали пологие берега, время от времени уступая место обширным болотам. В результате на планете установился достаточно теплый и влажный климат — идеальные условия для развития сложных форм жизни.
Знаменитые карбоновые леса, которые мы знаем под видом огромных залежей каменного угля, не только обеспечили человечество важнейшим источником энергии, но и создали плацдарм для появления множества новых животных, которых еще не видывала планета. В тени гигантских плаунов, хвощей и древовидных папоротников котел жизни бурлил вовсю, «выплевывая» из себя то сухопутных улиток, решивших покинуть уютные водоемы ради открывшихся пищевых возможностей суши, то крылатых стрекоз, первыми на Земле освоивших искусство полета, то юрких мелких «ящериц» — первых в мире рептилий и их дальних родственников — первых же зверообразных синапсид.
В те далекие времена наши предки еще никоим боком не походили на млекопитающих, и, в отличие от закованных в чешуйчатый панцирь пресмыкающихся, синапсиды также не могли похвастать полностью водонепроницаемыми кожными покровами — большую часть их тел защищала лишь сухая, но достаточно тонкая кожа, чем-то похожая на нашу. Естественно, такой «панцирь» плохо годился для освоения, скажем, сухих полупустынь (куда нередко забрасывало примитивных рептилий), что изрядно ограничило распространение синапсид, вынудив держаться ближе к влажным низменностям, а значит — и к гигантским амфибиям, что в то время были неоспоримыми владыками болотистых лесов. Спихнуть их с этого пьедестала было задачей на грани возможного: мало того, что двухметровый колостей или, еще лучше, пятиметровый фолидерпетон неосторожную «ящерицу» мог попросту проглотить, так еще и способность удерживать в организме влагу — едва ли не главный козырь ранних синапсид в борьбе за существование — в условиях заболоченных лесов не давала нашим предкам ровно никакого преимущества.
Типичная ситуация для дикой природы: эволюция не проводит кастинг и не отбирает самых совершенных претендентов — она просто выбрасывает все свои творения, вне зависимости от уровня развития, на общую игровую площадку, после чего берет в руки вместительный газетный кулек и, пощелкивая семечки, терпеливо ждет, что из этого получится. Сумел продержаться на батуте дольше остальных, сохранил все зубы после стычки с хулиганами и не позволил какой-то там девчонке занять твой участок песочницы? Молодец, значит, имеешь все шансы не оказаться «тупиковой ветвью» и продолжить свой род в новой, еще более совершенной форме. Не повезло?.. Ну что ж, тогда тебе на выход — вон туда, в выгребную яму, из которой человечество уже успело достать окаменелостей не на одну сотню тонн, и они все не заканчиваются!
Так что с этой точки зрения наши предки оказались редкостными везунчиками: они не были выбракованы из карнавала новорожденных еще на заре своего существования, и исхитрились прожить на положении «сорняков» еще почти десять миллионов лет, пока треск расползающегося ледникового щита и рокот вздымающихся горных хребтов не поприветствовали начало нового периода земной истории — пермского. Да, да, названного в 1841 году британским геологом сэром Родериком Импи Мэрчисоном в честь Пермской губернии Российской империи (по другой версии — в честь исторической области «Пермь Великая», встречающейся в русских летописях с конца XIV века), а посему являющегося единственной геологической системой, получившей «русское» название. Начавшись около трехсот миллионов лет назад, пермский период длился почти пятьдесят миллионов лет (немногим меньше, чем куда более известный юрский), и с его завершением история палеозоя необратимо подошла к концу. Ощутив на себе глобальное оледенение еще на исходе карбона и оставаясь под гнетом наступающих ледников большую часть перми, тем не менее, планета переживала довольно плодотворное время, и впервые в истории на ее просторах появились крупные сухопутные животные, уже не связанные напрямую с водной средой обитания. Это и были наши упрямые прародители, синапсиды, для которых пермский период считается эпохой величайшего расцвета, и едва ли не половина окаменелостей сухопутных позвоночных того времени относится к этим интереснейшим созданиям.
В связи с осушением климата и исчезновением большей части непроходимых заболоченных лесов (отныне они сконцентрировались только у экватора, а ближе к полюсам свое отвоевывали засухоустойчивые примитивные хвойные и семенные папоротники), наземные животные смогли выйти из зоны влияния гигантских амфибий и, пользуясь сближением древних материков, расселиться по всей суше. Нечто похожее наблюдалось и на заре эры динозавров, так что, как и на «ужасных ящеров», сегодня на пермских зверообразных можно полюбоваться в музеях по всему миру — в Бразилии, Индии, Китае, Германии, США, Южной Африке и, разумеется, в России. От крохотных «ящерок» до гигантов в несколько тонн веса, через ни на что не похожих «живых парусников» и устрашающих «саблезубых тигров», в лесах и на болотах, в сухих полупустынях и на морском побережье — наши предки пользовались любой подходящей средой обитания, чтобы заселить ее по максимуму, чтобы стать еще многочисленнее, еще разнообразнее. И хотя среди них вы не найдете подобных рогатым цератопсам или причудливым стегозаврам — что ж, следует помнить, что, в отличие от «парниковых» климатических условий мезозойской эры, климат в перми не слишком-то отличался от нынешнего. Средняя температура на планете держалась где-то в области +16º по Цельсию, к тому же, для большинства мест обитания синапсид были характерны сезонные смены климата (не просто «сухой сезон» и «сезон дождей», а именно зима, весна, лето и осень), и в таких условиях эволюции было особо не разгуляться.
Это динозавры, жившие в преимущественно ровном и мягком климате, не менявшемся миллионы лет, могли позволить себе всевозможные пластины, гребни и перепонки, большая часть которых, судя по всему, несла в основном демонстрационную функцию — синапсидам, чьи условия обитания могли поменяться всего за пару-тройку миллионов лет, излишества были ни к чему. Яркому павлину или разноцветному попугаю не место в северной тайге, так что на протяжении всего своего царствования зверообразные предпочитали «не разбрасываться», не углубляться в специализацию, но оставаться сравнительно примитивными, универсальными животными, способными в случае очередной резкой смены климата дать росток новым формам жизни. Именно поэтому среди них и не наблюдалось такого букета форм, зачастую гротескных и совершенно невероятных, и именно поэтому они процветали во времена оледенения планеты, когда все прочие их сородичи, в том числе и предки динозавров, довольствовались лишь вторыми ролями в наземных экосистемах.
Каждому — свой срок, говорит нам история развития жизни на Земле. Синапсиды ушли, уступив место динозаврам, точно так же, как в свое время сгинули гигантские рептилии, освободив дорогу млекопитающим и птицам… и, кто знает, а не исчезнем ли со временем и мы сами? Ибо велики мы лишь для самих себя, тогда как с точки зрения эволюции все человечество — горсточка песка в огромной пустыне, еще один причудливый выверт развития, и отмеряющей наш срок судьбе будет абсолютно неинтересно, сколь долгий эволюционный путь мы прошли, дабы, в конце концов, обрести разум и возомнить себя царями природы.
Путь, который начался давным-давно — в болотистых лесах на западном побережье древнего континента Лавруссия, почти 304 миллиона лет назад…
Охота на болотах

304 миллиона лет назад
Западное побережье Лавруссии
Территория современных Соединенных Штатов Америки, штат Оклахома
Солнце наконец-то показалось из-за горизонта, и его яркие лучи щедро вызолотили кроны растущих на склонах холмов кордаитов, хотя внизу, клубком свернувшись в долине, все еще сонно ворочался густой туман да томно вздыхали торчащие из молочной пелены лепидодендроны. Ночь неохотно уступала место свету, но день был настойчив, а ее силы были на исходе, и тьма, наконец, сдалась — серыми змейками отползла она в самые густые заросли, под древесные корни и в глубокие норы, после чего стрелы теплых лучей торжествующе пронизали воздух до самой земли, заиграли в бесчисленных каплях и лужицах, бросили полупрозрачные тени на бугристую кору деревьев, а целая стайка их, расшалившись, поскользнулась на влажной почве и проникла в одно из последних убежищ прошедшей ночи — под толстый ствол погибшего дерева, где, вжавшись в сырую землю, спал молодой офиакодон.
В эпоху позднего карбона на Земле еще не существовало теплокровных животных, способных поддерживать в своем теле постоянную температуру, как это делают птицы и млекопитающие, так что прошло несколько минут прежде, чем разбуженный солнцем древний монстр слегка пошевелился и с натугой приоткрыл темно-коричневые глаза. Какое-то время он просто лежал, изредка моргая, но постепенно кровь в его застывшем теле немного согрелась и, чуть приподнявшись на коротких мощных лапах, он вперевалку, волоча брюхо по земле, пополз из своего укрытия. Все еще сонный и даже более неуклюжий, чем обычно, он трижды оступился на глинистой земле, покрытой холодной пленочкой росы, но продолжал монотонно скрести ее плоскими когтями, пока не преодолел сложный участок и не выбрался на купающуюся в утреннем свете прогалину.
К тому времени от ночной прохлады не осталось и следа, и, едва добравшись до более-менее сухого места, офиакодон тут же лег, подобрав под себя лапы и вытянув короткую шею. Плотная моховая «подушка» слегка провалилась под его весом, так что теперь наружу торчали лишь голова и спина дремлющего создания, окрашенные в болотно-зеленый, в коричневых разводах цвет — идеальный вариант камуфляжа для того, кто хочет остаться незамеченным в густом лесу. А этому существу, несмотря на внушительных размеров пасть, полную острейших зубов, сейчас более всего было необходимо, чтобы его не беспокоили и не мешали принимать положенную солнечную ванну. Предки млекопитающих все еще стояли в самом начале своего эволюционного пути и не могли обходиться без внешних источников тепла, полагаясь лишь на работу собственного организма — до времен первых теплокровных еще оставалось много, много миллионов лет. Пока же на всей Земле не водилось ни одной рыбы, амфибии или рептилии, способной похвастать одинаковой температурой тела в любое время дня и ночи, так что все наземные существа каждое утро исполняли один и тот же ритуал, своеобразное приветствие наступающему дню. У кого-то он длился подольше, а у кого-то поменьше — все зависело от размеров и образа жизни, так что гигантские плотоядные амфибии, царствующие в местных реках, довольствовались всего несколькими минутами лежания на мелководье, после чего спускались обратно в глубокие омуты, а вот, скажем, метровой длины офиакодону требовалось нагреться градусов до двадцати, и, как следствие, провести на солнышке около часа, в течение которого он был вял и фактически беспомощен, а потому предпочитал тишину и покой.
И если тишиной каменноугольный период еще мог его обеспечить — ведь в то время не было ни говорливых птиц, ни звенящей мошкары, ни даже тяжелых майских жуков с их гудящими надкрыльями — то покоя едва ли можно было дождаться, ибо, обманувшись маскировкой, через какое-то время окружающий мир совершенно забыл о нежащемся во мху хищнике, и лесная подстилка вновь «ожила», наполнившись тысячами разнообразных обитателей. Многие из них показались бы нам очень знакомыми: тут были и крупные тараканы, и бессчетные многоножки, и хищные скорпионы да пауки, некоторые из которых вырастали с человеческую ладонь длиной! В воздухе то и дело проносились, трепеща крыльями, огромные стрекозы, гонявшиеся за практически не отличимыми от современных поденками, которых хищницы ловили прямо на лету, после чего, отягощенные добычей, присаживались неподалеку отобедать. Вот одна из них, самая удачливая, ловко подсекла неосторожную жертву у самой поверхности непересыхающей лужи и, отлетев в сторону, села на закачавшийся под ее весом папоротник, тут же оторвав поденке все четыре крыла. Одно из них, крапчатое, с коричневым пятнышком на передней кромке, покружившись в воздухе, чрезвычайно аккуратно опустилось прямо на полуприкрытое веко дремлющего офиакодона, и тот медленно открыл глаза, будто удивленный, как же это он здесь оказался. Чуть погодя из пасти, миновав частокол похожих на колышки зубов, неохотно показался почти черный язык, что без труда дотянулся до кончика морды и облизал нос, после чего, в очередной раз напугав снующих под его лапами членистоногих, офиакодон встал и, чуть приподняв массивное туловище над землей, неторопливо заковылял куда-то в чащу.
Теперь, когда он согрелся, его движения были гораздо увереннее и быстрее, хотя нам он все равно показался бы на редкость неповоротливым созданием, лишь на самую малость обогнавшим в этом своих ближайших родичей — амфибий, некоторые представители которых по размеру и уровню активности немногим отличались от полощущегося в тинистой заводи бревна. Правда, большая часть этих саламандр-переростков все же была не настолько огромной — львиную долю земноводного населения каменноугольных лесов составляли животные размером не больше кошки — но попадались среди них и сущие монстры, сравнимые с крупным крокодилом! Ничего удивительного, что не обладающий надежной природной защитой офиакодон избегал заходить на глубину и, даже увидев перед собой прямой путь через мелководное озерцо, все равно с шумом и треском начал проламываться сквозь свежую поросль гигантских хвощей, оставляя за собой просеку из изломанных и поваленных стволиков.
Там же ему попалась и первая за день добыча — молоденькая арчерия, похожая на стройную ящерку с длинным гибким телом и крошечными лапками, совершенно не приспособленными для убегания от врагов. Неопытная в силу возраста, эта водоплавающая малютка выбрала для себя небольшую «полянку» в самом сердце зарослей, чтобы выметать икру, и уже почти закончила с этим важным и нужным делом, когда ее буквально вычерпнули из облюбованного гнездышка, незамедлительно отправив в путешествие вниз по пищеводу.
Вторым блюдом на этом доисторическом шведском столе стало древнее земноводное, анконаст, чьи более крупные сородичи-лабиринтодонты не раз и не два пытались отобедать офиакодоном на заре его жизни, когда еще совсем крохотный малыш шустро гонял тараканов среди папоротниковых кущей. Теперь же настал час расплаты — не заметив приближающуюся опасность вовремя, амфибия смогла лишь беспомощно обмякнуть, когда страшенные челюсти одним укусом переломили ей позвоночник. Правда, с этой своей добычей офиакодону пришлось повозиться — целиком лезть в глотку полуметровый анконаст не желал, так что охотник еще довольно долго тряс головой, ломая кости и разрывая кожу, пока, наконец, не развалил тушку пополам и не расправился с ней в два несильных укуса, после чего еще долго стоял неподвижно, чуть приоткрыв пасть и, казалось, улыбаясь от уха до уха. На самом деле он, конечно, всего лишь остывал — к моменту окончательной расправы над лабиринтодонтом солнце успело выкатиться в зенит, так что лес быстро прогрелся от подножия до верхушек деревьев. Ни единый ветерок не тревожил застывший воздух, переполненный водными испарениями и запахом гнили, так что менее приспособленные существа вроде нас с вами не протянули бы в этой «турецкой бане» и пары часов, однако для порожденных ею существ такая погода была самым обычным делом, и, между делом окунувшись в неглубокую лужу, офиакодон почувствовал себя гораздо лучше, после чего вновь углубился в заросли.
Внезапно чуть впереди послышалось громкое бурчание, прерываемое редкими, тяжелыми вздохами, как будто там пасся невесть откуда взявшийся в доисторическом лесу бегемот… но офиакодона странные звуки не смутили, и, как ни в чем не бывало, он спокойно вышел на край обширного мелководного заливчика, сплошь покрытого невысокой растительностью. Немного поодаль, темными кочками возвышаясь над буроватыми шишечками хвощей, бродило с десяток массивных созданий, чем-то похожих на современных игуан, только гораздо крупнее — одно из них вымахало в длину на все два с половиной метра! — и гораздо, гораздо толще. Почти голая кожа, покрытая редкими бородавками, влажно блестела на солнце и собиралась складками, беспрестанно шевелившимися, пока животные неуклюже ползали по дну, вороша носом толстый слой ила. Это были диадекты — одни из крупнейших четвероногих своей эпохи, этакие динозавры каменноугольного периода. Мелкие их представители порой заходили довольно далеко вглубь суши, заселяя практически безжизненные пустыни за границей влажного леса, но крупные виды были надежно привязаны к богатым кормом болотным топям и вот уже на протяжении нескольких миллионов лет благополучно эксплуатировали местную экосистему, с удовольствием избавляя ее от некоторой доли водных растений, сгнившего дерева и речных моллюсков. Благодаря своим внушительным размерам эти огромные животные могли не бояться нападения хищника: и самые крупные амфибии не рисковали покушаться на этих колоссов, довольствуясь лишь молодняком и телами мертвых животных, а страшнее этих монстров в здешних краях мясоедов не было. Даже офиакодон, с его относительно сильными челюстями, был абсолютно бессилен в «бою» с толстой шкурой диадекта, которую не смог бы прокусить и при большом желании, а посему в представлении друг друга эти животные как бы вообще не существовали, являясь лишь непримечательными элементами пейзажа. Огромному лосю совершенно не интересны мыши, пищащие где-то под поваленным деревом, а отдыхающий крокодил в самом лучшем случае моргнет, если на него мимоходом вскарабкается пробегавшая по пляжу ящерица. Круг интереса большинства животных крайне ограничен — они не умеют любоваться цветами или звездным небом, ибо эволюция не нашла в таких занятиях никакого практического смысла, и потому ни один диадект, пасущийся на мелководье, даже не покосился в сторону мелкого хищника, появившегося на опушке, а сам офиакодон ограничился лишь коротким взглядом на движущиеся «горы» (далеко? не наступят?), после чего вновь исчез за папоротниковой зеленью, в непрекращающемся и жадно сосущем пустой желудок стремлении наконец-то ощутить!..
Хм-м-м… хм-хм… Пф-ф-ф!
…поистине чарующий аромат, внезапно достигший чувствительного носа, и заставивший офиакодона тут же приподнять голову, поводя ею из стороны в сторону.
К-а-ак… интересно.
Пахло мясом, но не свежим, а самым вкусным и замечательным — чуть-чуть подгнившим, но еще не кишащим пожирателями падали. Такую пищу уже куда легче рвать мелкими зубами, да и переваривается она не в пример лучше свежатины, так что офиакодон еще довольно долго фыркал и топтался на одном месте, пока ветер в очередной раз его не выручил — «Сюда!» — и, тяжело развернувшись, хищник рванул на поиски. Он «знал», что долго такой привлекательный источник дармовой пищи без внимания не останется, и уже через несколько минут может начаться жестокая битва за лакомый кусок — сам не раз становился свидетелем, как огромные амфибии, не поделившие один и тот же шмат пищи, с жутковатой молчаливостью разевали пасти и оглушительно колотили хвостами, поднимая волны и ломая угодившие под удар хвощи и молоденькие деревца! Порой эти великаны так увлекались происходящим, что совершенно забывали про само «яблоко раздора», и пронырливые падальщики, наблюдавшие за их потасовкой с безопасного расстояния, успевали под шумок его стянуть, так что ободранному и обессилевшему победителю оставалось лишь равнодушно обнюхать то место, где лежала еда, после чего, мгновенно позабыв о былом увлечении, отправиться к ближайшему водоему.
Этим гигантам были неведомы сожаления об упущенных возможностях или, уж тем более, депрессии по поводу долгой голодовки — для них не существовало ни сослагательного наклонения, ни даже понятия будущего времени, ибо вся их жизнь концентрировалась на постоянных «здесь» и «сейчас», и если первая попытка проглотить неосторожную жертву оказывалась неудачной, то все с той же терпеливостью охотник начинал ждать следующую жертву. Или послеследующую. Или ту, что попадется через неделю. Рано или поздно любое брюхо оказывалось набитым, так что крупному плотоядному, теоретически способному поститься в течение нескольких месяцев, просто некуда было торопиться — в отличие от всяких там мелких и несытых, конкуренция среди которых была значительно выше. Поэтому-то голодному офиакодону пришлось со всей возможной скоростью шевелить лапами, дабы поспеть к открытию завтрака — и, вывалившись из-под осклизлой коряги, он уже почти ощутил смутное чувство удовлетворения, заметив, что у источника всех благ (слегка раздувшегося трупа какого-то земноводного) все еще никого нет…
…но, впрочем, неуставно дернувшаяся перепончатая лапа вывела его из состояния легкой эйфории, вернув в суровый реальный мир, а раздавшееся чуть погодя глухое чавканье засвидетельствовало, что стол сервирован на одного, а клиент уже прибыл и вовсю работает челюстями. К слову, будь это самое чавканье хотя бы на полтона ниже, офиакодон, пожалуй, остался бы на своем месте, дожидаясь, пока заведомо более крупный соперник уйдет — но, на его удачу, звук оказался чуть менее внушающим, и, обогнув падаль стороной, молодой хищник самолично узрел, что и хвостик коротковат, и зубы в пасти не сказать чтобы очень страшные. Да и вообще, сородич оказался тем еще разгильдяем — одурманенный запахом мяса, он запихнул внутрь развороченного брюха мертвого животного всю голову целиком, давясь и судорожно глотая куски ароматных внутренностей, так что, естественно, не видел, не слышал и не чуял ничего вокруг… до тех самых пор, пока новоприбывший офиакодон не бросился на него — безо всяких предупреждений или боевых стоек, с места и во весь опор, чтобы, подобравшись вплотную, вцепиться челюстями в столь удачно открывшийся вражеский бок!
Весы качнулись, однако на сей раз Фортуне взбрело в голову улыбнуться другому: будь наш герой хоть на самую капельку крупнее, эта схватка закончилась бы, не начавшись, ибо даже самым живучим из живучих не так-то просто бегать со сломанным позвоночником! — но, увы, укус лишь оставил на шкуре рваную рану, а вот сам противник, зашипев, сумел вырваться на свободу и тут же, не разбираясь, разинуть пасть и броситься навстречу врагу. Офиакодоны сшиблись через долю мгновения, и, как ни странно, более мелкий оказался в выигрыше — его позиция оказалась ниже, так что ему удалось поднырнуть под голову соперника и ударить носом в незащищенное горло. Удар был весьма опасный: кабы не малый вес да тесное пространство, не позволившее пустить в ход зубы, старший офиакодон всей шкурой ощутил бы на себе его ярость, не погибнув, так получив очень серьезные раны… вот только сегодня удача явно решила во всей красе продемонстрировать свой переменчивый нрав — и старший претендент не стал выпускать ее из лап. В самом прямом смысле слова: он боком соскользнул с живой «подушки», отпихнув ее тупыми когтями и заодно едва не лишив соперника глаза, после чего, не дожидаясь, пока тот опомнится, снова ударил в бок, безошибочно отыскав челюстями уже нанесенную прежде рану. На этот раз его укус оказался гораздо серьезнее — не отыскав по пути преграды в виде жесткой шкуры, острые зубы без труда пронзили плоть, добравшись до ребер, и раненый офиакодон глухо застонал, извиваясь в жестокой хватке.
Случись эта битва хотя бы парой месяцев позже, и старший офиакодон не стал бы церемониться: голодный сезон диктует свои правила, так что единственного хорошего рывка головой вполне хватило бы, чтобы рядом с дохлой амфибией на землю легла еще одна гора готовой к употреблению пищи… но, как уже было сказано, животные каменноугольных лесов не имели привычки задумываться о возможных неприятностях, которые могли ждать их в туманном будущем. А потому, молодой и полный сил, старший офиакодон лишь какое-то время подержал противника в пасти, после чего чуть ли не презрительно его выплюнул — примерно так же, как сытый кот бросает только что пойманную мышь. Экзекуция откладывалась до следующего раза, и, едва почувствовав, что свободен, проигравший юнец торопливо заковылял прочь, оставляя за собой дорожку темной крови, едва различимую на фоне примятых папоротниковых листьев.
Победитель же проводил его холодным взглядом, методично облизывая морду. Быть может, расправившись с трофейной тушей и вновь ощутив саднящее чувство голода, он отправится по следу раненого сородича и, если только тот не погибнет раньше, закончит начатую драку единственным мощным укусом… но не сегодня. Сегодня, едва исчезнув из виду, бывший конкурент и смертельно опасный соперник просто перестал существовать для все еще слишком куцего разума древнего хищника, не способного вместить больше одной мысли за раз, так что, постояв немного в абсолютной неподвижности, офиакодон неторопливо развернулся и вальяжной походкой направился к главному призу, явно не желая думать ни о чем другом, кроме как о возможности досыта наесться.
Пройдут миллионы лет — и мозги далеких потомков офиакодона заработают эффективнее, дабы сохранять в своих извилинах все больший и больший объем информации; когда-нибудь они наконец-то поймут, что такое привязанность, после чего научатся воспринимать представителей своего вида не только как соперников, партнеров для спаривания или потенциальную пищу. Эти мозги будут становиться все сложнее, начнут задумываться об устройстве Вселенной и о своем месте в этом странном мире, а потом, впервые за всю историю планеты, заинтересуются созвездием Большой Медведицы и создадут удивительные парфюмерные композиции из тысячи тысяч различных цветочных ароматов.
Пройдут миллионы лет… но для этого офиакодона они были столь же отдаленными и непонятными, как и завтрашний день.
Как и оставшиеся ему, без малого, пятнадцать лет жизни.
Потому что весь смысл его существования — всей этой бесконечной череды совершенно однообразных дней — сейчас сосредоточился на единственном куске зловонных потрохов, вот-вот готовящихся провалиться в окровавленную бездну глотки…
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Кордаит (Cordaites, назван в честь чешского ботаника Августа К. Д. Корды) — род примитивных голосеменных растений, родственники (согласно некоторым предположениям — предки) современных хвойных, но, тем не менее, не имели хвои, а их узкие кожистые листья могли достигать в длину одного метра. Древесные и кустарниковые формы, самые крупные виды вырастали до 30 метров в высоту, при этом темпы роста у кордаитов были существенно выше, чем у современных им древесных растений. Известны как чисто наземные виды, так и обитавшие в зоне морских приливов, среди окаменевших корней которых найдены отложения морской соли и скелеты небольших рыб, использовавших «подкорневое» пространство в качестве убежища. Предположительно, возникли в первой половине карбона, окончательно вымерли к концу пермского периода.
Лепидодендрон (Lepidodendron, «чешуйчатое дерево») — род гигантских древовидных плаунов, достигавших в высоту тридцати пяти метров. Как и у современных плаунов, весь стебель и ветки лепидодендрона были покрыты узкими бесчерешковыми листьями, достигавшми в длину 50 сантиметров; при сбросе листвы на поверхности ствола оставались характерные рубцы, напоминающие видом змеиную чешую. Появившись в раннем карбоне (возможно — в позднем девоне), просуществовали до начала перми, впоследствии исчезнув в связи с осушением климата. Обитали исключительно в заболоченных местах и на затопляемых морских побережьях, поскольку их несовершенная корневая система могла обеспечивать растение влагой лишь в условиях ее переизбытка.
Синапсиды (Synapsida, «однооконные», из-за единственного височного окна в черепе), они же тероморфы (Theromorpha, «звероподобные»), они же звероящеры — класс (по другим представлениям — клада) высших позвоночных животных. Ранее считались представителями класса рептилий, однако в настоящее время выделяются в качестве отдельной группы. Главным их отличием считается наличие единственного височного окна в черепе, расположенного ниже заглазничной кости, по которому череп тероморфа можно легко отличить от черепа рептилии. Размеры синапсид колебались от 10 сантиметров до 6 метров в длину, вес — от нескольких граммов до девяти тонн. Делятся на две группы: пеликозавров и терапсид. Доминирующие наземные ископаемые пермского и раннего триасового периодов. Возникнув около 320 миллионов лет назад, в позднем карбоне, вымерли в среднем меловом периоде, около 115 миллионов лет назад. От высших синапсид — цинодонтов — в конце триасового периода произошли первые млекопитающие.
Пеликозавры (Pelycosauria, «шлемочерепные ящеры») — группа наиболее примитивных синапсид, сохранявших типичную для рептилий физиологию и внешний облик. Размеры колебались от 30 сантиметров до 6 метров. Отличались от настоящих пресмыкающихся слаборазвитыми защитными покровами, напоминающими кожу современных млекопитающих; как следствие, были околоводными животными, не отходившими далеко от водоемов. Хищные, всеядные и растительноядные виды. Возникнув в позднем карбоне, просуществовали до середины пермского периода; расцвет их пришелся на раннюю пермь. Предки терапсид.
Офиакодон (Ophiacodon, «змеиный зуб») — род примитивных пеликозавров, известный из позднего карбона и ранней перми Северной Америки и Европы. Крупный высокий череп, массивное туловище, ноги относительно короткие. В длину некоторые виды достигали 2,5 — 3,6 метров. Предположительно, вел полуводный образ жизни, был неспециализированным хищником, охотившимся на самую разнообразную добычу — от рыбы до земноводных и примитивных рептилий. Судя по отпечаткам покровов ближайших родственников офиакодона, как минимум на брюхе у него могли располагаться чешуи, внешне похожие на чешуи рептилий, но по строению скорее напоминающие рыбьи.
Рептилиоморфы (Reptiliomorpha, «подобные рептилиям»), они же батрахозавры (Batrachosauria, «лягушкоящеры») или антракозавры (Anthracosauria, «угольные ящеры») — клада четвероногих, объединяющих черты как амфибий, так и рептилий. Включают в себя всех современных наземных позвоночных: рептилий, птиц и млекопитающих (но не амфибий, которые ведут начало от других предков — темноспондилов), а также несколько полностью вымерших групп животных, просуществовавших с раннего каменноугольного периода до середины триаса. Большая часть ископаемых рептилиоморфов вела водный образ жизни, поскольку эти животные не откладывали яйца, а метали икру, как амфибии; последние из ископаемых батрахозавров (хрониозухи) вымерли, в том числе, из-за конкуренции с лучеперыми рыбами (которые уничтожали головастиков и икру) и крокодилами.
Арчерия (Archeria, в честь округа Арчер в Техасе) — род примитивных рептилиоморфов. Обладала удлиненным телом, маленькими лапками и очень длинным хвостом. В длину достигала 2 метров, вела исключительно водный образ жизни, охотилась на мелкую рыбу, личинок амфибий и крупных беспозвоночных. Вымерла в раннем пермском периоде.
Лабиринтодонты (Labyrinthodontia, «лабиринтозубые») — подкласс земноводных, ранее называемых стегоцефалами («панцирноголовыми») и батрахоморфами («лягушкоподобными»); в настоящее время это название практически не используется. Отличаются сложным внутренним строением зубов, на поперечном срезе которых хорошо видны складки дентина, формирующие на поверхности зуба продольные бороздки. Вероятно, подобное строение укрепляло зуб, помогая лабиринтодонтам в охоте на крупную добычу. Еще один характерный признак этих животных — сплошной кожный панцирь, покрывавший черепную коробку сверху и с боков, оставляя отверстия лишь для глаз, ноздрей и светочувствительного органа («теменного глаза»). Появились в середине каменноугольного периода, окончательно вымерли в первой половине мелового, таким образом просуществовав на планете более двухсот миллионов лет.
Анконаст (Anconastes, «горный житель») — род лабиринтодонтов, длина черепа около 9 сантиметров, общая длина тела — до полуметра. Сравнительно некрупное животное и, несмотря на название, едва ли забиравшееся далеко вглубь суши, охотясь в болотистой местности на мелких позвоночных и крупных беспозвоночных животных.
Диадект (Diadectes, «кусающий крест-накрест») — род примитивных рептилиоморфов, по уровню организации находящихся ближе к рептилиям, чем к амфибиям. Череп длиной до 50 сантиметров, общая длина тела — до 3 метров. Передние зубы долотообразные, щечные — расширены. Скелет массивный, хвост относительно короткий, конечности толстые. Когти небольшие, ногтеобразные. Считаются первыми растительноядными четвероногими животными на Земле, хотя, возможно, на самом деле были всеядными. Крупные виды были исключительно обитателями влажных биотопов, тогда как мелкие могли осваивать водоразделы. Возникнув в позднем каменноугольном, окончательно вымерли в раннем пермском периоде, вероятно, вытесненные примитивными синапсидами — казеидами.
Под парусом
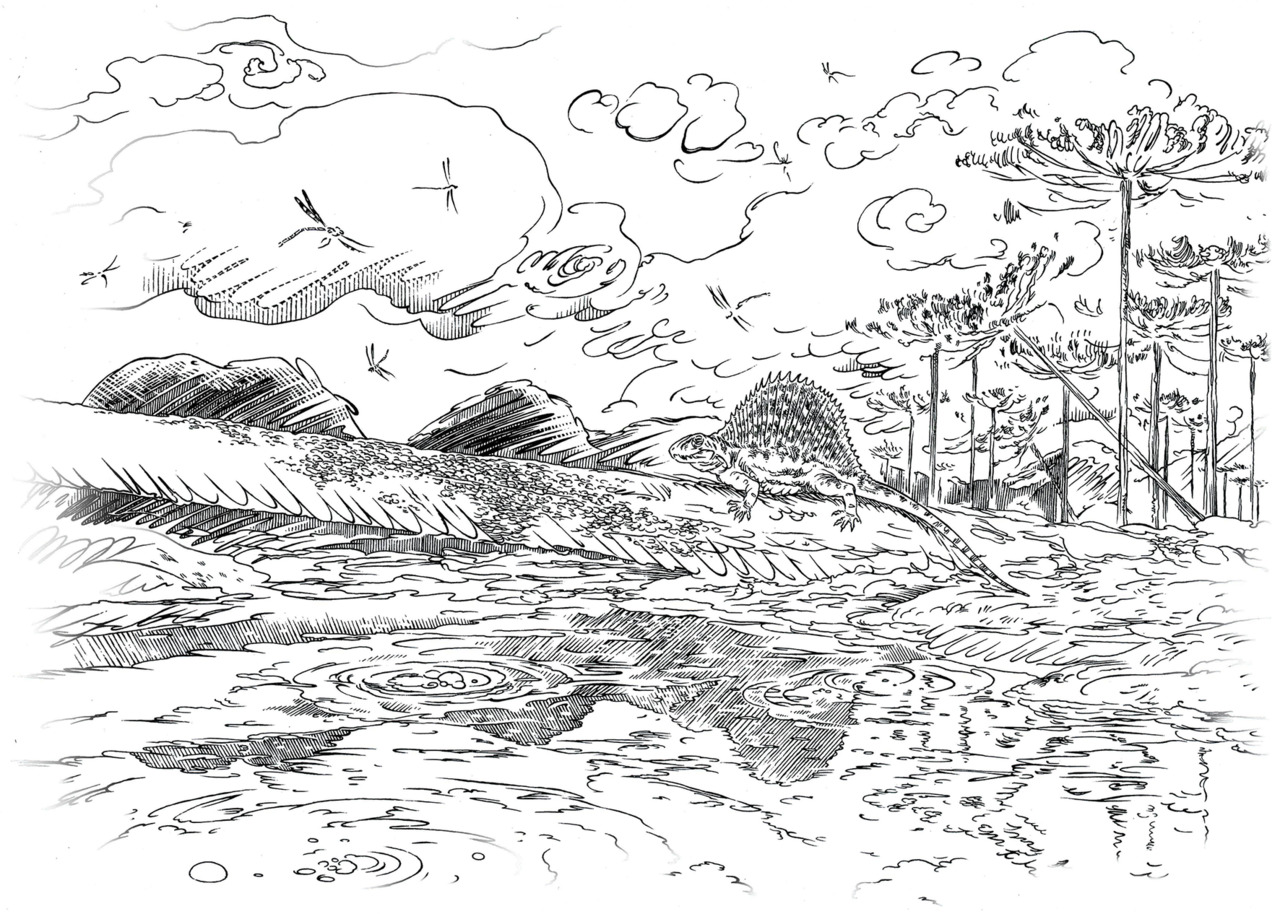
285 миллионов лет назад
Северо-западное побережье Пангеи
Территория современных Соединенных Штатов Америки, штат Техас
Наступил рассвет, и сколько солнечный шар ни ворочался в своей уютной колыбели из сгустившихся над горизонтом тяжелых дождевых туч, зов природы все же оказался сильнее, выманив толстощекого лежебоку на небосклон и заставив залить всю речную пойму зыбким бледно-золотистым светом. Здесь, в этой неширокой низменности, собрались сразу три реки, берущие начало где-то далеко на севере, в центральной области мегаконтинента Пангея, так что несмотря на то, что пермский период называют «временем пустынь», здесь было ненамного суше, чем где-нибудь в восточноафриканской саванне. Может быть, разве что не так жарко — все же на дворе время оледенения, рядом с которым ледниковый период, в котором живем мы с вами, кажется лишь горсткой снега, высыпанной за шиворот проказливым мальчишкой, и изрядное понижение уровня моря вызвало перебои с прежде ровным и мягким климатом: продолжительные засухи нередко сменяются тропическими ливнями, обрушивающимися на побережье с океана, после чего вновь могут наступить долгие месяцы без дождей, когда и самый глубокий водоем рано или поздно превращается в зловонную лужу.
Но, впрочем, не будем о грустном — этот денек, несмотря на приближающуюся бурю, обещает быть вполне спокойным, так что оставим позади невысокие холмы, покрытые примитивными хвойными вальхиями и приземистыми, похожими на молоденькие пальмы тениоптерисами, да спустимся на топкие, сплошь затянутые зеленой дымкой берега, где состав флоры не сильно изменился за прошедшие двадцать миллионов лет. Во всяком случае, куда ни глянь — повсюду все так же возвышаются стройные кордаиты, рядом с ними тянутся к солнцу измельчавшие, но все еще узнаваемые лепидодендроны, уже чуть больше смахивающие на современные плауны, а у подножия деревьев ковром стелятся братья-близнецы современных папоротников и хвощей, спускающиеся по берегу и плотным строем теснящиеся на мелководье. Новички растительного царства, постепенно меняющие примитивные листья на хвою, все еще только осваивают более засушливые регионы планеты, медленно приспосабливаясь к новым условиям обитания и готовясь занять главенствующее положение в наземных экосистемах, однако здесь, в этом своеобразном заповеднике карбона, их влияние пока что минимально, поэтому готовимся к приступу ностальгии… и идем поближе к воде — там как раз намечается что-то интересное.
Первыми, как водится издревле, наступающий день встречают насекомые — их хрупким тельцам требуется совсем немного тепла, чтобы согреться, и вот уже, трепеща полупрозрачными крыльями, в воздухе появляются пестрые скорпионницы и траурно-серые веснянки, а сразу за ними утренний моцион начинают стрекозы, несколько более мелкие, чем их каменноугольные родственницы, но все еще вполне грозные и опасные хищники. Во всяком случае, от этих крепких челюстей не всегда удается спастись даже первым жукам с их жесткими ребристыми надкрыльями, однако изящные охотницы редко соблазняются столь грубой дичью, предпочитая обходиться чем-нибудь поменьше и помягче. Например, небольшим паучком, зазевавшимся в центре своей паутины, а посему немедленно подписавшим себе смертный приговор: одна из стрекоз, чьи покрытые темно-синими полосами крылья слились в размытое голубоватое пятно, подлетела к нему вплотную и аккуратно вынула хозяина из его ловчей сети, ни единым взмахом не повредив натянутые шелковые ниточки.
Теперь этой паутине предстоит бессмысленно торчать здесь до следующего шторма — никто уже не явится, чтобы обновить поврежденные ячейки или извлечь попавшуюся в силки добычу, так как сотворивший ее паук уже через пару секунд лишился головы, а поймавшая его стрекоза элегантно приземлилась на торчащий из воды споровой колосок хвоща, дабы завершить трапезу. Ела она жадно, будто куда-то опаздывая, и волосатые паучьи лапки только успевали исчезать во всесокрушающей мясорубке челюстей… но, видно, даже столь похвальная скорость была недостаточной для того, чтобы опередить уготованную тебе смерть, и стрекоза даже крылом пошевелить не успела, как внезапно разверзнувшаяся посреди речной глади воронка обросла зубами и, взметнувшись в коротком прыжке, в мгновение ока втянула насекомое вовнутрь. Остальные летуньи, больше встревоженные всколыхнувшимся воздухом, чем гибелью соплеменницы, неистово закружили вокруг, и их огромные фасетчатые глаза со всех ракурсов разглядывали появившийся на поверхности воды силуэт нового животного, удивительно напоминающего современную саламандру… вот только длиной почти в метр.
Это был тримерорахис, один из лабиринтодонтов, покрытый тонкими пластинками костной чешуи, что придавала ему на редкость экзотический облик и заставляла искать родство с рептилиями… но не старайтесь — змее или ящерице эта зверюшка не больший родич, чем дельфину, поскольку славное семейство темноспондилов, к которому она принадлежит, в эволюционном древе заняло местечко близко-близко к основанию, и с лягушками ее близкие отношения еще просматриваются, а вот с черепахой — ну ни разу. Кстати говоря, темноспондилы — довольно занятная группа позвоночных, появившаяся во второй половине карбона и благополучно просуществовавшая до первой половины мелового периода, то есть сроком жизни почти в два раза побившая столь славных динозавров, с которыми делила планету большую часть мезозойской эры. Впрочем, на закате своего существования эти амфибии уже были далеко не так пугающи, и представляли угрозу разве что для молоди каких-нибудь гипсилофодонов, тогда как сейчас, в ранней перми, их племя все еще на высоте: в частности, одним из главных кошмаров этой речной дельты является эриопс — родич тримерорахиса, только с черепом полуметровой длины, вооруженным острыми зубами.
Изрядно походя на массивный бочонок, эриопс с успехом заменял еще не появившихся на планете крокодилов, утаскивая в свою пасть любое животное, показавшееся ему съедобным, так что только наши старые знакомые — массивные диадекты — еще могли чувствовать себя в относительной безопасности, тогда как всяческой мелочи оставалось лишь избегать своего врага, не заходя далеко в воду… и похожий на ящерицу любитель насекомых болозавр, промелькнувший в прибрежных зарослях, это охотно продемонстрировал, лишь слегка мазнув мордой по плеснувшей волне. Ему-то, казалось, особо беспокоиться было нечего — какой резон эриопсу гоняться за тридцатисантиметровой мелочью? — однако на безрыбье сгодятся и раки, а хищные амфибии никогда не славились разборчивостью.
В подобной ситуации чуть больше шансов уцелеть предоставлялось насекомоядному же эотирису, считающемуся примитивным представителем синапсид и, как следствие, отдаленным родичем офиакодона. Правда, габариты эотириса немногим превосходили таковые у болозавра — ну, может, череп слегка массивнее — однако довольно крупные «клыки», выделяющиеся на верхней челюсти, говорили, что это животное охотилось в основном на крупных членистоногих, а значит, не больно-то стремилось окунуться в воду, предпочитая выслеживать скорпионов, жуков и сочных многоножек в лесной подстилке. По схожим причинам относительно везло еще одному темноспондилу — короткохвостому аспидозавру, большую часть времени проводившему на суше и занимавшемуся охотой на насекомых, моллюсков и прочую мелочь… но если уж и существовало в этом мире хоть одно существо, которое могло воспринимать эриопса не как угрозу, но больше как соперника или даже жертву, то это тот самый зверь, ради которого и стоило вообще мочить ноги, забираясь в этакое болото: крупный, зубастый, относительно резвый и агрессивный, он был доминирующим хищником своей эпохи, этаким тираннозавром раннего пермского периода… и, скажу откровенно, именно на четвероногого тираннозавра диметродон и походил больше всего.
Не верите?
А обратите-ка внимание во-он на тот берег реки.
Вы ничего не видите? Ну же, присмотритесь…
Ага. Да, это вовсе не уродливый нарост на занесенном откуда-то с верховий древесном стволе. И совсем не замшелый валун только что моргнул зеленоватым глазом, провожая взглядом исчезнувшего на глубине тримерорахиса. Солнце еще только встало, но его лучи уже пронизали высокий гребень из натянутой между отростками позвонков кожи, и густая сеть кровеносных сосудов запульсировала активнее, разгоняя по телу застоявшуюся за ночь кровь. К сожалению (а может — и к счастью), нам попался неполовозрелый экземпляр, «всего-то» около полутора метров в длину, и его гребень, вернее, «парус», как называют эту кожно-костяную конструкцию палеонтологи, еще не вполне сформировался, хотя уже начал покрываться цветным рисунком, характерным для взрослых животных. Пройдет несколько месяцев, и «парус» поднимется вверх еще на десяток-другой сантиметров, вместе с этим приобретя вызывающий контрастный узор, после чего диметродон с чувством выполненного долга покинет родные края и спустится вниз по течению реки, к богатой крупной дичью области у морского побережья, где обычно и держатся его взрослые соплеменники. Путешествие обещает быть непростым: вполне возможно, что оно завершится в пасти какого-нибудь плотоядного, не потерпевшего вторжения конкурента на свою охотничью территорию… однако до начала странствий остается еще немало времени — целая вечность по меркам молодого хищника, так что он и не думает беспокоиться, продолжая лениво принимать солнечную ванну.
Благодаря «парусу» времени на это занятие у диметродонов уходило сравнительно немного: если существо аналогичных размеров, но без «паруса», вынуждено было бы валяться на солнышке не меньше трех-четырех часов, чтобы повысить температуру тела хотя бы на несколько градусов, этому хищнику было довольно срока вполовину меньше, и многие другие обитатели поймы еще только начинали переходить к дневной активности, а «живой парусник» уже спустился со своего древесного насеста и, опустившись в воду, неторопливо поплыл на соседний берег, изгибаясь всем своим длинным буро-полосатым телом. Надо признать, пловец из него был не ахти какой — речку пересечь он еще мог, но задерживаться в воде явно не любил, торопясь выбраться обратно на сушу, где чувствовал себя куда более комфортно, так что, едва под брюхом вновь захлюпала размокшая глина, животное немедленно приподнялось на коротких лапах и углубилось в заросли молодых деревьев.
Едва ли это была ленивая утренняя прогулка, призванная лишь как следует разогнать по жилам кровь: судя по подведенному животу и явно несытому взгляду, в последний раз хищник ел довольно давно и успел зверски проголодаться, поэтому неосторожный родственник — похожий на массивную ящерицу варанопс, не успевший вовремя убраться с нагретого солнцем валуна — лишь раздразнил его аппетит, в мгновение ока пропав за двумя рядами пильчатых зубов. Увы, но время, когда единственной «ящерицы» могло хватить на целую трапезу, безвозвратно прошло, и теперь подросшее брюхо требовало крупной дичи, способной набить его до отказа, так что, едва проглотив варанопса, диметродон решительной поступью, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, двинулся к краю леса, где неделю назад им был обнаружен труп крупного эдафозавра — удивительно напоминающего самого диметродона травоядного, только вот длиной за три метра и весом под триста килограммов.
Неудачно оступившийся на песчаном обрыве и сломавший шею во время падения, этот колосс буквально чудом избежал знакомства с хищными амфибиями из ближайшей заводи — корявые древесные корни удержали его тело на песке, не дав коснуться тинистой поверхности воды, а сюда, на осыпающуюся почву, тяжеловесным земноводным было никак не вскарабкаться — что сделало эдафозавра, в глазах мелких рептилий и хищных синапсид, кандидатом номер один на звание самого вкусного подарка судьбы в этом сезоне. Даже молодой диметродон, существо совсем не микроскопических размеров, наелся в тот раз до отвала, и после его трапезы на костях оставалось еще немало съестного… но, видимо, не настолько много, чтобы кормить всех местных плотоядных в течение нескольких дней, поскольку, когда хищник все же добрался до знакомого места, то не увидел ничего кроме вытоптанной земли, нескольких клочков шкуры и пары слишком крупных костей, что не смогли уместиться ни в чьем объемистом желудке. Понюхав землю, дабы убедиться, что запах крови безвозвратно исчез, диметродон какое-то время простоял неподвижно, словно о чем-то раздумывая, после чего равнодушно отвернулся и зашагал обратно, к середине долины — на поиски новой дичи.
В отличие от своих дальних родственников, млекопитающих, диметродон на охоте не мог похвастать ни скоростью, ни стремительностью — для него добыча пропитания порой растягивалась на целый день, ибо холоднокровное животное, пусть и оснащенное терморегулятором, с легкостью может себе позволить и продолжительное выслеживание, и многочасовые засады в кустарнике… разумеется, в том случае, если приз оказывается соответствующим! Никто не намеревался рвать жилы ради какой-нибудь мелочи, так что еще одна наша старая знакомая, мокрая «колбаска» по имени арчерия, могла сколько угодно нырять под коряги — диметродон даже не покосился в ее сторону, когда спустился к одному из мест для водопоя, принюхиваясь к оставленным в грязи следам. Тонкие ноздри трепетали, вбирая оставшиеся крупицы запахов, но ничего обнадеживающего хищник не обнаружил — лишь несколько маловнятных отпечатков, наверняка сохранившихся здесь еще со времен последнего дождя — так что, побродив некоторое время по пляжу, «парусник» вновь направился в чащу, опустив морду к самой земле.
Он уже не первый год жил в этой пойме, и в его голове успела обрисоваться довольно четкая схема того, где и с какой вероятностью может попасться добыча, поэтому, лишившись возможности отобедать забесплатно, диметродон по широкой дуге отправился к местам кормежки и отдыха крупных травоядных, при этом стараясь не покидать укрывающие его плотные заросли папоротников, дабы не выдать себя «парусом». Большинство вегетарианцев того времени, начиная эдафозаврами и кончая, смешно сказать, неповоротливыми диадектами, спринтерами отнюдь не являлись и даже при нападении хищника едва ли могли развить мало-мальски приличную скорость, однако, как и все плотоядные, диметродон не любил тратить энергию попусту, гоняясь за потенциальной жертвой, поэтому предпочитал совершать внезапные нападения, позволяющие затратить минимум усилий с максимальной пользой.
…Солнце уже перевалило за полдень, но молодой хищник все так же неторопливо брел через заросли, и в желудке его, увы, по-прежнему царила удручающая пустота. В застывшем воздухе явно ощущалось дыхание приближающейся бури, так что все мало-мальски крупные животные, составлявшие львиную долю диметродоновой диеты, уже стянулись к безопасным местам у склонов долины, поэтому одинокому охотнику решительно некем было удовлетворить свои плотоядные наклонности. Отчаявшись, он даже сунул морду в неглубокое озерцо, где, помнится, в период особо жестокой засухи ловил в грязи крупных пресноводных акул — ксенакантов — однако, как оказалось, в этом году водоем не успел даже толком обмелеть, и единственная замеченная рыбина, почувствовав тревожные колебания, немедленно ушла на глубину, где ее не сразу поймал бы и эриопс! Разочарованному диметродону же осталось лишь негромко фыркнуть, после чего, подгоняемый усиливающимся ветром, он был вынужден свернуть свою неплодотворную экскурсию и вслед за исчезнувшей добычей потянуться выше по течению, намереваясь переждать непогоду в одной из многочисленных пещер, выточенных дождями на горных склонах.
Там ему предстояло проторчать несколько дней — тропические шторма не отличаются легковесностью, а поднятая ими вода могла еще долго подлизываться ко входу в подземное убежище, намекая, что в долине сейчас делать нечего. И все это время диметродону приходилось сидеть впроголодь, холодному и неподвижному, лишь время от времени поднимающему голову, чтобы окинуть открывающийся снаружи вид мутным взором и почти тут же вновь погрузиться в спасительную дремоту.
Впрочем, очень может быть, что после того, как наводнение немного схлынет, у него будет масса возможностей набить желудок — не одно неосторожное животное окажется выброшенным на берег или, наоборот, захлебнется в водовороте, так что непритязательному любителю мясного останется лишь пасть разевать, закусывая то оглушенной крупной рыбиной, то амфибией с переломанными костями, а то и незадачливым диадектом, которого чуть ли не насквозь проткнет обломок древесного ствола. То, что для одних становилось трагедией, другим обеспечивало безбедное существование, и в ближайшие пару месяцев на речных берегах будет не протолкнуться от хищников, так что даже взрослые диметродоны, обычно не жалующие соседей, вполне мирно уживутся на одной территории, не особенно порываясь отхватить у сородича половину хвоста!
Постепенно же вода уйдет, освободив побережье и завалив его берега питательным илом, который станет кормовой базой как для нового поколения растений, так и для многочисленной молоди рыб и амфибий, что выведутся в теплых водах, в свою очередь превращаясь в еду для более крупных животных. Этот цикл повторялся уже не один миллион лет, вечная игра воды с сушей, здесь, в этой обители теплых ветров на побережье древней Пангеи, где характерный для пермского периода холодный и сухой климат практически не чувствовался, а древняя флора отгремевшей эпохи гигантских лесов карбона делила среду обитания с новичками растительного царства, где рядом с гигантскими амфибиями и примитивными рептилиями уже вовсю расцветали будущие хозяева Земли — синапсиды.
А ведь им еще только предстояло стать еще быстрее, еще проворнее, получить настоящую теплокровность и обзавестись шерстью, появиться в горах и на равнинах, в пустынях и лесах… не говоря уже о том, чтобы дать начало тем невзрачным комочкам меха, от которых, в свое время, произойдут и слон, и мышка, из которых собьется табун лошадей и соберется дельфинья стайка, среди которых появятся существа с крыльями и плавниками, копытами и когтями, рогами и клыками…
…а еще — с длинными тонкими пальцами, что будут ловко сжимать мягкую кисточку, очищая от окаменевшей грязи великолепный парус, и внимательными глазами, от которых не укроется ни единая косточка из застывшего в земле черепа, крепко зажатого в красноватом песчанике и уже совсем не страшно скалящегося в небо новой эпохи своими, без малого, восемью десятками острейших зубов.
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Вальхии (Walchia, в честь Иоганна Эрнста Иммануила Вальха, немецкого естествоиспытателя) — род хвойных деревьев, родственных современным араукариям; одни из первых хвойных растений на Земле. Внешне напоминали современный кипарис, обладали короткими игловидными листьями и похожими на шишки репродуктивными органами, достигали 10 метров в высоту. Их окаменелые остатки обнаружены в США и Европе.
Тениоптерисы (Taeniopteris, «лентоперые») — формальный род вымерших растений, выделяемый по отпечаткам удлиненных лентовидных листьев. Предполагается, что в основном в эту сборную группу входят вымершие представители примитивных голосеменных.
Темноспондилы (Temnospondyli, «разрезанные позвонки») — отряд амфибий, одни из наиболее развитых лабиринтодонтов, предки современных хвостатых (саламандры) и бесхвостых (лягушки и жабы) амфибий. Водные, реже околоводные хищники. Некоторые представители в длину достигали восьми-девяти метров — например, прионозух. Ископаемые останки находят на всех континентах, семейство просуществовало с середины каменноугольного периода по первую половину мелового.
Тримерорахис (Trimerorhachis, «хребет из трех частей») — род водных темноспондилов, формой тела напоминающих саламандру, длиной в метр. Череп плоский, глазницы расположены в его передней части. Тело удлиненное, лапы слабые и короткие. Дыхание жаберное; тело тримерорахиса было покрыто мелкими тонкими костяными бляшками, возможно, служившими как для защиты, так и для балласта при нырянии. Питался различными беспозвоночными.
Эриопс (Eryops, «удлиненное лицо») — род хищных темноспондилов, длина тела — до двух метров. Череп массивный, формой напоминает череп аллигатора, челюстные зубы сравнительно небольшие и непрочные, однако хорошо развиты немногочисленные небные «клыки». Глазницы и ноздри смещены вверх, как у современных крокодилов. Пояса конечностей хорошо развиты, хвост относительно короткий и плохо приспособлен для плавания. На спине присутствуют единичные кожные чешуи. Скорее всего, вел полуводный образ жизни, питался в основном рыбой и мелкими наземными животными.
Болозавры (Bolosauridae, «комковатые ящерицы») — семейство примитивных рептилий, растительноядных или всеядных, с расширенными щечными зубами, предназначенными для перетирания грубой пищи. В длину достигали тридцати сантиметров. Отдельные виды были способны недолго бежать на задних лапах, как это делают некоторые современные ящерицы — например, василиски. Вымерли болозавры в конце пермского периода.
Эотирис (Eothyris, «раннее окно») — род примитивных пеликозавров, считается предковой формой казеид. Череп длиной около 6 сантиметров, общая длина тела — до 30 сантиметров. Обитал вдали от водоемов, поэтому в палеонтологической летописи представлен довольно скудно. Обладал хорошо выраженными «клыками», питался, вероятно, крупными беспозвоночными и мелкими позвоночными.
Аспидозавр (Aspidosaurus, «щитковый ящер») — род мелких темноспондилов, зубы тонкие и конические, примерно одинаковой формы, что предполагает питание мягкими беспозвоночными. Общая длина животного — около 30 сантиметров. Вдоль спины проходит единственный ряд костных пластин, крепившихся к остистым отросткам позвонков, возможно, служивший как для защиты, так и для удержания влаги в организме.
Диметродон (Dimetrodon, «двуразмерный зуб») — род хищных пеликозавров, достигавших в длину четырех с половиной метров. Наиболее характерными чертами являются крупный череп с дифференцированными (разделенными на резцы и клыки) зубами и высокий «парус» на спине, служивший как для терморегуляции, так и для внутривидовой демонстрации (предположительно, использовавшейся во время брачных ритуалов). Первый из сухопутных хищников, способный убить добычу крупнее себя самого. Был доминирующим наземным плотоядным раннего пермского периода; останки найдены в Северной Америке и Европе. Населял околоводные пространства, богатые пищей. Вымер к середине перми.
Эдафозавры (Edaphosauridae, «тротуарные ящеры») — семейство растительноядных пеликозавров, для представителей которого был характерен «парус» на спине, схожий с «парусом» диметродона. Тем не менее, на отростках позвонков, поддерживающих «парус» эдафозавра, имелись поперечные выросты, что увеличивало площадь «солнечной батареи» и ее эффективность; также возможно, что у основания паруса эдафозавра откладывались запасы жира. В длину достигали трех с половиной метров, весили около трехсот килограммов. По-видимому, везде сожительствовали с диметродонами — останки эдафозавров найдены в США и Европе (Чехия и Германия). Вымерли в конце ранней перми из-за ухудшения климатических условий и возросшей конкуренции с казеидами.
Варанопсеиды (Varanopseidae, «похожие на варанопса») — семейство пеликозавров. Размеры колебались от 30 сантиметров до полутора-двух метров, внешне и образом жизни напоминали крупных ящериц современности. Хищные и насекомоядные животные. Возникли в позднем карбоне, вымерли к середине пермского периода. Были последними из пеликозавров.
Варанопс (Varanops, «лицо варана») — род варанопсеид, достигал в длину 1,2 метров. Внешне очень похож на современных варанов, вероятно, вел схожий образ жизни, охотясь на мелких позвоночных и крупных насекомых, а также разоряя гнезда других животных. Известен только из ранней перми США.
Ксенаканты (Xenacanthus, «чужой шип») — род примитивных акул, появившихся в девонском периоде, около 350 миллионов лет назад, и вымерших в конце триаса, около 200 миллионов лет назад. Пресноводные рыбы, длиной до трех метров, питавшиеся в основном мелкими ракообразными. Примечательны наличием длинного шипа на затылке, благодаря которому и получили свое название (изначально предполагалось, что шип не принадлежит акуле и оказался рядом с ее скелетом случайно). Внешне ксенаканты напоминали современных угрей.
Вопреки всему

280 миллионов лет назад
Восточное побережье Пангеи
Территория современной Германии, земля Тюрингия
Ссохшаяся корка грязи наконец-то поддалась, и могучее животное приподнялось на передних лапах, будто собираясь во все горло объявить о своем триумфе… вот только, увы — это была лишь иллюзия, и через мгновение окончательно обессилевшая молодая самка тамбакарнифекса неуклюже плюхнулась наземь, с заметным трудом раздувая едва не насквозь проколотые переломанными ребрами бока.
Больно…
Болью был вдох и выдох. Болью отзывался каждый удар сердца. Болью было само ее существование — но все же легкие работали, и сердце билось, и зачем-то продолжалась жизнь. Наступающие сумерки, казалось, уже были готовы отметить ее тихую кончину — слишком много было красного и тоскливо-лилового в обычно бесцветном, как старая ветошь, небе, слишком мало корявых деревьев возвышалось над и без того пустынной равниной, слишком тяжело было видеть испещрившие землю бездвижные тела, принесенные сюда жестоким наводнением. Как и обычно, паводок наступил внезапно, всего за несколько часов покрыв землю толстым слоем воды и грязи, так что у животных, почти пять месяцев изнывавших без дождей, просто не было возможности хоть что-то предпринять — и их смыло, как сухую листву, крутя и швыряя из стороны в сторону.
Самке тамбакарнифекса еще повезло — она переждала первые, самые суровые часы наводнения, сидя верхом на скалистой гряде, где обычно принимала солнечные ванны и спасалась от агрессивных сородичей, нередко пытавшихся заняться каннибализмом. Тяжеловесные взрослые самцы, отдаленно смахивающие на перекормленных варанов, не рисковали забираться на осыпающиеся склоны, так что здесь самка чувствовала себя в полной безопасности… но кто же знал, что ей будет суждено проснуться, когда первый холодный язык подступающей воды лизнет ее по хвосту? Более того, даже обнаружив, что ее убежище вот-вот затопит, самка ничего не могла предпринять — поблизости не было никакой возвышенности, чтобы на нее перебраться, а в абсолютной черноте затянутого тучами неба нельзя было разглядеть даже крошечного просвета — так что, испуганная и сбитая с толку, она просто топталась на месте, пока вода не коснулась ее лап, брюха… и не понесла за собой, дабы через несколько часов выбросить на пологий глинистый склон в добрых двадцати километрах от прежнего дома.
И пусть тамбакарнифекс была избита и изувечена — она все-таки выжила.
Она все-таки собиралась жить!
Пусть даже это было совсем не так просто, как казалось…
— Тс-с-с! — невольно вырвалось сквозь узкие челюсти, когда очередная попытка встать на ноги заставила животное неуклюже шлепнуться на покалеченный бок, и без того постоянно напоминавший о себе пульсирующей болью. Очевидно, встреча с трупом мертвого оробатеса не прошла для тамбакарнифекса незамеченной: пусть этот ближайший родич диадектов и смотрелся карликом на фоне своих сородичей, живущих у морского побережья, в самой молодой самке длины было ненамного больше. Этакий местный юмор, если пожелаете: крупнейшее растительноядное животное экосистемы было размером с поросенка, а самый ужасный хищник не без труда, но все же уместился бы на руках взрослого мужчины! И это учитывая тот факт, что у взрослого оробатеса практически не было естественных врагов — за исключением взрослого же тамбакарнифекса, при желании способного расправиться с животным намного крупнее себя самого… если, конечно, такое вообще нашлось бы на его охотничьей территории.
Причина же для столь явно выраженной «скромности» была проста как день: недостаток пищи. В те далекие времена растения-первопроходцы еще только начали осваивать сухие пустоши за пределами приморских низменностей, и успехи их на этом поприще были все еще, мягко говоря, не особо заметны. Полностью наземным растительным сообществам, не нуждающимся в переизбытке влаги в почве, лишь предстояло полностью сформироваться, и животным-вегетарианцам приходилось с этим считаться, тем самым автоматически накладывая табу на гигантизм своих плотоядных потребителей. Шеститонному тираннозавру нечего делать в мире, где для него не найдется подходящего эдмонтозавра, и тамбкарнифексы охотно демонстрировали эту нехитрую истину в действии: при длине от кончика носа до кончика хвоста в полтора метра, весил этот хищник не больше собаки, однако, вцепившись своими кривыми зубами в бок оробатеса, валил неуклюжее травоядное наземь, а одним ударом когтистой лапы мог вырвать у жертвы приличный кусок кожи. Единственное, в чем тамбакарнифекс не был силен — быстрый бег за добычей, ибо выдыхался он уже через пару десятков метров неуклюжей рысцы, после чего ему еще требовалось почти полчаса на восстановление сил… однако большая часть добываемых им животных бегала еще хуже, и обычно, чтобы разжиться обильным завтраком, достаточно было лишь подобраться вплотную и совершить один-единственный резкий рывок.
Обычно, да. Но не всегда, потому что и в царстве тихоходов обязательно должен был обнаружиться свой Иванушка-дурачок, заимевший семимильные сапоги. А, в частности, здесь «дурачку» вздумалось облачиться в тонкую чешую и, неловко переставляя длинные задние лапы, показаться из-за переломанного кустарника — в форме изящной рептилии, что размером была не больше воробушка. Ее коричнево-пестрая шкурка почти полностью терялась на фоне размытой земли, и только выкрашенное теплым рыжим цветом горлышко могло свидетельствовать, что «ящерка» пока еще не растворилась в воздухе, но всего лишь внимательно исследует приглянувшуюся ей трещину в камнях, разыскивая забившийся туда живой мусор — мелких рачков, раздавленных тараканов, стрекоз с переломанными крыльями и другие вкусности, заботливо приготовленные разлившейся рекой. Треугольная мордочка работала не хуже пинцета, а острые зубы-иголочки без труда справлялись с жесткими панцирями и добирались до мягких внутренностей, так что рептилия казалась довольной и абсолютно увлеченной своим занятием… пока внезапно самке тамбакарнифекса, изнывающей от вынужденной неподвижности, не вздумалось пошевелиться.
Фш-ш-ш! — брызнули во все стороны вода и грязь, после чего «ящерка», прижав передние лапки к груди, сумасшедшей рысью припустила наутек, да так шустро, что и человеку было бы непросто за ней угнаться! Плетевидный хвостик дрожал струной, длиннопалые ступни порождали в воздухе крошечные радуги, и раздраженный тамбакарнифекс даже чихнуть не успел, как юный эудибам — близкий родич болозавра, только еще меньше размером — пулей взвился на вершину скалистой гряды и исчез из виду. Привыкший вечно убегать, он даже не стал разбираться, что его напугало — как жаворонок взвивается на крыло, если поблизости загремят расписные фазаньи крылья, так и эудибам ловко перемахнул через проконопаченные грязью булыжники… и едва-едва не натолкнулся на чью-то влажно дышащую голодом зубастую пасть! — однако в последний момент успел вильнуть в сторону, слегка мазнув хвостом по подбородку старого диметродона, слишком поглощенного наблюдением за раненым тамбакарнифексом, чтобы обращать внимание на всякую мелочь, снующую под ногами.
Ведь впереди, буквально перед самым его носом, в грязи валялась куда более солидная груда еще живого мяса! Сочного, теплого, кровавого…
…М-м-м.
Оставалась лишь самая малость: придумать, как до него добраться.
И старый хищник переступил с лапы на лапу, точно хорошо воспитанный пес на привязи, к которому невнимательные хозяева не догадались подтолкнуть миску с едой.
Собственно, стороннему наблюдателю его положение показалось бы, по меньшей мере, странным, и знакомые с диметродонами, обитающими на противоположном конце света, изрядно бы удивились: как так? Ведь взрослый тамбакарнифекс был вынужден охотиться разве что на оробатесов, тогда как матерый диметродон вполне мог справиться и с трехсоткилограммовым эдафозавром, в несколько раз превосходившим его по весу!.. Мог, конечно. Бывало и такое. Вот только тут еще следовало учитывать, что водившиеся в этих краях эдафозавры мало напоминали своих гигантских родичей, да и сами диметродоны, даже очень крупные, едва могли поспорить габаритами с обычной зеленой игуаной. Правда, из-за высокого «паруса» — действительно высокого и довольно яркого, призванного позволять этим животным без труда находить друг друга на бескрайней равнине — диметродон не выглядел карликом, и нередко именно вызывающая окраска его «солнечной батареи» позволяла ему противостоять другим хищникам… но, увы, против зубов и когтей натянутая на отростки позвонков перепонка служила плохой защитой.
Возможно, это и стало одной из причин того, почему в данной экосистеме произошел «сбой», и хищник, что в других условиях мог стать доминирующим, уступил обладающим менее совершенными челюстями и пониженным уровнем обмена веществ тамбакарнифексам. Более активным диметродонам, привыкшим к обилию крупной добычи, просто некем было удовлетворить свои хищнические аппетиты, а поскольку «сбавить обороты» и перейти к менее энергозатратному образу жизни они не могли, выход оставался только один: уменьшиться в размерах. Таким образом они сумели выжить в этой сухой саванне, пусть и потеряв лидерство среди плотоядных — германские диметродоны заняли позицию «шакалов», охотников на сравнительно мелких и подвижных животных, до которых редко дотягивались когти неповоротливых тамбакарнифексов. Пробуждаясь от ночного оцепенения еще на рассвете, эти «парусные» хищники вовсю пользовались своим преимуществом во времени, так что обычно с тамбакарнифексами они и не сталкивались — когда «вараны» только-только приступали к дневной охоте, сытые диметродоны уже укладывались на отдых — однако, как говорится, под луной не бывает ничего постоянного. И старый диметродон, чьи суставы ныли еще с прошлого полудня, предупреждая о грядущей непогоде, отнюдь не располагал всем богатством выбора, предоставляемым его молодым сородичам, так что, учуяв поблизости своего смертельного (и, возможно, смертельно раненого) врага, он не припустил наутек, а отправился поглядеть, что же тут происходит.
Увиденное его не особо вдохновило — пусть молодая самка и была покалечена, издыхать она пока что не собиралась — вот только уходить и бросать даже призрачный шанс хорошо отобедать было весьма неприятно, поэтому пока что «парусник» ждал.
Ведь, кто знает, что принесет тебе следующий час твоей жизни?..
Может, милосердную гибель? Или внезапную удачу? Или — крек?
Кр-рек. Кру-ук.
Хр-рм-хр-рм…
…и, разбуженная странными звуками (а более того — соблазнительным запахом разрываемой плоти), самка тамбакарнифекса вынырнула из состояния болезненной полудремы. Солнце недавно скрылось за горизонтом, но ночная прохлада еще не успела высосать из тела животного накопившееся тепло, так что она не без труда, однако все же перевернулась на брюхо, почти сразу же разглядев источник подозрительного шума — старого диметродона, давящегося чьей-то крупной тушкой. Видимо, старик выкопал добычу из-под наваленного сверху мусора, пока «стерег» дремлющего тамбкарнифекса, и теперь изо всех сил старался оторвать более-менее приличный кусок мяса… но, увы, не преуспел — его ноющие челюсти не смогли даже толком разорвать ссохшуюся шкуру, а чуть погодя сзади раздалось громкое шипение, и самка тамбкарнифекса все же умудрилась проволочь свое тело на полные два метра вперед, подтаскивая за собой искалеченный хвост и вывернутую под углом заднюю лапу. Диметродон в глупости своей еще попытался что-то квакнуть, будто надеясь отогнать противника, однако самка не стала размениваться на любезности, и «шакал» был отброшен в сторону единственным боковым ударом головы на мощной шее. Он не особо пострадал, однако удар вернул ему трезвость мышления, и меньший хищник поспешно отодвинулся в сторону, пока, широко раскрыв челюсти, тамбкарнифекс рвал на части труп сеймурии — дальнего родича оробатеса, только вдвое меньше размером.
Как и диадекты, эта странная лягушка-ящерица не была похожа ни на рептилий, ни на амфибий, но представляла из себя нечто среднее: она откладывала икру в воде, а вылупившиеся головастики обладали наружными жабрами, как самые примитивные амфибии, но при этом взрослые сеймурии вели исключительно сухопутный образ жизни. Обладая довольно совершенным, по меркам своих земноводных родичей, скелетом, они были неторопливыми, но крайне опасными хищниками, представляющими сущее бедствие для своих дальних родственников — мелких амфибий и примитивных рептилий. Похожая на большеголовую саламандру георгенталия или массивный тюринготирис, охотник на древних тараканов — все они значились в меню вечно голодной сеймурии, так что, будь эта зубастая бестия жива, молодая самка тамбакарнифекса, не говоря уж о дряхлом диметродоне, не рискнули бы на нее даже оскалиться!.. — однако прошлой ночью улыбок судьбы хватило не на всех, и наводнение, едва не утопившее одного и покалечившее другую, третьей переломило шею и бросило гнить под внушительным слоем песка и грязи. Если бы не диметродон, возившийся неподалеку, тело бы так и осталось в своей подземной камере, а в конце концов, возможно, донесло бы весть о своей гибели человечеству… но, увы, нашим зверообразным предкам было чихать на какие-то там окаменелости. Их интересовал лишь сегодняшний день, поэтому ножеобразные, загнутые подобно змеиным зубы тамбкарнифекса безжалостно вспороли шкуру сеймурии, добравшись до утробы, и вертевшийся поодаль диметродон смог лишь издать невнятный вздох, когда дивный запах окровавленных потрохов разлился в вечернем воздухе.
Обычно местные хищники кормились на рассвете или в первой половине дня, чтобы иметь в запасе несколько часов для лежания в теплом тенечке и неторопливого переваривания пищи. Вечером было «принято» лишь подъедать остатки прошлой трапезы, доводя желудок до состояния приятной раздутости — но вот голодной и изувеченной самке сейчас явно было не до хороших манер. На рассвете ее добычу вполне мог отнять другой, более крупный тамбакарнифекс, да и сама она нуждалась в пище прямо здесь и сейчас, а не в каком-то загадочном «завтра», так что она рвала и ела, ела и рвала, лишь время от времени брезгливо встряхивая головой, когда на зуб попадались кишки сеймурии, набитые забродившим содержимым. Ночь все сгущалась, расцвечивая тьму мириадами сияющих звезд, и по мере наступления прохлады движения тамбакарнифекса замедлялись — однако к тому времени, как она решилась отползти от туши и занять место для отдыха в тени скальной гряды, старому диметродону осталось лишь дообгладывать позвоночник, сдирая те немногие куски мяса, до которых не смогли достать зубы более крупного хищника. Если тамбакарнифекс мог лишь резать и отрывать, диметродону вполне по силам было разгрызать некоторые не слишком крупные кости, так что ему удалось кое-как набить живот, после чего от несчастной сеймурии остались лишь клочья шкуры да массивный череп, валяющийся на забрызганной кровью почве.
Еще один эудибам, неторопливой рысцой направляющийся к своему убежищу, промелькнул мимо, подхватив роющуюся в ошметках мяса одинокую многоножку, после чего, не сбавляя скорости, принялся подниматься на вершину осыпи, торопясь как можно быстрее достичь уютной и безопасной расщелины среди камней. Что касается старого диметродона, то его собственное логово — просто засыпанная мусором ямка на опушке небольшого хвойного леса — беспощадно уничтожила вода, и сейчас, устраиваясь на ночь, он мог рассчитывать разве что на кажущуюся безопасность между двумя большими камнями, кое-как скрывавшими его яркий «парус». В отличие от беззаботной рептилии, готовой прижиться хоть на голой земле, диметродон относился к выбору логова более придирчиво, и этот старик еще долго, долго не сможет найти подходящее место, чтобы назвать его «своим», так что, волей или неволей, придется ему какое-то время держаться рядом с тамбакарнифексом, как рассчитывая на то, что более крупный хищник отпугнет от его персоны возможных противников, так и лелея скромную мечту рано или поздно отведать-таки «запретного плода» — мяса из туши своего самого безжалостного врага.
День за днем, день за днем… Он терпелив, этот диметродон — вот только самка тамбакарнифекса еще терпеливее, и пока эта ходячая древность будет околачиваться поблизости, она ни на мгновение не даст себе расслабиться, лечь и умереть от полученных ран. Пока он рядом, пока ее ноздри обоняют его запах — что ж, из ее короткой памяти еще не окончательно стерлись воспоминания о собственном детстве, когда совсем еще молоденькую «ящерку» такие же свирепые плотоядные с «парусом» на спине загоняли на корявые ветки деревьев. И сидела она, свесив хвостик, на высоте добрых двух с половиной метров, и смотрела, как щелкают могучие челюсти, а недовольный промашкой хищник вертится внизу, будто надеясь, что дерево внезапно упадет и откроет ему путь к облюбованной жертве. О, она помнила их — эти жутковатые морды, эту ярко раскрашенную кожу, этот запах, забивающийся в ноздри! — запах, который не смогла забыть и через несколько лет, запах, заставивший ее, как последнюю падальщицу, разорить найденное на берегу реки гнездо и, фыркая от все той же кислой вони, сожрать всю кладку мягких кожистых яиц, из которых уже никогда не выведутся детеныши.
Впрочем, не стоит обманываться: она не питала к диметродонам ненависти — это была естественная реакция на потомство конкурирующего хищника… при этом не обязательно чужой породы, и если бы она нашла кладку соплеменницы, вполне могла поступить с ней так же, причем без малейших раздумий! Как и все животные на Земле тех времен, самка тамбакарнифекса была редкостной эгоисткой — она выживала, она спасалась от смертельной опасности, она раз за разом открывала глаза, приветствуя каждый новый день, и все ради того, чтобы просто жить дальше, втягивая ноздрями кислород и наполняя желудок пищей. Похожая на живого робота, она не знала ни привязанности, ни заботы, потому что родилась одинокой и однажды, через много лет, умрет в таком же нескончаемом одиночестве. Она не рассчитывала на помощь, потому что никогда и никому ее не оказывала; она задыхалась от боли и с трудом подволакивала следом свою пораженную гниением плоть, но всегда продолжала стремиться дальше, со все той же пугающей настойчивостью напрягая поврежденные мышцы, чтобы протащить свое тело хотя бы на несколько метров вперед.
Раз за разом, шаг за шагом. Так и выстраивалась вся ее жизнь. От мокрой изнанки осточертевшего яйца, которое она пробила своей узкой мордочкой — и до какой-нибудь неглубокой впадины, куда однажды, влекомая зовом старости, она отправится, чтобы сделать свой последний вздох. Избегая всех подводных камней — желудков прожорливых сеймурий и головастых земноводных тамбахий, зубов свирепых диметродонов и собственных сородичей, через разъяренные волны наводнения и испепеляющий мор очередной засухи — вперед и вперед, как бы ни было больно. Просто затем, чтобы снова моргнуть, сгоняя с золотистых омутов глаз забившиеся туда пылинки, чтобы оттолкнуться когтистыми лапами и сделать еще один — хотя бы еще один! — заплетающийся шаг.
Раз за разом. Раз за разом.
Чтобы легкие работали, чтобы сердце билось.
Чтобы, вопреки всему, продолжалась жизнь.
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Тамбакарнифекс (Tambacarnifex, «палач из формации Тамбах») — род варанопсеид, первый из обнаруженных на территории Европы. Длина тела до полутора метров, крупнейший хищник в своей экосистеме. Внешне напоминал массивного варана, однако был не так подвижен, как современные ящерицы.
Оробатес (Orobates, «ходящий по горам») — род примитивных диадектов. Длина тела до 1,2 — 1,5 метра. Отличался сравнительно длинным туловищем, однако голова и конечности животного относительно короче, чем у других диадектид. Хвост довольно тонкий. Считается одним из первых по-настоящему сухопутных растительноядных животных.
Эудибам (Eudibamus, «истинно двуногий») — род болозавров. Длина черепа около полутора сантиметров, длина тела до 25 сантиметров. Строение легкое, хвост очень длинный и тонкий. В связи с необычно длинными задними лапами считается первым позвоночным на Земле, освоившим бег на двух лапах. Тем не менее, существует и альтернативная точка зрения, приписывающая эудибаму не бег, а способность передвигаться прыжками, как это делают современные тушканчики.
Сеймурия (Seymouria, в честь города Сеймур, штат Техас, США) — род рептилиоморфов. Длина до 90 сантиметров, вес — 2,5—3 килограмма. Обладали довольно сильными конечностями, а строение их позвоночника сближает сеймурий с рептилиями, хотя строение черепа типично для примитивных земноводных. Вероятно, эти животные обитали в сухом климате, были способны долгое время обходиться без воды и выводить излишки соли из организма через околоносовые железы, как это происходит у некоторых современных рептилий и амфибий. Не были способны к быстрому перемещению и, скорее всего, занимали экологическую нишу жаб, питаясь преимущественно крупными беспозвоночными и мелкими позвоночными животными. У самцов сеймурий значительно утолщены черепные кости — вероятно, во время брачных турниров они наносили друг другу удары головой, сражаясь за самку. После спаривания самки возвращались в воду и откладывали икру. Личинки сеймурий обладали наружными жабрами, однако по мере взросления покидали водоемы и начинали жизнь на суше.
Георгенталия (Georgenthalia, в честь коммуны Георгенталь, земля Тюрингия) — род примитивных темноспондилов, дальний родич аспидозавра. Длина черепа около 2 сантиметров, общая длина животного — около 10 сантиметров. Напоминала небольшую саламандру, питалась мелкими беспозвоночными. Вероятно, вела преимущественно сухопутный образ жизни, была активна в основном по ночам.
Тюринготирис (Thuringothyris, «окно из Тюрингии») — род примитивных рептилий. Длина черепа — около 2,5 сантиметров, длина тела — около 10—12 сантиметров. Отличается низким черепом с широкими скулами и относительно крупными зубами. Скорее всего, животное было всеядным, питалось как крупными беспозвоночными, так и гниющим растительным мусором. Лапы довольно длинные, массивные, но, в связи со слабыми поясами конечностей, тюринготирис был вынужден вести малоподвижный образ жизни.
Тамбахия (Tambachia, в честь формации Тамбах) — род примитивных темноспондилов, дальняя родственница георгенталии; первый вид своего семейства, обнаруженный за пределами США. Длина черепа около 7 сантиметров, общая длина животного — около 30 сантиметров. Голова относительно крупная, конечности и хвост довольно короткие. Вероятно, в отличие от многих других амфибий, обнаруженных в этой формации, тамбахия была более связана с водой, и, таким образом, во время сезонных засух была вынуждена впадать в спячку, закапываясь во влажный ил. Питалась крупными беспозвоночными и мелкими хпозвоночными.
Пленница реки

271 миллион лет назад
Западное побережье Пангеи
Территория современных Соединенных Штатов Америки, штат Оклахома
Течение влекло ее за собой, точно голодный хищник — облюбованную жертву, и молодая самка ватонгии уже не могла толком сопротивляться его необоримой силе. Холодная вода, точно проголодавшаяся паучиха, жадно высасывала из ее тела последние крохи тепла, а тусклый глаз солнца, казалось, с едва различимой насмешкой наблюдал за несчастным животным, которому едва хватало сил, чтобы время от времени показывать голову на поверхности и делать натужный, захлебывающийся вдох.
Ватонгия провела в борьбе со стихией несколько часов, поэтому ее силы были на исходе, и вот-вот потолок из мутного коричневато-зеленого стекла должен был окончательно сомкнуться перед ее глазами, заставив обмякшую самку, теряя редкие пузырьки воздуха, навеки исчезнуть в бездонной утробе реки. Едва ли ее посещали мысли о близящейся кончине — животным чужды столь пессимистичные раздумья, а эта ватонгия была еще слишком молода, чтобы хотя бы мельком ощутить неумолимое приближение старости, так что, повинуясь инстинктам, она просто продолжала бить лапами и хвостом, раз за разом прорываясь к поверхности. Без чувств и эмоций, как заведенная игрушка — при этом совершенно не замечая, что задержки между всплытиями становятся все продолжительнее, что одеревеневшие конечности работают вразнобой и не слишком-то помогают цепенеющему телу, а от недостатка кислорода и без того мрачный подводный мир становится все темнее и темнее…
До тех самых пор, пока крепкая затрещина не привела пловчиху поневоле в чувство.
Вернее, сначала ткнувшаяся сзади деревяшка едва ватонгию не утопила, и перепуганная самка отчаянно шарахнулась куда подальше… однако чуть погодя, на ее же счастье, она сообразила, что вот он, путь к спасению! — после чего с удивительной для ее состояния подвижностью бросилась за мокрым «плотиком», намереваясь его оседлать. Правда, сделать это оказалось не так-то просто — мало того, что скользкое бревно то и дело норовило прошмыгнуть мимо, так еще и слабоизогнутые когти, больше подходящие для копания, постоянно соскальзывали с разбухшей коры, так что в конце концов ватонгию спасла ее неуклюжесть — в какой-то момент, рванувшись вперед, животное навалилось на бревно, однако инерция рывка была столь высока, что деревяшка перевернулась, и самка вперед носом шлепнулась в воду. Если бы в тот момент, испугавшись, она отпустила бревно, едва ли ей вообще удалось бы на него вскарабкаться — однако мозг попросту не успел отреагировать на смену положения так быстро, и, вцепившись в древесину мертвой хваткой, ватонгия описала почти полный оборот, после чего снова оказалась на поверхности — малость скособочено, едва не касаясь задними лапами воды, однако поправить положение было уже не так трудно, после чего, вжавшись в свой ненадежный «ковчег» покрытым твердыми щитками брюхом, самка замерла на месте.
Ей было холодно. Очень, очень холодно. Долгая борьба изрядно вымотала не привыкшее к таким нагрузкам тело, на призрачный солнечный свет надежды было мало, а поскольку любое неосторожное движение вполне могло спровадить ее обратно в реку, ватонгия поступила единственным доступным ей образом: осталась совершенно неподвижна, положившись на то, что рано или поздно течение вынесет ее ближе к берегу. Не самая вероятная перспектива, учитывая, насколько разрослось этой весной речное русло, но все же такое поведение обещало больше шансов на спасение, чем очередная попытка доплыть до сухой земли самостоятельно, так что, устроившись поудобнее, ватонгия смежила веки и быстро погрузилась в зыбкую дремоту, обещавшую забытье после кошмаров прошедшей ночи…
Тр-р-р. Тр-р-р.
…из которой ее вывел характерный стрекот перепончатых крыльев, заставивший, приоткрыв один глаз, скосить взгляд на изящных черных вислокрылок, отдыхающих всего в двадцати сантиметрах от зубастой пасти. Видимо, плавучий кусок дерева показался этим небесным бродягам, выгнанным паводком из прибрежных зарослей, вполне безопасным местом для отдыха, и даже соседство с полутораметровой ватонгией их не особенно беспокоило!
Вот только, как оказалось, надежда на тишину и покой оказалась ложной, ибо для голодного нанноспондила лишь на самую малость приподнимающаяся над водой деревяшка (все-таки самка ватонгии весила вполне прилично) не была серьезным препятствием. Короткий всплеск — и беспечные насекомые мгновенно превратились в настоящий вихрь сверкающих панцирей и прозрачных крыльев, когда тоненькая, смахивающая на саламандру амфибия спущенной стрелой выскочила на поверхность и, схватив одну вислокрылку себе на завтрак, тут же утащила ее под воду.
Раз, два, три — все действо заняло не больше секунды, и потревоженные товарки убитого насекомого еще кружили над бревном, будто не понимая, что за страшная сила внесла переполох в их сонное стойбище, а сам нанноспондил, раскинув лапки, уже судорожно пытался проглотить довольно-таки крупную добычу. Здесь, на фоне светлой поверхности воды, он был уязвим, а потому инстинкты приказывали: «Быстрее! Быстрее!» — и земноводный хищник старался изо всех сил… но, как оказалось, недостаточно быстро, поскольку враг уже успел его заметить. Холодные черные глазки без труда определили положение головы молоденькой амфибии, после чего мощный хвост привел в движение семидесятисантиметровое тело пресноводной акулы, готовой питаться не одной лишь рыбешкой да мелкими ракообразными! Не стоило попадаться на глаза этим похожим на угрей существам и представителям четвероногой фауны, так что нанноспондил только-только почувствовал тревожное движение волн, разгоняемых приближающимся хищником, как мелкие, всего в полсантиметра, но удивительно острые зубы уже схватили его за основание шеи и, слегка приподнявшись над водой, акула неуклюже шлепнулась обратно, мгновенно утащив пойманную амфибию на глубину.
Четыре, пять, шесть — и только пара пузырей да легкое облачко крови засвидетельствовали, что только что здесь развернулся очередной акт бесконечного спектакля на арене жизни, а самка ватонгии, чью голую, только-только высохшую кожу в очередной раз облили водой, недовольно переложила массивную нижнюю челюсть на другое место, впитывая тепло наконец-то выглянувшего из-за туч солнца.
Течение реки изрядно замедлилось по сравнению с буйством в верховьях, и небольшой плотик неторопливо влекло все дальше и дальше, время от времени разворачивая вокруг собственной оси. Местность по берегам тоже изменилась — вместо высившегося на крутых откосах редколесья, состоящего в основном из засухоустойчивых хвойных деревьев, пологие глинистые склоны покрыли влаголюбивые хвощи и папоротники, а дно реки густо заросло водорослями, едва проглядывающими сквозь мутную воду. Между гладких темно-зеленых стебельков шныряла крохотная рыбешка, а чуть поодаль, грациозно покачиваясь вверх-вниз, неторопливо продефилировало удивительное создание — диплокаулюс. Если смотреть только на туловище, это существо ничем особенным не отличалось от того же нанноспондила — вытянутое тело, небольшие лапки с перепонками, довольно длинный хвост — но вот голова казалась совершенно невероятной. Создавалось впечатление, что очень глупое (и прожорливое) животное исхитрилось проглотить бумеранг, и теперь летающая деревяшка расперла череп изнутри, превратив в на редкость нелепо выглядящую конструкцию, объединенную с прочим туловищем полупрозрачными складками кожи. На деле же такая голова оказывалась удивительно эффективной: мало того, что помогала плавать, позволяя диплокаулюсу скользить как на подводных крыльях, так еще и служила «пугалом» для других плотоядных, ведь далеко не каждый хищник рискнул бы атаковать настолько большеголового противника! С другой стороны, на мелководье, не говоря уж про сушу, диплокаулюс чувствовал себя совсем не в своей тарелке, и молодая ватонгия, хоть ей и доводилось прежде охотиться на речных амфибий, впервые видела это животное так близко. Не разделяй их полметра водной толщи — и, пожалуй, она бы даже познакомилась с ним еще ближе… а так хищница лишь коротко фыркнула, прогоняя севшую ей на нос вислокрылку.
Куда больше всякой водной живности ее интересовала линия берега — формально та отодвинулась на солидное расстояние, но высовывающиеся из мутных волн верхушки хвощей сообщали, что здесь не очень глубоко, и даже посредственный пловец может рискнуть добраться до суши. Ватонгия посредственным пловцом не была — взрослые особи этого вида вообще были способны двигаться более-менее быстро исключительно в воде, так как их непропорционально огромные головы не позволяли обладателям ни бегать, ни прыгать, а лишь тяжело ходить, когда крепкое в общем-то туловище превращалось в необходимый, но малозаметный довесок к массивному черепу. Аналогия с живущими южнее гигантскими амфибиями вроде эриопса прослеживалась без труда, но, тем не менее, ватонгия демонстрировала и ряд отличий: если у земноводных головастики жили в воде, то у синапсид все же не обходилось без откладывания яиц на суше, так что каждый сезон размножения самки ватонгий, пожелавшие продолжить свой род, предпринимали долгое и подчас утомительное путешествие к истокам реки, где и хищников было не так много, и угрозы затопления гнезда удавалось избежать чаще. Вылупляющиеся малыши, как это водится и у рептилий, были совершенно самостоятельны, зубасты и вели иной образ жизни, нежели взрослые: если достигшие положенных двух с половиной метров длины родители держались ближе к устью реки, на болотистых низменностях, молодняк предпочитал леса и в воду до времени не особенно совался. Плавали-то они отлично, не хуже крокодильчиков, но не в быстром течении, способном в два счета унести чрезмерно храбрую козявку за собой. К тому же, сложение у молодых ватонгий было куда легче, чем у взрослых, и голова более соответствовала размерам туловища, так что и обликом, и повадками они удивительно напоминали наших гигантских ящериц — варанов. Хвост разве что не такой длинный, да шкура без чешуи — вот и вся разница.
Приобретать же взрослые черты молодняк начинал только, страшно представить, на четвертый год жизни, и еще примерно столько же проходило до наступления половой зрелости — вполне достаточное время, чтобы осознать: для такой головы крупные насекомые, мелкие рептилии да сухопутные амфибии — уже не пища, так что постепенно подросшие животные «выдавливались» из родных краев новыми поколениями ватонгий, начиная то самое путешествие, что однажды увело из этих мест освободившихся от тяжкого бремени матерей. Дело чаще всего затягивалось, ибо никакие инстинкты юных синапсид не гнали, все происходило вполне обыденно: если пищи хватало, животное и не думало сниматься с насиженного места, если же желудок начинал регулярно оставаться пустым — что ж, приходилось двигаться вниз по течению, на поиски более кормного края.
Попутно они волей-неволей сталкивались с другими плотоядными, из которых ни одно не радовалось вторжению чужаков, так что, естественно, до «точки назначения» добиралась лишь малая толика подросших детенышей, готовых со временем занять место взрослых. При этом отбор особенно не жаловал самок — будучи мельче и слабее самцов, они часто проигрывали борьбу за жизнь, и в популяции ватонгий на одну особь женского пола приходилось два, а то и три ухажера — поэтому этой самке, в отличие от ее товарок, весьма повезло, что она вообще пережила первые, наиболее опасные годы своей жизни. Не повезло же ей в другом — увидев на реке застрявший в излучине труп какого-то крупного животного, она не смогла пройти мимо и решилась пересечь стремнину, дабы отведать не столь часто перепадающей ей падали. Отсутствие поблизости других потребителей неопытную ватонгию почему-то не смутило, так что, спустившись с высокого берега, она тяжело плюхнулась в воду и, преодолевая уже довольно сильное течение, поплыла к туше. Когда же ее начало заметно сносить, и к делу подключился инстинкт самосохранения, оказалось, что достигнуть берега уже невозможно — он стал для нее столь же недосягаемым, как и солнце, так что, некоторое время побарахтавшись, хищница внезапно прекратила сопротивление, и река без труда потащила ее вслед за собой.
В результате этой неосторожной авантюры молодая ватонгия уцелела, не пойдя на корм рыбам, однако положение ее все еще было довольно неприятным: учитывая измученное состояние, попытка добраться до берега самостоятельно могла обернуться утоплением, так что, словно компенсируя собственную глупость несколькими часами ранее, хищница пока что не предприняла ни единой попытки оставить свое плавсредство и вновь вступить в противостояние с рекой. Сейчас, уставшей и обессилевшей, ей оставалось только ждать подходящего момента, и уж это она умела делать здорово — единственным, что выдавало в ней живое существо, были желтовато-коричневые глаза, которые зорко осматривали окрестности: скоро ли спасение?.. Все бы сгодилось — застрявший в протоке древесный ствол, нанос из обломанных веток, на худой конец, крупная туша, готовая выдержать ее вес! — но пока что, увы, Фортуна не спешила дарить незадачливой путешественнице очередную улыбку, и посему ей оставалось лишь смотреть, как равнодушное солнце все так же неторопливо ползет по небосклону, как на берегу небольшой заводи греются в его лучах парочка молоденьких варанодонов, а из густых зарослей хвощей за ними внимательно наблюдает длинноногая файелла — удивительная амфибия, напоминающая гибрид лягушки с кошкой, что отказалась от привычного для ее родственников малоподвижного образа жизни и начала вполне активно охотиться на суше. Мясо ее, к слову, было довольно вкусным — в сухих лесах, где ватонгия провела первые годы жизни, файеллы не встречались, однако ниже по течению они стали уже вполне обычны, и пару раз молодой охотнице даже удавалось поймать этих юрких созданий с помощью одного резкого рывка из засады.
Правда, это была не излюбленная ее дичь — слишком много попыток заканчивались провалом, слишком мало мяса доставалось ей в итоге, поэтому в основном ватонгия питалась существами помельче и поспокойнее, вроде ротианискуса — довольно крупной, почти в метр, примитивной «ящерицы», любительницы гниющей растительности и наземных моллюсков. Переваливающийся с боку на бок при ходьбе, сравнительно большеголовый ротианискус производил впечатление нерасторопного животного, однако на деле он мог не только вполне резво бегать (пусть и недалеко), но и активно обороняться, широко раскрывая пасть и всеми силами демонстрируя, на что нарывается чрезмерно наглый хищник. Обычно это работало, во всяком случае, если речь шла о взрослых ротианискусах, так что ватонгия предпочитала зариться на молодняк — они бегали быстрее, но и кусались не так сильно, а их броня вполне поддавалась ее длинным острым зубам, торчащим даже из закрытой пасти. Не пропускала она и других примитивных рептилий, например, неповоротливых макролетеров, охотящихся на моллюсков и крупных насекомых в лесной подстилке, а при случае не щадила и собственную малолетнюю родню, не сообразившую спастись от грозной сестрицы в узкой расщелине или посреди бурелома, куда ей, подросшей и изрядно растолстевшей, уже было не протиснуться.
Более крупные животные, увы, пока что были под запретом — даже умирая от голода, она едва ли рискнула б раскрыть пасть на кого-нибудь крупнее собаки, так что пасущиеся на берегу трехметровые анжелозавры — тоже примитивные синапсиды, но растительноядного профиля, с массивным бочкообразным телом, весом в триста килограммов — не вызвали у нее никакого ровно никакого интереса: не дело подрастающему львенку зариться на взрослую антилопу! Анжелозавры же были настоящими антилопами пермского периода — это были одни из первых по-настоящему крупных растительноядных животных на планете, и близкий родич этого колосса — так называемый котилоринх Хэнкока, обитающий несколько южнее — достигал в длину шести метров и весил до двух тонн, являясь крупнейшим наземным животным своей эпохи. Местные котилоринхи, принадлежащие к другому виду, были вполовину мельче, но даже в их случае у взрослых животных практически не было врагов — все хищники в регионе были мельче и слабее, так что, в каком-то смысле, и анжелозавры, и котилоринхи, и прочие их близкие родственники, объединяемые под именем «казеид», занимали ту же экологическую нишу, которая через сто двадцать миллионов лет будет принадлежать брахиозаврам, апатозаврам и другим гигантским рептилиям юрского периода. Лишь молодые, больные или старые особи по-настоящему рисковали стать чьей-нибудь добычей, тогда как взрослые и здоровые могли наслаждаться сравнительно безопасностью, занимаясь раскапыванием сочных корневищ, несколько более питательных, чем молодые побеги папоротников и хвощей.
Как и длинношеие динозавры, из-за своей маленькой головы казеиды вынуждены были кормиться почти беспрерывно, делая исключение только ради нескольких часов сна — но даже в глубокой дреме их лапы слегка подрагивали, а челюсти пытались откусить несуществующую еду, так что, едва просыпаясь, анжелозавры тут же возобновляли кормежку: больше, больше, как можно больше, чтобы успеть до наступления заката извлечь из грубой волокнистой пищи хотя бы малую толику столь необходимой энергии!.. Не успеешь — ночная прохлада вынудит тебя отправляться спать слегка голодным, и на следующий день надо будет кормиться еще неистовее, чтобы восполнить крошечную недосдачу питательных веществ в оранизме. Очередное промедление? Голод станет заметнее, а потом еще, и еще сильнее, пока непритязательный организм не начнет ощутимо жаловаться на свое состояние, тем самым ослабляя невидимый барьер с табличкой «Крупный, взрослый, почти непобедимый» и приглашая заинтересованных хищников поглазеть на ослабевшую особь: большая-то большая, но сможет ли оказать достойное сопротивление? А как насчет попробовать? А, может, укусить за ляжку, повиснуть мертвой хваткой, отбить от сородичей? Мало-помалу вокруг соберутся все плотоядные округи — их привлечет запах мяса и крови, возможность задарма набить собственное брюхо — и вот уже несчастный анжелозавр окажется между молотом и наковальней, после чего ему останется разве что глухо реветь от боли, когда узкие челюсти будут вспарывать ему брюхо…
Так что не стоит смеяться: в жизни этих гигантов кормежка занимала весьма и весьма почетное место, будучи девизом, кредо и смыслом жизни в одном флаконе. Отвлекаться от этого важного и нужного процесса, дабы полюбоваться на плывущее по реке бревно? Нетушки, ни за что на свете — и посему ни один из пасущихся анжелозавров даже не заметил, когда лежавшая на плотике необычная путешественница, внезапно оживившись, приподняла голову, внимательно всматриваясь в узкую песчаную косу, беловатым языком вдающуюся в русло.
В этом месте река слегка уклонялась к западу, огибая обнажившуюся горную породу, и постепенно образовался нанос, превративший часть потока в уютную затонину, этакий пресноводный заливчик, наверняка служащий неплохим «лягушатником» для молоденьких амфибий. Будучи на суше, ватонгия обязательно заглянула бы в этот природный бассейн, надеясь на легкую добычу, однако сейчас ее куда больше заинтересовала сама отмель, обещающая вполне удобный выход из сложившейся ситуации. На ее счастье, течение влекло ее как раз в эту сторону, и когда бревно, точно слепой кутенок, натолкнулось на песчаный нанос, «пассажирка» немедленно решила, что это ее остановка — и, соскользнув в воду, весьма резво направилась к берегу, то цепляясь когтями за дно, то помогая себе длинным хвостом.
Как раз вовремя — только-только она выбралась на сушу, как деревяшка, принесшая ее сюда, неуклюжей рыбиной переползла через мелководье и, подхваченная стремниной, проворно ринулась дальше, навстречу ожидающим его перекатам. Всего через пару-тройку часов, миновав причудливую кашу из мелких островков в дельте, этот опустевший плотик вкусит морской воды, и если не станет «добычей» какой-нибудь не слишком разборчивой рыбины, то спустя несколько дней уже упокоится на морском дне, став еще одним элементом природной свалки, что неизменно возникает в устье любой полноводной реки. Ну да, впрочем, пусть его — свою функцию, хоть и невольную, он выполнил на «ура», даром что ватонгии и в голову не пришло бы кого-то благодарить за эту милость судьбы. Скорее уж она испытывала смутное удовольствие от самого факта, что снова твердо стоит на своих лапах, хотя вместе с этим ее мозг терзало и беспокойство: ведь, как ни крути, она оказалась в совершенно незнакомом месте, за несколько десятков километров от привычного «дома». В этой ситуации даже зарождающееся чувство голода было немедленно отодвинуто на второй план — прежде чем охотиться требовалось как можно внимательнее изучить этот край, дабы не оказаться застигнутой врасплох неведомым врагом.
Извечный «закон подлости» дикой природы: даже если ты вышел победителем из противостояния с безжалостной стихией и больше всего на свете жаждешь передышки, никто ее тебе давать не станет. Настоящие беды Робинзона Крузо начались лишь после того, как он выбрался из моря на необитаемый остров, и хотя этой ватонгии удалось удержаться на материке (в противном случае ее судьбе можно было не завидовать — некрупные острова в пермский период были еще необитаемее, чем сейчас, ведь тогда еще не было ни птерозавров, способных добраться до них по воздуху, ни морских рептилий, что смогли бы до них доплыть), ее злоключения были далеки от завершения. Прежде срока выброшенная в зону «для взрослых», она словно перенеслась обратно во времени, вновь став новорожденной крохой, вынужденной спасаться от плотоядных родственников, так что пройдет еще немало, немало лет…
…прежде чем однажды, уже достигнув зрелости, молодая и полная сил самка все-таки сумеет добиться своего. И пусть к тому времени ее шкуру украсит не один десяток шрамов, а куцый жизненный опыт превратится в солидную энциклопедию, в один прекрасный день повстречавшийся ей взрослый самец не отгонит ее от убитой жертвы и не сорвет с ее плеча клок кожи, доказывая свое превосходство… нет, он приблизится почти осторожно, всем своим видом демонстрируя отсутствие угрозы, да и сама она, пусть и относясь к нему с опаской, лишь поначалу попытается спастись бегством.
Это будет хороший самец, мощный и здоровый, так что внутренний оценщик в самке изначально примет его благосклонно: да, этот подойдет. Не самый крупный из всех, что ей попадались, но подойдет. По крайней мере, он не поторопится сразу же залезть ей на спину, собственной силой и свирепостью подавляя любые попытки к сопротивлению, но исполнит весь нехитрый брачный ритуал, в процессе которого ватонгии терлись головами и неторопливо плавали кругами в тихой речной заводи, позволяя друг другу оценить достоинства партнера. Все действо займет полдня: утром самец найдет отдыхавшую после кормежки самку на речном берегу, где та обычно принимала солнечную ванну, а к полудню процесс достигнет финала, после чего оба животных разбредутся в разные стороны. Самец наверняка отправится на поиски другой пассии, которая примет его ухаживания, а наша молодая самка практически немедленно покинет ставшие родными прибрежные болота и отправится вверх по течению, точно так же, как почти семь лет назад это сделала ее мать.
Ей никто не покажет дорогу, не объяснит, почему нужно совершать такое долгое путешествие ради единственной кладки в куче гниющей листвы. Эволюция — плохой рассказчик, а для обычного выживания не нужно понимание процесса — все сделают инстинкты, так что еще вчера не помышлявшее ни о каких странствиях животное сегодня может ни с того ни с сего ощутить необоримое желание покинуть свой дом и отправиться куда-нибудь за горизонт. Оно не задумается, почему, зачем, с какой стати — это будет выше его темного разума, базирующегося на основных потребностях живого тела. Оно не попытается перебороть и поступить иначе. Оно вообще не поймет, где кончаются его, вот этой конкретной особи, желания, а где начинается лабиринт сохранившихся со времен предков программ поведения, созданных и работающих с единственной целью: продолжать существование этого вида на Земле.
Лишь через много-много миллионов лет, в эпоху развитых существ с большим мозгом, инстинкты вынуждены будут сосуществовать с разумом, и тогда найдутся те, что смогут их перебороть, объявить наследием «темного прошлого» и попытаются от них избавиться…
И скажу вам сразу, что у них ничегошеньки не выйдет.
Как бы человечество ни стыдилось своего происхождения, как бы ни пыталось всеми правдами и неправдами отрицать неоспоримую связь с самыми обычными животными, но наследие наших мохнатых пращуров постоянно напоминает о себе множеством мелких деталей, и человеческие инстинкты — лишь один из многих признаков того, что и мы когда-то искали друг у дружки блох. Можно, конечно, кричать, что это неправда, или, напротив, пытаться заявлять, что мы-то, мы уже давно живем лишь по разуму, по собственному желанию!.. — но инстинкты, эти безобидные «врожденные программы поведения» никогда не исчезнут лишь по нашему желанию. Пусть мы их обычно и не замечаем, однако то тут, то там — тяга к коллекционированию всяких бесполезных вещей или цепляющийся за юбку матери ребенок — они будут напоминать о своем существовании.
Ведь, в конце концов, то, что позволяло нашим прародителям выживать на протяжении миллионов лет, трудновато искоренить за столь микроскопический срок, в течение которого существует человеческая цивилизация. Так что можно обижаться, можно злиться, можно все отрицать и мнить себя выше «неразумной плоти», однако тело зачастую оказывается мудрее новорожденного разума, и не стоит сомневаться: инстинкты существовали, существуют и будут существовать всегда.
С эпохи на заре истории, с мрачных времен, о которых не помнит ни одна живая душа — через миллионы лет эволюции, до нас, людей, и даже дальше — пока встает и заходит солнце, пока зеленые ладони листьев поглощают небесный свет, пока все еще теплится жизнь на этой странной, странной голубой планете…
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Ватонгия (Watongia, названа в честь города Ватонга в Оклахоме) — род варанопсеид, достигали в длину двух — двух с половиной метров. Отличаются невероятно крупной головой, скорее всего, взрослые особи вели водный образ жизни и охотились на приходящих к водопою сухопутных животных, которых хватали из засады. Молодые особи могли вести наземный или полуводный образ жизни, питаясь мелкими позвоночными и крупными беспозвоночными.
Нанноспондил (Nannospondylus, «крошечный позвонок») — род мелких водных темноспондилов, длиной около двадцати сантиметров и внешним видом напоминавших тритонов. Питались мелкими беспозвоночными, в том числе насекомыми.
Диплокаулюс (Diplocaulus, «двустержневой») — род примитивных амфибий из подкласса лепоспондильных (Lepospondyli, «тонкопозвонковые»), с расширенной в форме бумеранга головой. Длина взрослых животных достигала метра. Голова и тело плоские, конечности короткие, хвост относительно мощный. Согласно двум наиболее распространенным теориям, вел либо малоподвижный придонный образ жизни, либо активно плавал в поисках пищи. Недавно найденные донные отпечатки диплокаулюса скорее свидетельствуют в пользу первой теории; также благодаря им стало известно, что от головы животного начинались кожные складки, объединяющиеся с «отторочкой» вдоль всего туловища.
Варанодон (Varanodon, «зуб варана») — род варанопсеид. Вырастал в длину до полутора метров, вел хищнический образ жизни и, в связи с большей подвижностью, вероятно, был одним из наиболее опасных сухопутных плотоядных, с которыми вынуждены были конкурировать молодые ватонгии.
Файелла (Fayella, в честь Роберта Фэя из Геологической службы штата Оклахома) — род темноспондилов, отличающийся от всех своих родственников относительно длинными конечностями, которые предполагают наземный и довольно активный образ жизни. Длина черепа около 15—20 сантиметров. Охотилась файелла, вероятно, в основном на мелкую добычу: крупных насекомых, личинок амфибий, мелких рептилий и синапсид.
Ротианискус (Rothianiscus, в честь палеонтолога Роберта Рота) — род примитивных рептилий, растительноядных или всеядных. Массивные животные, достигавшие в длину почти метровой отметки.
Макролетер (Macroleter, «большой губитель») — род вымерших примитивных рептилий, ведущих образ жизни современных жаб. Был около полуметра в длину, питался мелкими позвоночными и крупными беспозвоночными животными.
Казеиды (Caseidae, в честь палеонтолога Эрмина Коулса Кейза) — семейство растительноядных пеликозавров, первые по-настоящему огромные сухопутные животные на планете, а также одни из наиболее крупных синапсид. Отличались массивным туловищем и крошечной головой, ноги короткие и толстые, хвост относительно длинный. Питались мягкой растительностью, жевать не умели — могли лишь отрывать и глотать куски пищи. Появились в раннем пермском периоде, дожили до середины перми, в дальнейшем оказались вытеснены более прогрессивными синапсидами.
Анжелозавр (Angelosaurus, назван в честь формации Сан-Анжело в Оклахоме) — род казеид, отличался чрезвычайно массивным скелетом и короткими тупыми когтями, что, возможно, свидетельствует о склонности к рытью и жизни, в основном, на сухих равнинах.
Котилоринх (Cotylorhynchus, «рыло-чашка») — род казеид, в который входит крупнейший представитель семейства, достигавший шести с половиной метров в длину и двух тонн веса. Когти относительно длинные (у котилоринха Хэнкока — до семи-восьми сантиметров в длину), возможно, животное использовало их для раскапывания земли или сдирания гнилой коры со стволов упавших деревьев.
Кто успел…

268 миллионов лет назад
Северо-западное побережье Пангеи
Территория современной России, Республика Удмуртия
Еще несколько миллионов лет назад на этом самом месте плескались морские воды, и только проворная рыбешка шныряла в зарослях водорослей, спасаясь на мелководье от крупных хищников — но теперь, в связи с ростом северного ледникового щита, море в очередной раз отступило, превратив пологую низменность в обширное болото. Возможно, в ближайшем (по геологическим меркам) будущем берег океана отодвинется еще дальше, и тогда количество соли в почве, омываемой дождями и речными потоками, несколько поуменьшится, но пока что эти края представляют из себя переходную зону между настоящим пресноводным болотом и морским заливом… а посему — никаких деревьев и прочих чисто наземных растений, лишь сравнительно невысокие, в полтора человеческих роста, древние хвощи да причудливые папоротники, отдаленно напоминающие современный орляк. В те времена климат на Земле был довольно нестабилен, и в подобных «пограничных» землях сложные экосистемы вроде лесов просто не успевали развиваться: уже через несколько тысяч лет температура может подскочить или упасть на добрые десять-пятнадцать градусов — настоящая катастрофа для большинства многолетних растений! — а потому стратегическое преимущество получают относительно недолговечные аналоги современных трав, способные быстро заселить новые земли, быстро вырасти и быстро же приступить к размножению, пока очередной климатический коллапс не застал их врасплох.
Животным в подобных условиях приходится несколько легче — они, если понадобится, могут и переместиться в более удобное место проживания, так что, пока рыба цеплялась за остатки своих владений в широких реках и солоноватых эстуариях, ее наличием уже заинтересовались четвероногие хищники, и в густом тумане быстро затухает громогласный плеск — это охотящийся платиопозавр, выскочив из мутной воды вслед за удирающей добычей, тяжело плюхнулся обратно, с головой провалившись в липкое молоко. Несмотря на то, что это животное относится к амфибиям, оно является дальней родней тримерорахиса и эриопса, так что кожа платиопозавра не голая, а покрыта мелкой чешуей, особенно хорошо различимой на животе. Оснащенный зубастым пинцетом вместо морды, перепончатыми лапами и уплощенным хвостом, этот чешуйчатый индивид сильно напоминал современных крокодилов, особенно — восьмиметрового гавиала, такого же любителя рыбных закусок, обитающего в мутных водах Ганга — но вот только, в отличие от индийца, платиопозавр не был самой страшной лягушкой на болоте, и всюду, где только можно, его теснил другой темноспондил — тоже двухметровый, но куда более массивный мелозавр, обладатель полуметрового черепа и плотного ряда острых зубов. «Гавиала» как вид спасала лишь его специализация: будучи рыбоядным животным, он не особенно претендовал на другие источники корма, тогда как мелозавр был истинным «аллигатором», и питался всем, что только попадалось ему на зуб: и рыбой, и амфибиями, и приходящими на водопой сухопутными животными, и, разумеется, падалью.
Единственным ограничением, не дававшим мелозаврам уж очень «расхищничаться», была потребность в воде: как и большинство их сородичей, эти неуклюжие животные крайне плохо передвигались по суше, где им давали фору даже тяжеловесные травоядные рептилии, редко разгонявшиеся быстрее одного-двух километров в час. Слабые лапки, торчащие по бокам массивного туловища, едва-едва могли перетащить владельца из одной речной протоки в другую, да и путешествие, длиной в пару сотен метров, могло занять несколько дней! И вообще, в отличие от тех же крокодилов, древние амфибии не были привязаны к суше даже на период размножения, так что и платиопозавр, и мелозавр всю свою жизнь проводили в воде, появляясь на берегу лишь в качестве редкого исключения…
Так что, естественно, мирно тухнувшая на пляже туша массивного парабрадизавра первоначально ни у кого из этих животных не вызвала особого интереса.
Судя по всему, несчастный зверь, размером со свинью, погиб не насильственной смертью: его шкура была почти целой, без крупных ран, а из всех плотоядных поблизости ошивался только молодой микросиодон, небезуспешно пытающийся раскромсать относительно тонкую кожу на брюхе гигантской добычи. Обычно этот некрупный, с кошку, хищник, формой тела напоминающий большеголового варана, питался рыбой и мелкими амфибиями, отлично плавал и не слишком часто показывался на берегу — но все же, в отличие от настоящих земноводных, ему не составляло труда преодолеть пару десятков метров «сухой» (ибо речь все же идет о болоте…) земли, а распространяющийся аромат гниющего мяса послужил звонком на обед, предлагающим любому желающему с головой погрузиться в гастрономический рай. Ну, разумеется, если едок сумеет пробуриться сквозь морщинистую шкуру и дорваться до мягких внутренностей — а микросиодон, судя по всему, именно это и планировал осуществить, поскольку уже чуть ли не по самые уши засунул голову в выгрызенную дыру, жадно штурмуя прочную брюшную стенку. Занятие это было довольно трудное и шумное, так что маленький хищник целиком ему отдался, и когда любовно разделываемая туша внезапно зашевелилась, первой его реакцией было — вцепиться! Оторвать! Защитить!.. — хотя, по счастью, последние мозги запах пищи ему все же не отбил, поэтому перед тем, как с оскаленной пастью бросаться на неожиданного конкурента, микросиодон все же успел разобраться, кто именно пожаловал к пиршественному столу…
…после чего шарахнулся в сторону и, резво перебирая лапками, устремился к воде, да так шустро, словно ему хвост кипятком окатили! Ближайшая заводь, зеленеющая от растущих на дне водорослей, встретила вернувшегося охотника бросившимися в разные стороны лепторофами — мелкими растительноядными родственницами диадектов, похожими на аксолотлей — да шмыгнула прочь личинка алегейнозавра, небольшого наземного лабиринтодонта, охотника на крупных насекомых. В другое время микросиодон, пожалуй, даже погнался бы за этой мелюзгой, дабы отправить ее к себе в желудок, но сейчас он был слишком перепуган, чтобы отвлекаться на еду, и не успокоился до тех пор, пока целая сотня метров не пролегла между ним и явившимся к месту трапезы молодым камагоргоном.
На самом-то деле, конечно, пришлец не был особо страшным: размером с овчарку, эта юная самка только недавно перестала считаться детенышем и еще не обрела ни взрослых размеров, ни силы… хотя, надо признать, старалась она изо всех сил, и шкура, плоть, даже кости дохлого парабрадизавра — все пошло на переработку в вечно полупустой желудок, когда голодное животное буквально въелось в кучу падали, жадно заглатывая огромные куски. Быстрее, быстрее, быстрее — весь смысл ее жизни внезапно оказался сосредоточен на том, чтобы как можно БЫСТРЕЕ набить брюхо подтухшим мясом, и под тонкой буро-пятнистой шкурой вздрагивала плотная решетка ребер, отощавшие лапы месили забрызганную кровью грязь, и она давилась, срыгивала, но снова совала морду в раскуроченное брюхо, до отказа набивая пасть…
…до тех пор, пока внезапно — слишком скоро! — ее не спугнуло зловещее шипение, и, выдернув голову наружу, самка отчаянно попыталась прогнать соперника… но куда там. Явившийся к месту пиршества взрослый самец был, по меньшей мере, килограммов на сорок тяжелее, чем она, и на широких костях заметно бугрились канаты прекрасно развитых мышц, рядом с которыми ее бельевые веревочки, едва не перервавшиеся после двух с лишним месяцев голодовки, выглядели еще более жалко. Конечно, этой самке еще «повезло», что болезнь свалила ее поздней весной, когда в плавнях было полным-полно добычи, но все же, и без того не разжиревшая после первой в своей жизни зимы, она явно находилась не в лучшей своей форме, и ни в какое сравнение не шла с матерым камагоргоном, возвышавшимся над ней настоящей горой!
Что касается самца, то он явно не был настроен на шутки, и замешкавшаяся у туши самка получила весьма болезненный укус в основание хвоста, после чего была вынуждена спешно ретироваться в заросли папоротников, уступив место новому едоку. Она не спешила уходить далеко — размеры размерами, но такое количество мяса едва ли уместилось бы даже в двух объемистых желудках! — и у нее все еще оставались неплохие шансы на завершение обеда, тем паче, что новоприбывший камагоргон ел без особого рвения, почти лениво вороша кучу потрохов в поисках самых вкусных кусочков. Для него эта трапеза явно не была вопросом жизни и смерти: он наверняка до отказа набил себе желудок если не на этой неделе, то на прошлой уж точно, а потому мертвый парабрадизавр стал для него разве что приятным сюрпризом, обнаруженным во время ленивого бродяжничества по окрестностям. Другое дело, что пройти мимо дармовой еды, как бы ты ни был сыт, с точки зрения камагоргона было бы явным расточительством, так что этот самец не отказал себе в удовольствии заменить уже переварившееся мясо в своем животе новой порцией…
Однако, внезапно дернув носом, и он вдруг негромко зашипел, предупреждая, что к месту трапезы пожаловал третий участник, присутствие которого, в отличие от околачивающейся неподалеку самки, проигнорировать было уже никак нельзя! Ведь это был массивный зрелый самец, на удивление крупный, весьма мощно сбитый и красующийся неряшливой росписью шрамов поперек морды, поэтому предыдущий камагоргон не преминул возмутиться и, выгнув шею, до отказа раскрыл пасть, чтобы во всем блеске продемонстрировать пару желтоватых клыков, каждый из которых был с человеческую ладонь длиной. Один удар этих блестящих от слюны «ножей» вспарывал даже очень толстую шкуру, а некрупное животное мог проколоть насквозь, так что второй камагоргон прекрасно представлял, на что нарывается — и, тем не менее, ничуть не замедлил своей вальяжной поступи, а чуть погодя бледный солнечный свет высветил и его оскаленные челюсти, явно готовые вцепиться в чужую глотку. Он шел не на заведомо непобедимого противника, а на равного, такого же взрослого камагоргона, как и он сам, и хотя сезон спаривания, самое бурное время года в жизни этих одиноких плотоядных, в нынешнем году уже прошел, приближающийся самец был в далеко не настолько благодушном настроении, чтобы терпеть сородича, внаглую набивающего брюхо на его охотничьем участке!
Ситуация складывалась крайне неприятная: первый самец не был настроен на драку, однако с одной стороны путь к отступлению отрезал пологий, но весьма ненадежный на вид склон берега, с другой в зарослях папоротника притаилась молодая самка, а с третьей к нарушителю границ уже вовсю торопился разъяренный хозяин, вот-вот готовящийся как следует намять ему шею. Возможно, будь у этого камагоргона больше времени на раздумья, он попытался бы прорваться мимо самки — меньшей и слабейшей, которая едва ли осмелилась бы его атаковать! — но к тому времени, как в его голове оформилось это нехитрое решение, соперник уже оказался вплотную, так что пришлось спешно переставлять приоритеты и, стегнув по земле хвостом, приветствовать противника низким глухим ревом: не подходи! Приличная тяжесть в его округлившемся животе давила на ребра и скорее настраивала на мирный сон, чем на стычку с сородичем, однако в протоколе отношений между камагоргонами не существовало ни белых флагов, ни поднятых кверху рук, и если уж доходило до свары, то она длилась до победного конца, поэтому приближающийся хозяин участка даже не остановился, а чуть погодя два камагоргона уже сшиблись, вскинувшись на дыбы и обхватив друг друга лапами.
Ра-а-аз, два, ра-а-аз, два, ра-а-аз! — точно в каком-то странном вальсе, пара соперников раскачивалась на месте, проверяя друг друга на устойчивость, и в этом поединке сумоистов перевес был явно на стороне более крупного самца: через несколько минут первый камагоргон уже был вынужден опуститься на все четыре конечности, позволив своему покрытому шрамами противнику навалиться на себя сверху. Не упуская возможности, тот тут же потянулся к вражескому загривку, торопясь побыстрее поймать его в зубы и хорошенько куснуть, но, уступив на мгновение, соперник еще отнюдь не собирался признавать себя побежденным, так что, рванув в сторону, успел выскользнуть из-под чужой туши и, вывернув шею, встретить сунувшегося следом самца оскаленной пастью.
С наскоку решить дело не удалось, так что, растратив первичный запал, во второй раз хозяин участка сходился с противником уже осторожнее, неторопливо покачивая головой и ни на мгновение не выпуская его из поля зрения. Со стороны это выглядело даже мирно: два камагоргона, стоя всего в паре метров друг от друга, будто о чем-то договаривались, плавно кивая и переминаясь с лапы на лапу, хотя на самом деле напряжение между ними можно было хоть ножом резать, и самец-хозяин не выдержал первым — рванулся вперед, на ходу приподнимаясь на задних лапах, после чего подмял под себя отреагировавшего мгновением позже соперника и, не мешкая, запустил зубы в складку кожи на загривке. Из такого положения стряхнуть его на землю было уже куда сложнее, так что схватка обещала затянуться еще минут на пятнадцать, до тех пор, пока окончательно не иссякнет энергия в паре медлительных холоднокровных тел. Это была вялая потасовка двух примитивных хищников, что еще не обрели ловкости пантеры и медвежьей ярости, а потому за короткими периодами оживления следовали долгие паузы, во время которых ящеры отдыхали, тяжело раздувая бока и будто бы не замечая, как чьи-то зубы портят им шкуры или тянутся вцепиться в оказавшуюся прямо перед мордой лапу. Едва же проходила цепенящая слабость, битва возобновлялась, и постепенно, шаг за шагом, самца-пришлеца оттесняли в сторону, толкая и кусая до тех самых пор, пока он, внезапно схлопнув челюсти, не бросился наутек, спешно перебирая лапами и оставляя за собой кровавую дорожку.
Победитель некоторое время преследовал его, норовя вцепиться в хвост, однако вскоре оглушительный всплеск засвидетельствовал, что неудачник решил спасаться вплавь, так что, доказав свое превосходство, шрамированный самец оставил соперника в покое и сел, широко растопырив задние лапы и приподнявшись на выпрямленных передних. Азарт прошедшей схватки еще не утих, и его зоркие янтарные глаза внимательно поглядывали по сторонам, пока яростно колотящееся о грудную клетку сердце вымывало из мышц накопившуюся усталость. Лишь минут через десять, издав низкое «ху-у-уф-ф», самец медленно облизнул морду и уже куда спокойнее двинулся к опустевшему полю битвы, собираясь исследовать остатки туши парабрадизавра и сполна насладиться плодами своей победы…
…но вместо этого обнаружил лишь их бесследную пропажу.
Камагоргон удивился. Настолько удивился, насколько вообще мог, ведь тяжелый запах и обширное коричневое пятно неоспоримо подтверждали, что мертвый парабрадизавр лежал здесь, на этом самом месте! — а теперь он словно бы провалился под землю. Как будто бы смущенный этим открытием, хищник внимательно обнюхал место преступления и почти тут же напал на два подозрительных следа: один, принадлежащий молодой самке (про которую сражающиеся самцы успели благополучно забыть), скрывался в густых зарослях, тогда как второй, широкий и прерывистый, спускался все ниже и ниже по склону берега. Создавалось ощущение, что тушу успел стащить кто-то еще, однако это предположение не выдерживало никакой критики: самец-победитель не ощущал других запахов, кроме запаха побежденного соперника и щуплой самки, а уж последней-то справиться с таким огромным шматом мяса явно было не под силу! Вдобавок, след был больно уж нехарактерным для похитителя: не ровная борозда, которую оставляет волокущий тушу четвероногий, а, скорее, череда размытых углублений, свидетельствующая о том, что парабрадизавра никто не крал — он сам скатился вниз, когда под шумок сражения подобравшаяся к трупу самка попыталась оторвать от него кусок побольше, который можно было бы уволочь в безопасное место.
Если бы этот камагоргон умел перемещаться во времени или, на худой конец, обладал сносным воображением, то мог бы без труда восстановить всю картину произошедшего: вот самка, пригибаясь и нервно поглядывая в сторону сражающихся самцов, пробралась к парабрадизавру, вцепилась в заднюю лапу, и без того висевшую на последних сухожилиях, начала дергать ее из стороны в сторону, силясь отделить от остальной туши… Вот один из самцов, пятясь задом от излишне агрессивного соперника, едва не наступил на мелкую воровку, заставив ее суматошно рвануть прочь, и от этого резкого движения прогнившая плоть окончательно отстала от кости: самка покатилась в одну сторону, зажав в пасти свой кровавый приз, а парабрадизавр качнулся в другую, сполз немного ниже по струйкам осыпающегося песка… а там в дело вступила необоримая сила гравитации, и бочкообразная туша, нелепо раскидывая уцелевшие ноги, начала стремительно скатываться прямо к илистой заводи.
Вот греющийся на пляже молодой гекатогомфий, примитивная рептилия, питающаяся моллюсками, едва успел шарахнуться прочь за мгновение до того, как ему раздавило череп, и уже в зарослях папоротника до этой толстой «ящерицы» донесся шумный всплеск, с которым парабрадизавр рухнул в реку.
А вот и отдыхавший неподалеку мелозавр, как раз устроившийся на отдых в неглубокой норе, уловил распространяющийся в воде запах крови, и хотя накануне «аллигатор» сытно поел, проглотив аж три рыбины и растерзав молодого платиопозавра, он немедленно покинул свое логово и двинулся на поиски источника «аромата», ибо ни одна амфибия в здравом уме и трезвой памяти не пропустит даже малого куска разлагающейся плоти.
И суетившаяся неподалеку мелочь — еще одна личинка алегейнозавра и молоденький, размером не больше крысы платиопозавр — успела лишь слегка пощипать обрывки шкуры, как мелозавр уже вцепился в остальное и поволок за собой, оставляя мутный след из взбаламученного ила. С его колышкообразными зубами рвать мясо он умел не лучше современных ящериц, так что животному придется еще долго мотать головой и таскать труп по речному дну, но все же справиться с такой «добычей» будет неизмеримо легче, чем с только что убитым животным, и, особенно если к процессу подключатся и другие крупные мелозавры, еще до наступления сумерек парабрадизавр будет сожран, а кости его окажутся растащены в разные стороны, по большей части — в желудках прожорливых амфибий.
Что касается камагоргона, то он не особенно долго терзался загадкой исчезновения своего обеда: на всякий случай еще раз обнюхав землю и убедившись, что ни кусочка съестного здесь не осталось, усталый и подранный самец неторопливо побрел прочь, слегка припадая на прокушенную левую переднюю лапу. Он победил, да — однако победа его скорее оказалась пирровой: этому камагоргону удалось сохранить свой статус-кво, прогнав с территории опасного соперника, но, если смотреть с точки зрения чистой выгоды, злополучная самка в сложившейся ситуации оказалась в наилучшем положении, умудрившись не только сносно набить брюхо, но и отделаться всего лишь легким ранением на хвосте, о котором она и думать забудет уже к исходу следующей ночи.
В конце концов, быть сильнейшим и оставаться в выигрыше — совсем разные понятия, и пусть сегодня этот самец одолел своего врага, но полученные раны и оставшийся пустым желудок еще могут сыграть с ним злую шутку во время следующего противостояния с молодым, сильным и агрессивным соперником, который всерьез пожелает отбить у него положенные взрослому камагоргону сорок пять гектаров личного участка. Весы качнутся, как обычно, в самый неподходящий момент, и заноет не до конца заживший локоть или слишком слабые мышцы, не выдержав давления, порвутся под напором чужих зубов, после чего всесильный хозяин территории, регулярно пользовавшийся благосклонностью самок и оставивший после себя многочисленное потомство, забьется в чужих челюстях, точно пойманная рыбешка, а то и вовсе упадет в грязь кучей безмолвной падали, став главным блюдом на пиршественном столе в честь восшествия на престол нового короля.
И канут в небытие все его прошлые победы и успехи: единственное поражение сотрет их без следа, потому что однажды он оказался слишком медлителен или слишком глуп, потому что пропустил коварный удар — и вот теперь, неподвижный и холодный, немигающим взглядом уставился в равнодушное небо.
И некому жаловаться на свое поражение — никто не услышит, никто не поймет, ведь альтруизмом в этом жестоком мире еще и не запахло, а шанс на выживание не всегда дается лишь тому, кто превосходит соперника в грубой силе.
Порой удача улыбается самому хитрому. Проворному. Или просто тому, кто вовремя отхватил себе самый лакомый кусок и смотал удочки прежде, чем его заметили.
Ведь, в конце концов, кто успел…
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Платиопозавр (Platyoposaurus, «плосколицый ящер») — род темноспондилов, внешним обликом и образом жизни больше всего похожих на рыбоядных крокодилов современности. Длина головы от тридцати сантиметров до одного метра, общая длина тела — от двух с половиной до четырех-пяти метров. Череп узкий, на конце морды имеется ложковидное расширение — больше всего голова платиопозавра походила на зубастые щипцы для льда. Туловище массивное, конечности довольно длинные, но, вероятно, чаще всего использовались для руления под водой, и, подобно нынешним гавиалам, на суше платиопозавр появлялся редко.
Мелозавры (Melosauridae, «черные ящеры») — семейство темноспондилов, родичи платиопозавра, достигавшие двух с половиной метров в длину. Морда широкая, череп плоский. Внешне походили на небольших короткомордых крокодилов. Универсальные хищники, питавшиеся как рыбой, так и мелкими позвоночными, которых чаще всего глотали целиком. Не отказывались от падали. Вели водный или полуводный образ жизни.
Парабрадизавр (Parabradysaurus, «другой медленный ящер») — род синапсид, хотя изначально был отнесен к парейазаврам, где уже был описан род «брадизавр». В настоящее время парабрадизавр занимает промежуточное положение между примитивными пеликозаврами и терапсидами, высшими зверообразными. Близок к предкам горгонопсов. Длина черепа около 35 сантиметров. Зубы парабрадизавра листовидные, зазубренные, имеются своеобразные «граненые» клыки. Вероятно, растительноядное или всеядное животное, могли питаться отмершей древесиной, мягкой околоводной растительностью и падалью.
Терапсиды (Therapsida, «звериные черепа»), они же тероморфы (Theromorpha, «звероподобные») или зверообразные — группа высших синапсид, согласно современной классификации, включающая в себя и млекопитающих. Произошли от высших пеликозавров в раннем пермском периоде, просуществовали до раннего мела. Развили дифференцировку зубов на резцы, клыки и коренные зубы, в чем уже практически не отличались от млекопитающих. Время возникновения шерстного покрова (и, как следствие, получения теплокровности) пока что точно неизвестно, хотя окаменевшие следы шерсти обнаружили уже в позднем пермском периоде. Что касается чувствительных вибриссов, характерных для современных млекопитающих, то, вероятно, они появились еще у самых ранних форм терапсид. Изменилось у этих животных и положение конечностей: колено сместилось вперед, а локоть — назад, таким образом у терапсид начало разрабатываться типичное для млекопитающих положение конечностей под туловищем, не только увеличивавшее скорость ходьбы, но и снижавшее энергетические затраты на перемещение.
Микросиодон (Microsyodon, «маленький свиной зуб») — род хищных или всеядных дейноцефалов. Вероятно, вели полуводный образ жизни. Длина черепа около 13 сантиметров. Челюсти длинные, клыки направлены вперед и дугообразно изогнуты, концы тупые. Многочисленные коренные зубы, возможно, приспособлены для раздавливания пищи. Относительно крупные глазницы могут быть свидетельством сумеречного образа жизни.
Лепторофа (Leptoropha, «всасывающий мелочь») — род рептилиоморфов, близкий родич сеймурии. Средних размеров животное, длина черепа до 12 сантиметров. Отличалась многочисленными зубами с листовидными коронками, приспособленными к питанию водорослями. Вела водный образ жизни, населяя как пресные, так и соленые водоемы.
Алегейнозавр (Alegeinosaurus, «заботящийся ящер») — род темноспондилов, наземное хищное земноводное, известное из отложений средней перми США и России. Панцирные щитки шли вдоль спины, не перекрываясь. В длину алегейнозавр достигал примерно полуметра, охотился на мелких позвоночных, насекомых и моллюсков, питался и падалью. В воду возвращался только на период размножения.
Камагоргон (Kamagorgon, «Горгона с реки Кама») — род хищных терапсид, возможно, близкий к примитивным горгонопсам. Относительно короткая морда, длинные верхние клыки. Крупное животное, длина черепа — около 45—50 сантиметров, общая длина тела могла достигать трех метров. Наземный хищник, охотник на крупную дичь — примитивных рептилий и других синапсид.
Гекатогомфий (Gecatogomphius, «стоколышковый») — род примитивных рептилий, внешне похожих на большеголовых ящериц. Длина черепа около 10 сантиметров, общая длина тела — около полуметра. Голова плоская, треугольная, многочисленные щечные зубы образуют многорядную площадку для раздавливания твердой пищи. Вероятно, питался насекомыми, моллюсками и другими беспозвоночными с жестким панцирем. Скелет массивный, лапы относительно короткие, хвост недлинный. Не вполне ясно, была ли у гекатогомфия чешуя — вполне вероятно, что его кожа была голая и сухая, как у синапсид.
Квазимодо в стране лилипутов

267 миллионов лет назад
Северо-западное побережье Пангеи
Территория современной России, Архангельская область
Алраузух пробирался по топкой болотистой почве с удивительной грациозностью, будто танцуя, и, несмотря на вес всего в пятнадцать килограммов, в нем чувствовалось достоинство матерого зверя, полностью уверенного в своих силах. Да и неудивительно, ведь здесь, на небольшом плавучем острове, покоящемся в объятиях мелководного Казанского моря, этот скромный хищник, размером с лисицу, был крупнейшим плотоядным, этаким тигром своего двора — «тигром» с вытянутой горбоносой мордочкой, длинными саблевидными клыками и большими внимательными глазами, зорко видевшими даже в туманных осенних сумерках. Не имея достойных соперников, алраузух вынужден был конкурировать исключительно с представителями своего же вида, и если на далеком восточном берегу его большие родственники — огромные биармозухи — жили сравнительно свободно, не особенно беспокоясь из-за размытых границ и зачастую перекрывающихся охотничьих владений, то здесь, на ограниченном пространстве, удержать в единоличном пользовании определенный участок земли попросту означало «остаться в живых»! Только неполовозрелому молодняку еще позволялось шастать там, где вздумается; все прочие, ступив на чужую территорию, должны были осознавать, что тем самым вызовут неудовольствие хозяина, после чего стычки было не избежать.
Хотя, стоит признать, встречались здесь и те, кто выбивался из системы. Ведь каждому по куску — это уж слишком идеально, особенно для природного сообщества, в котором не бывает ничего постоянного и каждое мгновение ситуация может поменяться самым кардинальным образом.
Вот, скажем, только что похожий на ящерицу никтифрурет грелся на солнышке, лениво поглядывая по сторонам, а тут — р-раз! — и он уже шмыгнул прочь, вспугнутый легким шорохом в зарослях молоденьких каламитов, при этом даже не узнав, что источником переполоха послужил безобидный никказавр, миниатюрный пожиратель насекомых, с наступлением темноты выбравшийся на охоту.
Вот только что некрупный лантаниск, примитивная рептилия, похожая на большеголового короткохвостого варанчика, гонял мечущихся над озерным дном рачков, норовя то одного, то другого сцапать огромной зубастой пастью, а тут — два-а! — в воду шлепнулся еще один лантаниск, покрупнее, после чего оба животных на какое-то время застыли неподвижно, оценивая ситуацию: спасаться бегством, нападать или все же проигнорировать и продолжить поиски корма?..
Вот только что неторопливый алраузух, словно бы делая кому-то одолжение, пару раз провел мордой по старому поваленному дереву, оставляя пахучий знак для всех излишне наглых соседей, после чего уже готов был завернуть к югу и куда бодрее отправиться на охоту, а тут — тр-ри! — и ноздрей его коснулся резкий, тревожный запах — «Чужак!» — после чего, мигом позабыв о кормежке, хищник весь напружинился, ткнувшись носом в еще не успевшую просохнуть цепочку следов.
Не сосед, тут же определила память, хранящая запахи всех других особей его вида, имеющих право появляться возле границы. Не колченогий самец с северного берега, не проныра с запада, время от времени «забывавший» о четком разделении территорий, не одна из блуждающих по округе самок. Совершенно незнакомый, ранее не появлявшийся здесь запах… И это, пожалуй, было тревожнее всего. Соседи порой заходили на территорию друг друга, особенно во время погони за добычей, и обычно хозяин не слишком возражал против вторжения, если нарушитель вовремя убирался прочь — но вот чего ждать от новичка, впервые оказавшегося в этих краях и еще не успевшего признать авторитет владельца участка? Если бы прошедшее лето выдалось кормным, алраузух-хозяин, пожалуй, не стал бы разводить кипучую деятельность, ведь, отяжелевшему от изобилия пищи, ему было бы абсолютно все равно, кто там лакомится остатками с его обеденного стола! — но вот в этом году теплый сезон был на редкость гнилым, а до наступления холодов оставался всего месяц-полтора, так что вердикт оскорбленного достоинства был очевиден: «Нарушителя — изгнать!».
И алраузух двинулся по следу.
Для него это была не просто сиюминутная прихоть — это был вопрос выживания и удержания собственной территории под контролем, ибо чужак, закрепившийся на его участке, был способен не просто отобрать у него часть добычи, но и со временем сместить законного хозяина с его пьедестала. Не раз и не два случалось, что старый или слишком ленивый алраузух, смирившийся с присутствием верткого нахлебника, уже через пару сезонов напоминал ходячий скелет, и откормившемуся на чужом пайке бродяге не составляло труда заявить права на приглянувшийся ему кусок земли и выгнать бывшего владельца взашей. Неприятный, но необходимый процесс, обеспечивающий обновление «верхушки общества» и отдающий предпочтение лишь тем животным, что могли постоять за себя в любой ситуации: и завоевывая территорию, и удерживая свое право на нее в борьбе с сородичами, и конфликтуя за готовую к спариванию самку. Особенно — в последнем случае, ведь сезон размножения был мало не единственным периодом, когда самцы алраузухов в буквальном смысле забывали о границах и странствовали по всему острову, разыскивая потенциальных партнерш. Дело это было непростое: мало того, что самок в этой изолированной популяции было существенно меньше, чем самцов, так еще и не каждая представительница прекрасного пола достаточно хорошо переживала зиму, чтобы осмелиться на спаривание и сопутствующие ему траты драгоценной энергии. Животные ведь по натуре своей осторожны и не склонны рисковать, так что, если снежный барс, разведывая новую местность, не будет уверен, что перепрыгнет через пропасть, он почти наверняка отправится искать более безопасный путь, а если самка алраузуха весь холодный сезон просидела впроголодь и не может позволить себе отложить кладку в дюжину яиц, то самцы могут вокруг нее хоть хороводы водить — менее агрессивной по отношению к ним она от этого не станет!..
И посему тем удивительней был сам факт, что сейчас, на исходе теплого сезона, самец-бродяга не только пересек границу чужого участка, но и вел себя так, будто кроме него на этой земле больше никого не было. Обычно бездомные алраузухи, промышлявшие на соседских владениях, поступали не в пример осторожнее, выбираясь на охоту только днем или ближе к полуночи, дабы иметь как можно меньше шансов столкнуться с хозяином, и выследить их было не так-то просто — но этот пришелец вышел из убежища в сумерках, в самый «час пик», и пробирался вперед с редкостной самоуверенностью, в какой-то момент достигнув апогея наглости и оставив на берегу солоноватой протоки целую кучу свежего помета. В прохладном воздухе еще теплая горка курилась паром, распространяя отчетливый запах — чужой запах! — и второй алраузух почувствовал, как его острые когти глубоко погружаются в мягкую почву, словно уже оказавшись на податливом загривке врага. Эти испражнения перед его носом были неприкрытым вызовом, самодовольным заявлением прав на эту территорию и брошенной перчаткой ее нынешнему хозяину, так что алраузух-преследователь, не желая терять время зря, с неприличной поспешностью покрыл чужой помет своим — «Принимаю вызов!» — и шмыгнул в заросли молодых хвощей, уже чувствуя где-то впереди, всего в нескольких десятках шагов, новый запах — свежей, недавно пролитой крови.
Не алраузуха — нет, это была кровь добычи, только что заколотой длинными острыми клыками, и, выбравшись из-за груды гниющих каламитовых стволов, хищник увидел, наконец, всю картину преступления: перепаханный мох, спутанные следы, резкий запах испуганного животного, а посреди всего этого безобразия — уже порядком порванная тушка крупного няфтазуха, похожего на толстую безволосую и короткохвостую крысу. На самом деле, конечно, внешний вид обманчив, и ближайшая родня этого непривлекательного пожирателя гниющей растительности была куда как более солидных размеров… ну да не о том сейчас речь. Ибо все достоинства и недостатки добычи, будь она хоть трижды соблазнительна, немедленно померкли, стоило увидеть самого добытчика: опустив морду в развороченное брюхо жертвы, свежее мясо поглощал совсем еще молодой, едва-едва достигший взрослых размеров алраузух, существо, которому по всем правилам полагалось вести себя скромно и незаметно…
Так с чего бы этому юнцу было так наглеть?!
Алраузух не рычал. Слух у этих животных все еще слишком напоминал слух древних амфибий, от которых они произошли, и толстые кости могли проводить лишь самые низкие звуки, подобные брачному зову самок, позволяющему этим животным-одиночкам находить друг друга в густых зарослях. В обычной же жизни алраузух был гораздо неразговорчивее, чем, скажем, современные жираф или ленивец, а потому, увидев, наконец, предмет своего негодования, он лишь выгнул шею и издал некий клокочущий звук, отдаленно напоминающий сдавленный кашель. Взгляд его огромных мерцающих глаз не отрывался от склонившегося над своей добычей конкурента, и когда тот, почуяв угрозу, поднял голову, «кашель» стал еще громче, а передними лапами алраузух начал разбрасывать клочья мха, при этом раскачивая шеей из стороны в сторону и больше всего напоминая огромную змею, вот-вот готовую вцепиться в горло добычи.
Пока что он еще не был готов напасть — в конце концов, если бы дело дошло до драки, давать задний ход было бы поздно, и в результате столкновения оба противника могли получить серьезные ранения, так что пока еще старший самец надеялся на чистый блеф. И если бы сейчас нарушитель границы спасовал и ринулся наутек, хозяин даже не стал бы себя утруждать долгим преследованием, ограничившись лишь демонстративным пожиранием остатков добычи и, возможно, не одной кучей помета, оставленной при следующем обходе границы…
Однако противник не побежал. Более того — осознав, что ему угрожают, он тут же повернулся к противнику мордой, оскалив зубы, тогда как сам хозяин, поперхнувшись собственным голосом, даже сделал пару шагов назад, едва не запнувшись о собственные лапы.
И если бы этому алраузуху была доступна живая мимика его далеких потомков, можно не сомневаться, сейчас на его морде черным по белому было бы написано «Смущен». Ибо до этого он воспринимал соперника исключительно как зарвавшегося щенка, которому грешно было не устроить хорошую трепку, но теперь…
Теперь глядя на жестоко перекошенную морду, огромный белесый рубец, превративший кожу в затвердевшую маску, и торчащие в разные стороны длинные желтые клыки, он просто не знал, что ему делать.
Обоняние (с оговорками на присутствующий запашок гнильцы) сообщало, что перед ним — сородич, существо одной с ним породы, такое же мягкое и уязвимое, как и он сам, тогда как огромные глаза хищника, приспособленные четко видеть даже в условиях надвигающейся полярной ночи, неумолимо твердили: это ужасное чудовище, с изуродованными костями и капающей из пасти зловонной слюной, неизвестное и, возможно, очень, очень опасное! Вдобавок, словно чувствуя неуверенность соперника, младший алраузух не стал упускать шанса и тут же пошел в наступление, опустив голову и мало не подпрыгивая на своих кривых лапках, точно уличный паяц, решивший как следует поразвлечь собравшуюся толпу. Даже глупая рыба, увидав этакое чудище, скорее всего, не стала бы с ним связываться — врожденную систему опознавания «свой-чужой» просто закоротило бы от столь необычного зрелища, и животное не знало бы, как себя вести: воспринимать «это» как добычу, сородича, неведомую тварь с неизвестными возможностями? Алраузух был значительно умнее рыбы — собственно, это был самый умный хищник в этих краях, по «мозговитости» вполне сравнимый с развитыми рептилиями — но даже он не мог решить, как ему поступить, а потому шаг за шагом отступал назад, к спасительной кромке хвощовых зарослей, пока, наконец, жесткие стебли не уперлись ему в зад — и, окончательно струхнув, алраузух рванул наутек.
Он не убежал чересчур далеко — все же был не настолько напуган, да и едва ли инстинкт собственника, уже несколько лет владеющего этими землями, можно было так просто перебороть — однако постарался, чтобы до конца той ночи между ним и жутким кривомордым существом оставалось не меньше сорока метров свободного пространства. Возможно, со временем, если бы чужак продолжал охотиться на этой земле, хозяин настолько привык бы к его необычному облику, что вновь попытался бы прогнать нахлебника… однако наученный горьким опытом «Квазимодо» не собирался задерживаться.
Будучи еще очень молодым самцом, он свободно путешествовал по всему острову, занимая позицию «вечного бродяги», и хотя не всегда его уродство обеспечивало свободный пропуск на чужой участок — так, скажем, около трех месяцев назад ему не повезло забрести на территорию очень старого алраузуха, полуслепого и ориентирующегося в основном на нюх, который плевать хотел на все представления, и в тот раз кривомордому лишь по счастливой случайности удалось вовремя унести ноги — тем не менее, чаще всего бесплатное уличное шоу пермского периода делало свое дело. Не воздействовал его уникальный способ завоевывать чужое уважение разве что на самок: к сожалению, их гораздо сильнее впечатляли размеры, сила и способность постоять за себя в драке, чем перелопаченная кожа на голове и кривые кости черепа, а поскольку вкусы у прекрасной половины алраузухов едва ли собирались меняться в ближайшие миллионы лет, «паяцу», скорее всего, не светило оставить после себя потомство.
К сожалению… или, вернее, к счастью, большинство животных инстинктивно отвергают все, что слишком выходит за рамки нормы. Чуть более мускулистый, но подвижный и ловкий, или же обладающий странным, но не мешающим ему охотиться окрасом самец еще мог претендовать на благосклонность партнерши, однако чересчур уж необычный внешний вид автоматически подвергал все кажущиеся преимущества такого союза сомнению, должно быть, напоминающему то, что испытывает женщина при покупке экстравагантного платья: а, может быть, все-таки остановиться на чем-нибудь более стандартном?.. Вдобавок, самки по природе своей осторожнее самцов — им приходится нести основную ответственность за будущие поколения своего вида, и даже безупречный с виду партнер должен весьма настойчиво доказывать свою привлекательность, как бы отвечая на незаданный вопрос: «Ты должна выбрать меня, потому что я быстрее, ловчее и сильнее остальных, а значит, и наши дети будут такими же». Оставить же после себя здоровое потомство, выгодно отличающееся от родителей — едва ли не главная задача любого живого существа, которое не желает отправить свои гены на свалку эволюции, так что и при хорошем раскладе — мало самцов, много готовых к спариванию самок — у Квазимодо вряд ли были бы хоть какие-то шансы оказаться в числе счастливчиков-отцов! В конце концов, ни одна самка не задумывалась, откуда он получил свои увечья — она судила по фактам, а факты были явно не в его пользу, и если других самцов уродство пугало и вынуждало не связываться, то самки наблюдали лишь природный казус, возможно — врожденный, генетическую аномалию, что могла выродиться в увечных или мертвых детенышей. Ни одна будущая мать не смогла бы добровольно обречь свое потомство на такую участь — при виде урода ее обуревал инстинктивный ужас, неприятие, а порой — и агрессия по отношению к несчастному, так что после единственного сезона спаривания изрядно потрепанный Квазимодо был вынужден перейти на исключительно холостяцкий образ жизни.
И не сказать, чтобы его так уж расстраивало. Конечно, организм «понимал», что что-то здесь не так, и каждый брачный сезон зверь чувствовал нарастающую тревогу, терзающее ощущение пустоты там, где обычно полагалось быть осторожности и покою… но — сезон проходил быстро, всего за пару недель, после чего алраузухи успокаивались и возвращались к своему обычному, размеренно-неторопливому образу жизни. Так что с этой точки зрения то злосчастное наводнение пару лет назад, во время которого молодого самца унесло потоком и, даже вышвырнув на берег, дополнительно придавило сверху тушей дохлого эннатозавра (для сравнения представьте, что на лисицу обрушился бы мертвый кабан. Представили?..), пошло ему только на пользу. Размокшая от проливных дождей земля не позволила его черепу сложиться в лепешку, да и торчащие из-под земли корни каламитов слегка удержали массивного родича котилоринха от перспективы размазать вполне себе живого хищника тонким слоем, так что со временем покалеченному алраузуху удалось выцарапаться наружу и, хромая на все четыре лапы, скрыться в зелены зарослях.
Едва не погубив его во цвете лет, взамен наводнение обеспечило ему благополучное выздоровление — в прибрежных кущах осталось полным-полно задыхающейся рыбы и туш дохлых животных, что легко могли прокормить не один десяток голодных, так что на первый период восстановления, когда охотиться было труднее всего, судьба целиком и полностью обеспечила Квазимодо легкой добычей. Конечно, через месяц все это гастрономическое изобилие сгинуло, оставив на память о себе лишь обглоданные кости, но к тому времени алраузух уже вполне поправился и мог позволить себе вернуться к обычной охоте… хорошо — не совсем обычной. Пришлось заново привыкать к собственному телу, подстраиваясь под новые челюсти — увы, не такие прочные и часто ноющие, но вполне успешно справляющиеся с некрупной дичью, которой для одинокого охотника всегда хватало.
Собственно, весь этот остров и был раем для некрупных хищников — если на материке ближайшая родня алраузуха вырастала до размеров волков (а некоторые особо наглые замахивались и на тигриные габариты), то здесь, на ограниченном пространстве, со всех сторон окруженном морем и лишенном постоянной связи с «матерой» сушей, большому охотнику было просто не прокормиться. Крупнейшее местное животное — эннатозавр, похожий на ужасно толстую ящерицу — хищнику покрупнее мог бы послужить только закуской, и всего через несколько миллионов лет, когда море окончательно отступит, а на бывший остров хлынут волны переселенцев с материка, популяция этих примитивных травоядных быстро сойдет на нет под гнетом более прогрессивных пожирателей растительности и их плотоядных потребителей. Последние казеиды, одни из немногих уцелевших примитивных синапсид, скажут свое «прости-прощай» этому миру, после чего лишь отдельные представители первых зверообразных, низведенные до положения невзрачных «ящериц», еще будут какое-то время шнырять под лапами размножившихся родичей алраузуха, пока не исчезнут окончательно.
Но до тех пор еще далеко, и пока что эннатозавры вполне процветают, пусть и близко не напоминая размерами своих огромных родственников из Северной Америки. Жизнь на острове явно не пошла на пользу крупногабаритным существам, и это, к слову, широко известный факт: за всю историю Земли, учитывая и современные примеры, можно насчитать несколько сотен случаев, когда большие животные, попадая в ограниченные условия острова, изрядно уменьшались в габаритах, если не образуя новые виды, то уж, по крайней мере, становясь «лилипутским» подвидом своих континентальных предков. Это случится еще не один раз, и во времена динозавров, когда по Европейским островам будет странствовать карликовый мадьярозавр, длинношеий родственник североамериканских титанозавров, но ростом с пони, и еще через шестьдесят пять миллионов лет, когда на островах Чаннел у берегов Калифорнии появится миниатюрная серая лисица размером с домашнюю кошку. «Островная карликовость» — так назовут этот феномен ученые, и алраузухи станут одним из наиболее ранних его примеров, свидетельствующим о том, что даже в далеком пермском периоде эволюция работала по тем же законам, что и сейчас. Естественный отбор, точно умелый гончар, вылеплял из базового варианта животного наиболее приспособленную к сложившимся условиям форму, и если «в фаворе» у эволюции оказывались гиганты — что ж, всего за несколько тысяч лет размеры животных могли увеличиться многократно; если же предпочтение отдавалась карликам, то каждое новое поколение оказывалось пусть на волосок, но мельче своих родителей. И так — до бесконечности, покуда хватит потенциала у данного конкретного вида, либо пока условия в местах обитания не станут более стабильными и не позволят спокойно развиваться некой конечной форме.
Что будет, если условия снова поменяются?
Ну, как говорится, опоздавших не ждут. Естественно, при резкой смене обстановки выгодно будут отличаться небольшие, часто размножающиеся животные — у них смена поколений занимает не так много времени, как у крупных, так что подрастающий «динозавр» только-только вступит в пору зрелости и приготовится к первому в жизни брачному сезону, а какой-нибудь мелкий «зверек» у него под ногами уже успеет отжить свое и на прощание наплодить целую армию детей и внуков. В таком случае, как бы ни были могучи и свирепы гиганты, преимущество останется за их меньшими конкурентами, так что, вполне вероятно, если на этот остров в древнем море и попадали крупные плотоядные (плоты из поваленных деревьев или чистую везучесть оказаться вовремя выброшенным на берег никто не отменял), им едва ли удавалось продержаться дольше нескольких лет.
Поэтому алраузухи и выжили в своей хрупкой Лилипутии, крошечной стране миниатюрных животных, спрятавшейся под боком империи великанов: еще один эксперимент эволюции, забавный выверт развития, что однажды без сомнений проиграет «гонку вооружений» своим материковым родственникам, после чего вслед за нелепым Квазимодо отправится в выгребную яму истории.
Этим животным уже никогда не стать нашими прямыми предками.
Ибо знакомство с ними еще ждет нас впереди…
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Алраузух (Alrausuchus, «крокодил из Алрау») — род биармозухов. Мелкий хищник с черепом не больше десяти-пятнадцати сантиметров в длину, общая длина тела — около метра, животное было размером с лисицу. Череп высокий, удлиненный, с крупными глазницами (заднюю часть которых занимали челюстные мышцы) и хорошо выраженными верхними клыками, все остальные зубы мелкие. Скелет легкий, конечности длинные, кисти и стопы широкие. Вероятно, столь ярко выраженная карликовость (по сравнению с ближайшими родственниками алраузуха) была связана с жизнью на ограниченном пространстве и скудной кормовой базой.
Казанское море — залив океана Панталасса, существовавший в казанском веке пермского периода и протянувшийся вдоль Уральских гор, от Кавказа до Северного Ледовитого океана, с юго-востока на северо-запад. Изначально соединялось с мировым океаном через южный и северный проливы, но позже оба пролива исчезли (сначала южный, затем северный), а море постепенно пересохло. Большая часть ископаемых Приуралья известна с восточного берега Казанского моря, тогда как фауна, к которой относится алраузух — одно из немногих западных исключений.
Биармозухи (Biarmosuchidae, «крокодилы из Биармии», в честь исторической области на севере Восточной Европы) — семейство примитивных терапсид; возможно, входит в состав подотряда дейноцефалов или в особый подотряд биармозухов (Biarmosuchia). Размеры от мелких до крупных, длина черепа — от 10 до 40—55 сантиметров, возможно, у некоторых видов достигала 70—75 сантиметров. По строению черепа близки к пеликозаврам, хотя у биармозухов уже хорошо выделяются крупные саблевидные клыки, а челюстные мышцы у них были гораздо сильнее. Строение туловища все еще близко к «рептильному» типу примитивных синапсид, хотя постановка конечностей уже ближе к той, что характерна для поздних терапсид и млекопитающих. Вероятно, биармозухи были околоводными хищниками, довольно подвижными по меркам своего времени; возникнув в среднем пермском периоде, стремительно достигли расцвета и вымерли к концу перми.
Никтифрурет (Nyctiphruretus, «несущий ночную стражу») — род примитивных рептилий, внешне похожих на ящериц. В длину достигали 30—40 сантиметров, отличались крупными глазницами и большим теменным глазом. Вероятно, имелась солевая железа для избавления от избытка соли в организме. Скорее всего, питались растительностью, как современные морские игуаны, но нельзя исключать и насекомоядность.
Каламиты (Calamitales, от греческого «kalamos» — «тростник») — порядок родственников современных хвощей, достигавших 10—20 метров в высоту. Возникли в позднем девонском периоде, были широко распространены в каменноугольном, но в пермском, в связи с осушением климата, начали постепенно исчезать, сохранившись в наиболее влажных регионах планеты до начала триаса. Внешне несколько напоминали современные хвощи: обладали ребристыми членистыми стволами и ветками, имели длинные узкие листья, растущие на каждом узле.
Никказавр (Nikkasaurus, в честь палеонтолога Николая Николаевича Каладандадзе) — род примитивных терапсид, очень мелкое насекомоядное животное с длиной черепа около пяти сантиметров. Отличался огромными глазницами, двумя типами зубов (передние игловидные, задние расширенные, трехвершинные) и крупным теменным глазом. Тело стройное, шея и хвост относительно длинные, конечности высокие. Вероятно, никказавр вел ночной или сумеречный образ жизни, был сравнительно подвижным животным.
Лантаниск (Lanthaniscus, «скрытный») — род примитивных рептилий, родич никтифрурета, халкозавра и парейазавров. Длина черепа около семи сантиметров. Череп плоский, скульптурный, с костными шипами на щеках и затылке. Зубы мелкие и острые, вероятно, животное питалось мелкими членистоногими и другими беспозвоночными. Скорее всего, лантаниск вел полуводный образ жизни, не исключено обитание в соленых озерах и прудах.
Няфтазух (Niaftasuchus, «крокодил из Усть-Няфты») — род примитивных терапсид, питавшихся мягкой растительностью, возможно — и беспозвоночными. Передние зубы долотообразные, задние — листовидно-режущие, смена происходила постоянно, о чем может свидетельствовать находка черепа молодой особи няфтазуха с копролитом (окаменевшим пометом), содержащим зубы взрослого, в ротовой полости — это один из древнейших признаков копрофагии среди наземных животных, когда молодые едят помет взрослых, чтобы пополнить запас микрофлоры, необходимой для переваривания пищи (так же поступают, к примеру, современные слоны).
Эннатозавр (Ennatosaurus, «девятый ящер») — род казеид, вероятно, последний из всего семейства и единственный из обнаруженных на территории России. Длина черепа около двадцати сантиметров — примерно столько же, сколько у котилоринха, но при этом эннатозавр обладал довольно крупной головой, и общую длину животного оценивают примерно в полтора метра. Крупные глазницы, зубы уменьшаются спереди назад, обладают зазубренными вершинами. Вероятно, питался водорослями, которые отрывал передними зубами и глотал целиком. Найден, но не сохранился отпечаток шкуры — складчатой и морщинистой. Обитал на морском побережье, много времени проводил в воде.
Овца в волчьей шкуре

266 миллионов лет назад
Южная часть Пангеи
Территория современной Южно-Африканской республики, пустыня Кару
Вспугнутый пофыркивающим, деловито обкусывающим растения рылом, эунотозавр, похожий на малость раздавленную пятнадцатисантиметровую ящерицу, попытался спастись бегством, но пасущаяся джонкерия оказалась проворнее. Короткое боковое движение вытянутой морды — и вот уже неосторожная рептилия оказалась намертво зажата в небольших, но крепких клыках, что без труда пронзили даже внутренний «панцирь», состоящий из девяти пар расширенных ребер. Спустя пару мгновений жизнь покинула маленькое тельце, и невозмутимая джонкерия, все так же похожая на флегматичного бегемотика, спокойно отправила добычу в желудок, после чего вернулась к пожиранию папоротников.
Как и современные свиньи, она никогда не гнушалась тем, чтобы разнообразить свое вегетарианское меню пищей животного происхождения, более того — это доставляло ей ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно если получалось наткнуться на гнездо с отложенными яйцами или на чей-нибудь разлагающийся труп, гниющее мясо которого уже начало отваливаться от костей. Объемистое брюхо этой великанши без труда переваривало все, что в него попадало, справляясь даже с грубыми и малопитательными растениями среднего пермского периода, которые приходилось долго разминать многочисленными щечными зубами, дабы превратить эту жесткую массу во что-нибудь более-менее съедо…
Ах ты ж, не успела!
Видимо, малютка-робертия — дальняя родственница самой джонкерии, похожая на покрытую редкой щетиной морскую свинку — заранее почувствовала приближение опасности, и, отбежав на безопасное расстояние, сердито засвистела, раздосадованная, что ей помешали в поисках еды. Несмотря на скромный размер — в длину она ненамного переросла эунотозавра, хотя и выглядела массивнее из-за округлого тельца и куцего хвоста — робертия являлась представителем славной, только-только набирающей силу группы дицинодонтов, высших синапсид, в самом скором будущем обещающей сменить нынешних властелинов суши на арене жизни… хотя до этого знаменательного момента оставался еще не один миллион лет, тогда как здесь и сейчас, в месте, которое когда-нибудь станет небольшой южноафриканской пустыней Кару, бал правили другие синапсиды, пусть и более примитивные — обширная «сборная солянка», известная из всех уголков мира и всем скопом именуемая дейноцефалами, то бишь «ужасноголовыми».
Назвали их так, в общем-то, заслуженно, хотя по джонкерии этого и не скажешь, так что, дабы в полной мере оценить справедливость данного имени, советую оставить «бегемотика» за спиной и отойти чуть подальше, к растущему на возвышенности редкому леску из древовидных папоротников — пятнадцатиметровых глоссоптерисов, чем-то похожих на гибрид сосны с пальмой. Эти причудливые растения, от которых до наших дней сохранились лишь отпечатки листьев и окаменевшие корни, оказались весьма примечательным изобретением эволюции — следы их находят по всему миру, а последние упоминания о глоссоптерисах датируются юрским периодом, то есть они умудрились продержаться на планете еще добрые сто миллионов лет, надолго пережив львиную долю своих современников. Мало какая группа растений может похвастать таким долголетием… так что, пожалуй, мы с ними еще не раз встретимся, а потому — довольно ботаники. Глоссоптерисы, конечно, заслуживают внимания, но во времена их появления на Земле жило немало других существ, которым, увы, судьбой был отмерен не столь долгий срок, так что давайте-ка уделим больше внимания еще одному, куда более любопытному виду дейноцефалов, тем паче, что, судя по громким крикам, мы успели как раз вовремя. Недавно разлившаяся река только-только оставила захваченные паводком территории, и если живущие в низинах джонкерии и похожие на них лобастые тапиноцефалы еще ждут подходящего времени, дабы отложить свои кладки, на возвышенностях земля уже вполне готова стать чьим-нибудь гнездом, а посему кератоцефалы — чуть менее крупные, но массивные создания с похожими на каменные колонны лапами и тяжеленными головами — приступили к брачным игрищам, привлекая внимание самок.
На этот период молодняк кератоцефалов предпочитал держаться от взрослых животных подальше — относительно легко сложенные, с отнюдь не такими уж крепкими черепами, они сильно рисковали, если приближались к разгоряченным самцам вплотную, так что, углубившись в лес, мы с большой долей вероятности наткнулись бы именно на матерых «быков», каждый из которых не уступал габаритами племенному бугаю. Опознать же представителей сильного пола у кератоцефалов было просто: если субтильные самки немногим отличались от своих низинных родственников, самцы с гордостью носили свои «опознавательные знаки» — плоские, похожие на застрявшее во лбу лезвие топора рога, что уже окрасились в ярко-алый цвет, весьма заметный для глаз этих странных созданий, большая часть мира которых воспринималась как пестрая смесь различных оттенков зеленого и коричневого. Бархатисто-шоколадный початок хвоща или яркий изумруд подрастающих папоротников — все это вызывало у них чисто гастрономический интерес, голубое небо (о существовании которого они чаще всего просто не задумывались) или белый туман (что лишь заставлял их трясти головами чаще обычного, прочищая ноздри) они вообще не замечали, но вот красный — о, красный приводил их в невероятное возбуждение. В окружающем мире этого цвета было немного — красноватая почва, слегка напоминающая марсианскую, травоядных не интересовала, а вот темно-алая кровь из свежей раны или пламенеющая «нашлепка» на голове сородича — это уже гораздо, гораздо интереснее, поэтому, как только до примитивных мозгов достучалась мысль, что красного вокруг стало слишком много, кератоцефалы начали беспокоиться, и в застывшем влажном воздухе далеко разнеслись их гортанные вопли.
Слишком много животных в одном месте, слишком много!
Обстановка накалялась, и тому были веские причины. Большую часть года кератоцефалы не сбивались в большие группы — подобным тушам требовалось немало пищи, чтобы покрыть свои энергетические расходы, а чрезмерной питательностью местная флора не славилась, так что все травоядные держались по двое-трое, максимум — пятеро особей, и лишь на период размножения или во время природных катаклизмов (скажем, наводнения) кератоцефалы сбивались в настоящие стада, способные за пару дней под корень «выкосить» целый заливной луг. Драться за пищу, естественно, никому не хотелось, поэтому, если условия складывались в их пользу, дейноцефалы отнюдь не тяготели к обществу себе подобных, и даже члены одной группы, находясь на кормежке, предпочитали гордое одиночество…
Но сейчас — особенный случай.
Вот один из самцов, крупнейший на этом сборище, поднял тяжелую морду, выпрямившись на сравнительно длинных передних лапах, и начал ритмично покачивать головой вверх-вниз, демонстрируя свой рог. Вверх-вниз, вверх-вниз — не прошло и пары минут, а к «запевале» уже присоединились и другие претенденты на звание короля местного бала, превратив всю поляну в колеблющееся под ветром маковое поле. Самки в представлении участия не принимают — они ждут поодаль, высматривая самого симпатичного самца, и ждать им приходится долго: эти брачные игрища порой длятся по несколько дней, ведь на смену уставшим «танцорам», признавшим свое поражение, приходят другие, так что под конец останутся только самые выносливые и упорные — отцы будущего поколения. Время от времени, раздувая горло, то один, то другой кератоцефал начинает сближаться с соперником, медленно и, кажется, почти небрежно, пока не оказывается с ним плечом к плечу и не принимается все интенсивнее вскидывать и опускать голову. Это своеобразное испытание на прочность, и оно редко доходит до чего-то более серьезного, чем нескольких мощных ударов шеями и толчков плечами — куда чаще противники ограничиваются демонстрацией, после чего испугавшийся самец отступает, а победитель продолжает свое сольное выступление.
Тут не до отдыха. Отдохнуть можно и позже.
Например, когда признаешь, что еще слишком молод для состязаний со взрослыми самцами (либо, напротив, слишком стар), после чего смиренно покинешь этот праздник рождения, отправившись к реке на водопой. Или на поиски корма — у речных берегов полно мягкой растительности, которую не успели до конца выскрести голодные брадизавры, еще одни местные вегетарианцы, длиной с кератоцефала, но весом поменьше, всего в полтонны. Несмотря на схожесть названия, брадизавры не являются родичами парабрадизавра, с чьей тушей мы познакомились на противоположном конце земного шара — если последнего можно отнести к дальней родне дейноцефалов, брадизавры — самые настоящие добропорядочные парейазавры, примитивные рептилии, никоим боком с предками млекопитающих не связанные.
Эти щекастые создания, покрытые тонкими костяными щитками, большую часть времени торчали в воде и с крупными наземными растительноядными почти не сталкивались, так что все вегетарианцы экосистемы вполне мирно уживались на одной территории. Ради этого использовался тот же трюк, который очень выручает нынешних травоядных в африканских саваннах, а именно разделение пищи на «мое» и «не мое». До отвала наевшись папоротников, ленивый тапиноцефал или разгоряченная солнцем джонкерия могли сколько угодно бродить по мелководью, но водная растительность почти целиком доставалась брадизаврам, тогда как кератоцефалы, отличающиеся крепкими зубами и длинными передними лапами, нередко забирались в разреженные леса и обдирали ветки деревьев, тем самым избегая возможной конкуренции со стороны более массивных равнинных родственников.
Впрочем, несмотря на все эти особенности, «пищевое разделение» все же было нечетким, размытым, и, скажем, в зимний период все животные-вегетарианцы ели, что попадалось, порой устраивая нешуточные потасовки за отмирающие листья папоротников или какой-нибудь гнилой пень! Кератоцефалам в таком случае приходилось особенно несладко — они были сравнительно меньше и легче сложены, чем большинство других дейноцефалов, поэтому нередко жили впроголодь, и сейчас, когда вернувшееся тепло наконец-то выманило из-под земли свежую зелень, старик-кератоцефал с нескрываемым удовольствием обрывал нежные листья папоротников по пути к речному пляжу. Ростки были мягкие и сочные, а голодное животное не страдало отсутствием аппетита, так что кератоцефал даже успел прилично набить желудок, когда сухая земля под его ногами наконец-то сменилась крупным зерном песка, после чего, фыркая и мотая головой, дейноцефал по самую грудь забрался в неспешно бегущие прочь волны, подняв со дна целое облако густого ила.
Пф-ф-ф! — и откуда-то сбоку, стрелой пронзив мутную коричневую завесу, шмыгнул прочь некрупный ринезух — очередной представитель темноспондилов, полутораметровая амфибия, напоминающая головастого крокодильчика. Для более мелких животных — например, робертии — этот хищник еще представлял определенную угрозу (хотя в основном и питался рыбой), но вот крупное травоядное вроде кератоцефала могло вызвать у ринезуха разве что приступ неконтролируемой паники, и земноводное, мирно отдыхавшее под затонувшей корягой, было вынуждено спешно броситься наутек, пока туша, весом в тонну, его не раздавила! Сам же великан на эту мелочь даже не покосился, продолжая стоять, как статуя, в прохладной воде и невозмутимо разглядывать противоположный берег реки налитыми кровью, но уже отнюдь не такими свирепыми глазками.
Возможно, чуть погодя, когда напившаяся дождей река умерит свой пыл, он отправится туда, на неизведанные угодья, где сможет спокойно жировать до самой осени, набивая брюхо свежей зеленью… но сейчас ему вряд ли захочется куда-либо плыть. Широкое плечо молодого соперника довольно чувствительно ударило его в бочину, оставив внушительных размеров синяк, да и трехдневное соревнование, увы, не так-то просто оставить за спиной, если прожил на свете почти девятнадцать лет и закат долгой жизни уже не за горами. Поэтому, дождавшись, когда по телу разольется приятная прохлада, а ноющие мышцы на время забудут о своих повреждениях, старик шумно вздохнул, насильно вытолкнув из легких застоявшийся там воздух, и, пошире расставив лапы, опустил голову к воде, начав жадно пить — больше, больше, заливая до самых краев эту соскучившуюся по живительно влаге утробу!..
…между делом так неосмотрительно подставив уязвимый тыл затаившемуся в прибрежных зарослях хищнику.
В конце концов, очевидно, что там, где в таком изобилии водятся травоядные, обязательно найдется тот, кто проявит к ним истинно гастрономический интерес. И хотя массивный кератоцефал выглядел достаточно внушительно, чтобы дать отпор почти любому плотоядному планеты, облюбовавший его охотник не намеревался менять свой выбор. Более того, одинокий, старый и уставший гигант при всех своих параметрах ненамного превзошел покусившегося на него хищника, который уже моргнул блестящими оранжево-желтыми глазами, покачивая головой из стороны в сторону, дабы точнее определить расстояние до жертвы. Охота входила в финальную стадию, и обиднее всего было бы промахнуться из-за собственной поспешности, так что взрослый самец антеозавра — огромное пятиметровое чудовище, размером с белого медведя — выждал еще некоторое время, пока кератоцефал снова не опустил голову, после чего сумасшедшим рывком бросился вперед. Веся почти шестьсот килограммов и обладая далеко не такими «удобными» конечностями, как современные медведи, этот доисторический охотник вынужден был атаковать жертву из засады: долго, терпеливо ждать в облюбованном месте (порой — по несколько дней), и лишь когда несчастное животное оказывалось вплотную — бронепоездом мчаться навстречу мясистому боку, обхватывать его лапами, вцепляться в загривок и держаться, держаться бульдожьей хваткой! При неудачном захвате сброшенный на землю антеозавр вполне мог погибнуть — размеры размерами, но все добыча весила почти вдвое больше добытчика! — так что удержаться на чужом хребте для него было жизненно важной задачей, и хищник не разомкнул челюстей даже когда ослепленный болью кератоцефал, глухо мыча, бросился на глубину.
Обычно, когда дело касалось более мелких хищников, этот прием срабатывал — не обладая такими объемистыми легкими, похожие на безволосых волков трохозухи отцеплялись еще до того, как дейноцефал достигал середины реки, и спешно возвращались на сушу — но антеозавр был не таков. Словно гигантская пиявка, он буквально прирос к пойманной жертве, терпеливо дожидаясь, пока та притомится в попытках его стряхнуть, и в конце концов его выдержка принесла плоды — утомленный старик, вволю наработавшийся лапами, начал захлебываться сам, а поскольку утонуть в реке было еще страшнее, чем пасть чьей-то жертвой, в конце концов инстинкт самосохранения вынудил дейноцефала возвращаться на берег вместе со смертельным грузом, придавившим ему спину. Грузом, который все так же молча ждал, пока его собственный вес справится с непокорной добычей, и влажные черные ноздри задрожали, когда старый кератоцефал, едва-едва выползший на полосу прибрежного мусора, рухнул на колени, роняя тягучие нити горькой слюны. Суровая зима, брачные игры, внезапное нападение — все это было слишком много для одного старого уставшего тела, и тело начало сдаваться, скребя брюхом по земле и заволакивая глаза кровавой мутью, как ничто иное свидетельствующей о том, что эта битва уже окончена: антеозавр победил.
Ему осталось лишь дотерпеть, пока изнуренная жертва ляжет, уже не в силах подняться, после чего, перехватив ее поудобнее, как следует сжать челюсти и дождаться, чтобы толстые кости захрустели у него на зубах. В отличие от молодых особей с низкими продолговатыми черепами, что предпочитали охотиться в воде и питаться рыбой, взрослые антеозавры на такую мелочь даже не смотрели, а их мощные, чем-то смахивающие на медвежьи головы и длинные клыки явно намекали, какой сорт дичи по вкусу этим гигантам. Уже не сопротивляющемуся кератоцефалу хватило и единственного укуса, как его шейные позвонки превратились в кучу кровавых обломков, огромный бок дернулся один раз, другой — но все же затих, после чего сильное и красивое существо бесповоротно превратилось в груду свежего мяса.
Которому, по крайней мере, не придется лежать бесхозным, дожидаясь какого-нибудь падальщика — антеозавр, в чьем брюхе уже полмесяца водился один только голод, отбросил ненужное терпение, и лапы кератоцефала еще подрагивали в агонии, а длинные зубы его убийцы уже вонзились в мягкое брюхо, без труда раскроив шкуру и добравшись до внутренностей. Мощные челюсти рвали еще теплую плоть без малейший усилий, и вот уже обширная печенка — до нее еще нужно было добраться, минуя невыразимо огромную кучу кишок — целиком в его распоряжении, вкусная, как никогда. Густая темно-вишневая кровь сплошным потоком течет по широкому подбородку, скапывая с клыков, и сейчас, до ушей обмазанный в этой жиже, антеозавр меньше всего походит на близкого родственника самого кератоцефала… но, тем не менее, относительно недавно — какие-то пять миллионов лет назад — общие предки этих двух животных копошились в речной грязи и даже не помышляли охотиться друг на друга! Вместе спали, вместе кормились, вместе грелись на теплых камнях — две непримечательные «ящерки», страшные разве что для жучьих личинок и дождевых червей — но пути эволюции неисповедимы, и в конце концов дорожки этих видов разошлись. Теперь же на болотистой равнине кератоцефалы были самыми обычными пожирателями хвощей и папоротников, тогда как антеозавр гордо занял пьедестал верховного хищника с поистине бездонным брюхом, способным вместить до шестидесяти килограммов мяса — вдвое больше, чем потребовалось бы льву! — за один присест.
Кажется, что это не так уж много, учитывая общие габариты животного, однако не стоит забывать, что антеозавр, как и все его современники, был холоднокровным животным, из той группы, что только-только начала развивать теплокровность, поэтому и запросы у него не были сравнимы с теми, что предъявляют к собственной диете современные млекопитающие хищники. Другое дело, что через какое-то время зверь вполне может проголодаться и наесться повторно, так что далеко сытый антеозавр не уйдет, заляжет переваривать обед где-нибудь неподалеку. Весна уже в разгаре, так что едва ли стоит ждать особых неприятностей с добычей пропитания, но пермский климат все же был далеко не курортным, и за тяжелой зимой вполне могло нагрянуть засушливое лето, поэтому отъедаться следовало впрок. И когда буквально в двух шагах от жадно рвущего мясо антеозавра из зарослей хвощей высунули две любопытные мордочки трохозухи — этих проныр легко было опознать по сразу четырем клыкам, солидно торчащим из верхней челюсти — громадный хищник лишь негромко фыркнул, немедленно заставив меньших плотоядных унести лапы.
Недалеко, естественно. Они еще вернутся.
Они всегда возвращаются.
Может быть, чуть погодя, ближе к полудню, когда наконец-то наевшийся антеозавр отковыляет в сторону, чтобы лечь на теплом песочке и устроить тяжелую голову на вытянутых передних лапах?..
Впрочем, даже тогда он не утратит бдительности. Снисходительный добытчик, всегда готовый уступить остатки своего обеда, тем самым ставит под угрозу собственную жизнь, так что задремавший антеозавр совершенно точно чуял копошение трохозухов в кустах, пусть и не мог их видеть. Его широкие ноздри вбирали воздух с каждым вдохом, а мозг анализировал запахи даже в тех случаях, если в этом не было прямой необходимости. Кого было бояться антеозавру, крупнейшему из всех наземных хищников на планете?.. Да никого. Просто оставшаяся с детства привычка, которая со временем становится второй натурой, а в этом суровом мире не было таланта лучше, чем способность постоянно быть настороже. Ибо титул «сильнейшего» не будет стоить даже старой кости, если вовремя не заметить приближающуюся опасность, и антеозавр не собирался подвергать себя риску только из-за глупой самонадеянности!
Так что… ну вот, пожалуйста, слабенькая струйка… Ага. За поваленным стволом притаилась эллиотсмития, удивительно похожая на маленького варана — одна из последних наследниц нашего старого друга ватонгии, доживающая последние деньки в тени более прогрессивных родственников. Увы, но время похожих на рептилий примитивных синапсид прошло, а их место прочно занимали новые, более совершенные животные, которым предстояло править на планете еще, по меньшей мере, пятнадцать миллионов лет.
И, судя по вот этой усатой мордочке, высунувшейся из-под пышных зарослей папоротника, молодой ликозух — родич трохозуха, только размером с дворняжку — был готов начинать праздновать хоть прямо сейчас. При этом бодрствование хозяина добычи его ничуть не беспокоило — в отличие от тяжелого антеозавра, этот хищник был достаточно ловок, чтобы спастись бегством даже из-под занесенной для удара лапы, так что дремлющий гигант и глаза не открыл, пока довольный до кончика хвоста воришка отрывал себе положенный кус.
Правда, далеко унести добычу у него не получилось — там, где воруют, столь же легко могут и отобрать сворованное, а голодные трохозухи не стали расшаркиваться, когда увидели меньшего родственника с пищей в зубах. Ликозуху еще повезло, что спасся — работавшие в паре охотники просто вынудили его выронить мясо, зажав в клещи, а щелчок челюстей был скорее подобен стимулирующему шлепку, чем реальной попыткой разорвать неудачника на части. Обиженное верещание было тому прямым подтверждением — верещание, а не предсмертные хрипы, после чего мгновенно передравшиеся за трофей трохозухи облизали окровавленные морды и снова заняли свои посты. Они терпеливы. Рано или поздно они получат требуемое, и тогда будут предаваться чревоугодию до тех пор, пока в их животиках еще будет оставаться свободное место, не занятое пищей.
А пока им остается только ждать.
Этот кератоцефал пролежит на берегу реки еще, по меньшей мере, пару дней. Антеозавр может съесть много, но столько мяса не запихнет в себя даже он, так что пищи хватит на всех. В конце концов, привлеченные чарующим душком начавшего протухать мяса, у берега покажутся даже равнодушные ринезухи, и будут молча разевать зубастые пасти, намекая мелким четвероногим, что крупным амфибиям тоже положена своя доля общего пирога. И трохозухи, смешно дергая усами, начнут выплясывать вокруг этих «живых бревен» возмущенные танцы, то приседая, то неловко подпрыгивая, то приближаясь, то вновь отшатываясь в сторону, то ли действительно пытаясь прогнать конкурентов, то ли просто забавляясь с медлительными темноспондилами, не способными, случь-что, пробежать… хорошо, хорошо, бодро прошагать и пары метров. И массивные кости кератоцефала, до этого скрытые под толстым слоем шкуры и мяса, постепенно вылезут наружу, обнажая кишащие хищными многоножками внутренности, так что даже когда от туши останутся лишь отдельные части скелета, растащенные в разные стороны, на месте гибели травоядного гиганта еще какое-то время будут шмыгать охочие до мелкой дичи эллиосмитии, пока, наконец, вода не замоет окровавленный песок, и жизнь на речном берегу не вернется в прежнее русло.
Сам же антеозавр к тому времени давно как пропадет из виду — вслед за бурными брачными праздниками растительноядных животных наступит и его черед искать себе пару на этот сезон, дабы дать начало новому поколению огромных убийц. Поиски предстоят нелегкие — как и все крупные плотоядные, хищные дейноцефалы держались поодиночке, разделенные внушительными пространствами, так что этому самцу придется пройти не меньше двух-трех километров (солидное расстояние для столь неповоротливого существа), прежде чем запах помета или, еще лучше, особые метки на стволах деревьев подскажут ему: «вот оно». Его избранница совсем близко. Осталось всего-то ничего: найти ее, произвести впечатление, при необходимости — приструнить особо наглого соперника, если вдруг окажется, что у гордой красавицы в этом году не один поклонник! И, в отличие от старика-кератоцефала, которого он задавил, этот самец был уверен в успехе. Может, он и не настолько крепок, как когда-то в молодости, но огонь жизни в нем горит достаточно ярко, так что он не проиграет. Его сила, его вес, его мощные челюсти — все преимущества на его стороне, и они еще пригодятся будущим поколениям, поэтому можно не сомневаться, что не пройдет и месяца, как он уже вернется на свою территорию и, уставший, но удовлетворенный, спокойно продолжит свое холостяцкое существование, между делом позволив появиться на свет еще одному выводку своих сородичей — этих самых странных из всех хищных синапсид.
И хотя, как довольно многочисленное семейство дейноцефалов, антеозавры продержатся на Земле еще совсем недолго, буквально через какие-то пару миллионов лет уступив права лидерства другим, менее громоздким хищникам, пока что их власть все еще неоспорима, и на залитом солнечным светом берегу, в легкой сетке теней от шелестящих листьев глоссоптерисов, лежит шестисоткилограммовое чудовище, этакая саблезубая овца, решившая, что питание папоротниками — это не по ней, после чего ставшая одним из самых крупных наземных плотоядных, каких до сих пор знала планета.
Лишь много позже, уже на закате расцвета синапсид, природа исхитрится создать нечто столь же огромное…
Но это, как говорится, уже совсем другая история.
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Эунотозавр (Eunotosaurus, «ящер с мощным хребтом») — род примитивных рептилий, наиболее возможный предок черепах. Достигал в длину пятнадцати сантиметров. Отличался девятью парами расширенных ребер, которые формировали некое подобие панциря. Насекомоядное животное, питавшееся различными беспозвоночными.
Дейноцефалы, диноцефалы (Deinocephalia или Dinocephalia, «ужасноголовые») — отряд примитивных терапсид, отличающихся развитием утолщений костей черепа — пахиостозов. Достигали в длину шести метров, весили до полутора тонн. Крупный череп, мощные резцы, но коренные зубы развиты значительно слабее; тело мощное, хвост относительно короткий; передние лапы обычно длиннее задних, широко расставлены в стороны. Хищные, всеядные и растительноядные виды. Вероятно, были распространены по всей Пангее, являлись доминирующими сухопутными животными среднепермской эпохи. Обитали в прибрежных лесах и речных долинах, многие вели полуводный образ жизни. Вымерли к концу средней перми в результате осушения климата и конкуренции с дицинодонтами.
Джонкерия (Jonkeria, возможно — в честь Йонкера Африканера, верховного вождя народа нама) — род растительноядных или всеядных дейноцефалов. Череп низкий и длинный, мощные резцы, крупные клыки и многочисленные ложковидные щечные зубы. Скелет чрезвычайно массивный, общая длина животного могла достигать 3—5 метров.
Дицинодонты (Dicynodontia, «два собачьих зуба») — инфраотряд высших терапсид в составе аномодонтов, доминирующие сухопутные растительноядные животные позднего пермского и раннего триасового периодов. Для многих видов характерно полное исчезновение зубов, кроме двух мощных верхних клыков — вместо этого челюсти животных, вероятно, покрывал роговой клюв, как у черепах. Размеры дицинодонтов колеблются от 20 сантиметров до 4,5 метров, большинство видов достигали, в среднем, двух метров длины и сотни килограммов веса. Останки дицинодонтов обнаружены на территории всех континентов, включая Антарктиду. Окончательно вымерли ко второй половине триаса; череп австралийского «дицинодонта», датированного ранним меловым периодом, на самом деле оказался принадлежащим сумчатому млекопитающему, жившему уже в кайнозойскую эру.
Робертия (Robertia, в честь Роберта Брума, южноафриканского палеонтолога и коллекционера окаменелостей) — род мелких примитивных дицинодонтов. Длина тела около двадцати сантиметров, характерны большие глазницы и крупные клыки, а также длинные и острые когти. Вероятно, животное умело копать и жило в норах, питаясь как растительной пищей, так и мелкими беспозвоночными животными.
Глоссоптерисы (Glossopteridaceae, «языкоперые») — семейство растений, родственных семенным папоротникам, появившееся в начале пермского периода, процветавшее до его конца и окончательно исчезнувшее во второй половине триаса. Листья языковидные, от десяти до тридцати сантиметров длиной, хотя встречаются виды с листьями метровой длины. Считается, что это были деревья, высотой до тридцати метров, однако в приполярных регионах, скорее всего, произрастали лишь сравнительно невысокие кустарники. До наших дней сохранились в основном отпечатки листьев и корни, по которым можно судить, что глоссоптерисовые леса были распространены по всей Пангее.
Тапиноцефал (Tapinocephalus, «низкоголовый») — род растительноядных дейноцефалов. Очень крупные животные, длина тела до 4 метров, вес — до 1—1,5 тонн. Морда относительно короткая, зубы слабые. Пахиостоз чрезвычайно развит, из-за чего лобная часть черепа имела куполообразный вид.
Кератоцефал (Keratocephalus, «рогоголовый») — род растительноядных дейноцефалов, в длину достигавших 2,5—3 метров, весом до 1 тонны. Пахиостоз неравномерный, и между глазами животного находился своеобразный плоский рог, вероятно, использовавшийся во время брачных ритуалов.
Парейазавры (Pareiasauridae, «щекастые ящеры») — семейство примитивных рептилий, одни из доминирующих растительноядных животных второй половины пермского периода. В длину достигали 3,5 метров, вес доходил до тонны. Массивные животные с короткой мордой, относительно компактным туловищем и толстым хвостом. В коже спины и головы этих ящеров формировались костяные бляшки, которые придавали шкуре бугристый вид, как у современных жаб. Вероятно, вели околоводный образ жизни и много времени проводили в воде, как бегемоты, питаясь мягкой донной растительностью. Останки этих животных известны из Южной Америки, Африки, Европы и Китая.
Брадизавр (Bradysaurus, «медленный ящер») — род наиболее примитивных парейазавров, достигавших в длину 3 метров; по-видимому, является предковой формой, от которой берут начало все остальные парейазавры.
Ринезух (Rhinesuchus, «носатый крокодил») — род темноспондилов, представляющих собой переходную форму между более примитивными пермскими лабиринтодонтами и прогрессивными хищными амфибиями триасового периода. Череп длиной около 30 сантиметров, общая длина тела равнялась 1,5—2 метрам. Зубы мелкие и многочисленные, вероятно, животное питалось рыбой. Вело исключительно водный образ жизни.
Антеозавр (Anteosaurus, «ящер-Антей», в честь великана из греческой мифологии) — род хищных дейноцефалов, одни из крупнейших плотоядных синапсид. Длина черепа до 80 сантиметров, длина тела — до 6 метров, вес — около 600 килограммов. Короткий и массивный череп, особенно у старых животных — у молодых он более вытянутый и низкий. Крупные резцы и клыки, заклыковые зубы мелкие. Скелет относительно легкий, тело компактное, передние лапы длиннее задних, хвост короткий. Вероятно, обитал по берегам водоемов, молодые животные вели полуводный образ жизни, а взрослые были сухопутными, что снижало конкуренцию между антеозаврами различных возрастов. Охотился на крупную дичь, скорее всего, скрадывал приходящих к водопою животных из засады.
Тероцефалы (Therocephalia, «звероголовые») — подотряд терапсид, одна из высших форм развития синапсид. Вероятно, родственны как горгонопсам, так и цинодонтам. В основном — мелкого и среднего размера хищники, крупные животные среди тероцефалов появились лишь в поздней перми. Несмотря на достаточно прогрессивное строение, сохраняли множество архаичных черт, отличавших их от цинодонтов. Ранее считались предками цинодонтов или даже непосредственными предками млекопитающих, но относительно недавно было доказано, что это не так. Появились в среднем пермском периоде, просуществовали до второй половины триаса; вымерли из-за конкуренции с высшими рептилиями и цинодонтами.
Трохозух (Trochosuchus, «барсук-крокодил») — род примитивных тероцефалов, хищные животные, размером с некрупного волка. Характеризуются наличием сразу четырех функционирующих клыков на верхней челюсти (на нижней — только два клыка) и практическим отсутствием заклыковых зубов — животное могло только отрывать от добычи куски мяса и глотать их целиком. Вероятно, охотился на мелких позвоночных, как это делают лисы и койоты, но при случае мог подбирать остатки чужой добычи.
Эллиотсмития (Elliotsmithia, в честь сэра Графтона Эллиота Смита, известного британско-австралийского анатома) — род варанопсеид, одна из последних представительниц пеликозавров. Насекомоядное животное, внешне похожее на крупную ящерицу, в длину достигало полуметра и охотилось на крупных беспозвоночных. Характеризуется наличием мелких костных пластин на спине.
Ликозух (Lycosuchus, «волк-крокодил») — род примитивных тероцефалов, хищники средних размеров, достигавшие в длину 1,2 метра. Как и трохозухи, характеризуются четырьмя клыками на верхней челюсти, хотя у ликозуха эти клыки несколько короче.
Мокрый мир

265 миллионов лет назад
Северо-западное побережье Пангеи
Территория современной России, Оренбургская область
С полудня подул ветерок, и казалось, что если он усилится еще ненамного, что если он поднимется выше, к липкой пленке серых туч, и все-таки сумеет заставить их хоть чуточку развеяться, хоть ненадолго прервать эту осточертевшую череду вялых дождей!.. — но нет, нет, живительный порыв воздуха к закату стих, даже не успев толком окрепнуть, после чего поистине неисчерпаемая губка, нависшая над речной долиной, щедро выжала на нее еще одну порцию моросящей влаги.
Кап, кап, кап, кап — для старого улемозавра эти звуки уже давно стали чем-то вроде повседневной колыбельной, так что гигантский дейноцефал, размером с носорога, с превеликим трудом заставлял себя подниматься со своей лежки и, покачиваясь и неторопливо переставляя похожие на тумбы лапы, спускаться по склону пологого холма к самой кромке воды, где всегда можно было найти что-нибудь съедобное. Как и прочие его сородичи, улемозавр был не самым привередливым едоком, и если ему не удавалось найти достаточное количество молодых хвощей — он начинал обрывать папоротники, терпеливо перетирая их своими плоскими передними зубами, а коли уж не хватало и папоротников — что ж, вздувшаяся река щедро заваливала берег отмершими стволами каламитов, гниющими водорослями и прочим растительным мусором, за которым даже далеко ходить не приходилось: стой да ешь себе!
И, в общем-то, именно этим он и занимался почти все отведенное ему время бодрствования, то есть грыз, отрывал, методично пережевывал и, подержав некоторое время комок пищи во рту, величаво сглатывал, кося по сторонам безмятежным светло-коричневым глазом. Лишь изредка, будто смутно что-то припоминая, улемозавр вскидывал лобастую голову, отдаленно похожую на лошадиную, и начинал кивать ею в полузабытом танце… но эти периоды старческого помутнения проходили быстро, и вот уже, опомнившись, животное возвращалось к прерванной трапезе, столь же невозмутимое и ко всему равнодушное, как и прежде. Есть, пить и спать — в его жизни не осталось никаких других удовольствий, кроме этой закадычной троицы, потому как польститься на трехтонное животное в этих краях было просто некому, а потому доживающий свой век реликт прошлого поколения был целиком и полностью предоставлен самому себе. Даже непризнанная королева всей долины, взрослая самка титанофонеуса — четырехметровая родственница антеозавра, только не так плотно сложенная и напоминающая большеголовую ящерицу с клыками саблезубого тигра — предпочитала не покушаться на столь крупную жертву, довольствуясь лишь молодыми или прихворавшими родичами одинокого великана.
Было ли это природной осторожностью представительницы «слабого пола», отличающейся от собратьев-самцов более изящной комплекцией и весом «всего» в триста килограммов, или же самка на собственном горьком опыте определила подходящую для себя весовую категорию добычи — пожалуй, не могла бы сказать и сама титанофонеус, что уже в течение месяца бродила вдоль распухшей реки, промышляя оставленными влажной весной дарами природы. В воду она пока предпочитала не соваться — мало того, что окружающая температура не располагала к принятию ванны, так еще и ускорившееся течение, полное коварных водоворотов и затопленных коряг, едва ли обещало приятную прогулку даже для того, кто решил бы просто переплыть с одного берега на другой! Титанофонеусы же, несмотря на наличие широких лап, подходящих для гребли, и уплощенного с боков туловища, жабрами за миллионы лет эволюции так и не обзавелись, поэтому самка на период паводка из полуводных переходила в категорию чисто сухопутных хищников, подходя к кромке мутной воды лишь в поисках легкой добычи на береговой линии или же чтобы запить только что съеденное мясо.
Вот и сегодня, вдоволь налакомившись бренными останками погибшего молодого улемозавра (на свою беду решившего пересечь реку и захлебнувшегося в водовороте), самка с заметной ленцой спустилась по заросшему молодыми папоротниками берегу, оставляя за собой широкую двойную борозду своим набитым под завязку животом и длинным гибким хвостом, волочащимся следом. При необходимости этот серовато-бурый, в узких светлых кольцах «кнут», тянущийся вслед за туловищем, мог использоваться как грозное оружие, и на охоте или же во время стычек с сородичами титанофонеусы наносили страшные удары своими хвостами, оглушая, ломая кости, а то и убивая на месте несчастную жертву, которой не посчастливилось оказаться в зоне поражения! — но сейчас самке было лень даже над землей его приподнять, как она это делала во время броска на облюбованную жертву. Весь ее вид словно бы излучал бесстрастие и незаинтересованность — «Не раздражайте меня, и я не буду вас трогать!» — поэтому другие обитатели долины, за годы сосуществования научившиеся в совершенстве «считывать» настроения громадной хищницы, не спешили разбегаться в ужасе, и даже робкий перплексизавр, активно чистившийся на том же незатопленном участке берега, не счел нужным платить дань уважения более чем полуминутой пристального разглядывания.
В конце концов, в своей незамысловатой жизни этот тероцефал, размером с крота, мало сталкивался с другими хищными синапсидами, поэтому, едва убедившись, что его тонкая пестро-коричневая шкурка избавлена от всех присосавшихся паразитов и как следует смазана густым секретом расположенной под хвостом железы, перплексизавр бодро встряхнулся и, закрыв ушные отверстия и ноздри подвижными кожными клапанами, ловко ушел под воду — только и мелькнули, исчезая в ржаво-коричневой глубине, перепончатые лапы.
В отличие от крупных дейноцефалов, чьи размеры уже сами по себе мешали им отыскать спокойное местечко в бурном речном потоке, перплексизавр, проводящий львиную долю времени под водой, ловко маневрировал между «застойными» участками, пользуясь мельчайшими особенностями русла и прячась то за крупной корягой, то в небольшом заливчике, а то и просто припадая к самому дну, где, как и на берегу, в изобилии присутствовали «холмы» и «низины», различающиеся по скорости течения. Проделывал он все эти фокусы с привычной легкостью, будто бы и невзначай, хотя на самом деле для его сородичей такое поведение было не вполне нормально — ведь испокон веков перплексизавры предпочитали куда более спокойные, застойные водоемы, где течение едва ощущалось или же вовсе отсутствовало. Собственно говоря, и мать, и бабушка, и даже далекая-далекая прародительница этого молодого самца, отстоящая от него не меньше, чем на три сотни лет, рождались, жили и умирали в тихой старице, заросшей водными растениями и знать не знающей о какой-то там реке, некогда оставившей ее после ухода на новую протоку… кабы не так давно, всего-то несколько лет назад, особо сильный паводок не размыл скопившийся у входа в пересыхающее озерцо нанос из песка и ила, после чего щедрая река вновь заполнила оба своих русла, старое вместе с новым, свежей водой.
Естественно, столь заметная перестановка в окружающей среде не прошла для речных жителей даром, и большую часть перплексизавров, вполне мирно обитавших в соседних норах, попросту смыло течением, так что, когда этот самец вернулся с холмов (там он, наученный многочисленными паводками, отсиживался в это неспокойное время, дабы не утопиться в своем же собственном гнезде), пахучих меток его родни изрядно поубавилось, а прежде безмятежно-ровная поверхность изогнутого подковой озера сморщилась и зарябила, будто недовольная дерзким вторжением извне. Сам перплексизавр тоже пребывал не в восторге от столь резкой смены декораций, и первое время «доедал» остатки подкожного жира, привыкая охотиться в обновленной, странной и непривычной реке, где взбаламученный рылом ил имел дурную привычку вытягиваться рыжей струйкой куда-то в сторону, а не тихо-мирно оседать на дно в радиусе пары метров, где водные растения постоянно качались и переплетались гибкими стволиками, точно надеясь поймать шмыгающего между ними ловкого тероцефала, а к прежнему ужасу всей мелкой живности — очень старому и вечно голодному халкозавру, полутораметровому родственнику лантаниска — присоединились время от времени заплывающие на новую территорию кузины мелозавра — столь же крупные, как и халкозавр, но гораздо более опасные конжуковии.
Эти проворные «крокодилы» были гораздо быстрее неповоротливого «живого капкана», с чьим присутствием в водоеме перплексизаврам приходилось мириться на протяжении нескольких лет, и который воспринимался скорее как старая язва на особо недоступной части тела: вроде, и неприятно, но уже настолько свыкся, что практически не замечаешь. Как и его далекие прародители из каменноугольного периода, хищные амфибии, халкозавр был чрезвычайно терпеливым созданием, способным в течение нескольких дней поджидать зазевавшуюся рыбешку или крупного рачка, поэтому, облюбовав себе место для охоты, мог не покидать его до следующей недели, давая шустрым и довольно-таки сообразительным перплексизаврам достаточно времени, чтобы научиться себя избегать. Взрослые-то тероцефалы на обед к халкозавру почти не попадали — тот предпочитал жертв, что могли влезть к нему в пасть целиком, и относительно крупная, да еще и яростно сопротивляющаяся добыча могла его даже напугать, заставив тут же разжать челюсти — а вот молодь порой и исчезала в бездонной глотке, так что каждый из обитавших в старице зрелых перплексизавров был, в своем роде, экспертом по сожительству с медлительным, засадным и, в общем-то, не таким уж опасным убийцей…
…а потому они были полностью, совершенно, абсолютно не готовы к появлению в их тихой обители куда более стройных конжуковий, почти не уступавших самим перплексизаврам в скорости. Эти новые плотоядные, хоть и питаясь преимущественно рыбой, не брезговали никакой подходящей дичью, хватая и собственных собратьев-амфибий, и мелких рептилий, и даже некрупных синапсид, при этом смело атаковали как сухопутных животных вроде приходящих на водопой новорожденных улемозавров или охотившихся в прибрежных зарослях некрупных сиодонов, так и полуводных перплексизавров. Для консервативных тероцефалов появление столь страшных врагов оказалось подобно грому с ясного неба, и лишь склонность вести сумеречный образ жизни да природная пугливость, вынуждающая чутко реагировать на любой тревожный сигнал под водой, спасла некоторую часть их небольшой популяции от полного уничтожения.
Ведь, в конце концов, несмотря на мягкую шкурку и невнушительные габариты, эти малыши тоже не лыком были шиты, и молодой самец, только что сравнительно беззаботно чистившийся по соседству с гигантской самкой титанофонеуса, едва-едва успел зарыться носом в ил и схватить себе на обед парочку выскочивших с перепугу рачков, как вдруг — ш-шух! — уже рванулся в сторону, яростно загребая лапами, и успел-таки нырнуть под старую корягу за мгновение до того, как его поймала пара длинных, зубастых и очень-очень страшных челюстей!
Это, разумеется, была еще не победа — увы, но амфибийная природа и существенно более объемные легкие были на стороне конжуковии, тогда как перплексизавр мог находиться под водой не дольше пяти минут — поэтому тероцефал-счастливчик и не думал расслабляться. Благодаря своему «козырю в рукаве» он вовремя смог заметить приближающуюся опасность, а намертво вросшее в песчаное дно старое дерево конжуковия не смогла бы перевернуть при всем желании, однако для того, чтобы окончательно избавиться от приставучей хищницы, перплексизавру требовалось добраться до единственного известного ему безопасного места — своей же собственной норы, один из входов в которую, специально для таких случаев, располагался прямо под водой.
Оставалось всего-то ничего: придумать, каким же таким хитрым образом миновать опасного противника и достичь родного логова с находящимся внутри живительным пузырем воздуха за оставшиеся две с небольшим минуты.
Причем, как ни странно, у перплексизавра уже имелся вполне подходящий способ.
Поэтому он мужественно ждал, напружинив все свое маленькое гибкое тельце и нацелившись мордочкой прямо ко входу в свой дом — входу, мимо которого он бы не промахнулся и в кромешной тьме, ведь он так замечательно пах его собственным секретом из-под хвоста, вонючей амброзией, что мягко укрывала его тельце и позволяла куда меньше расставаться с драгоценным теплом в порой холодной, кусачей, неприятно кисловатой на вкус, но все равно приятной и знакомой воде! Он ждал, напряженно вздыбив короткие жесткие волоски в уголках челюстей, и та же самая жидкость, что постепенно выдавливала из его легких драгоценный воздух, с готовностью компенсировала свое негостеприимное поведение, позволяя загнанному в угол животному отслеживать перемещения своего врага с точностью, которую едва ли могли бы обеспечить глаза, пусть огромные и защищенные прозрачными пленками, но все же не способные видеть сквозь поднявшуюся со дна иловую завесу.
Это не было заменой зрению в полном понимании этого слова, но нечто, что нам, людям, показалось бы «легчайшим зудом», реагировало на каждое движение конжуковии: на ее сердце, перегонявшее кровь, на сокращавшиеся мускулы и работающие нервы — словом, на все в ее организме, что хоть как-то вносило микроскопические искажения в окружающее их всех электрическое поле самой планеты, которое перплексизавр привык чувствовать всякий раз, когда погружался под воду. Словно пассивный локатор, его крохотные электрорецепторы, расположенные на верхней челюсти, «считывали» присутствие любого более-менее крупного животного на расстоянии до полуметра, что не только помогало в охоте на мелкую рыбешку, моллюсков и рачков, затаившихся в донном иле, но и позволяло не упускать из виду потенциально опасных хищников даже находясь в кромешной тьме. И хотя конжуковия, пусть и не имея этого «секретного чувства», все же обладала своими преимуществами — скажем, была способна в какой-то степени ощущать колебания воды, которые создавали движения других живых существ — тем не менее, она не могла с такой же точностью отслеживать местоположение облюбованной добычи. Вдобавок, будучи крупнее и обладая продолговатым телом с мощным хвостом, она была вынуждена кружить вокруг коряги по широкой дуге, так что малышу-тероцефалу необходимо было лишь подождать, пока очередной круг не уведет его страшную противницу как можно дальше…
После чего — ш-ш-шух!..
…Разумеется, она бы его догнала. Она была сильнее, обладала мощным телом и плоским, как весло, хвостом, тогда как перплексизавру приходилось буквально ввинчиваться в течение реки, отчаянно работая всеми четырьмя лапками. Его горящие легкие отчаянно требовали воздуха, его огромные глаза уже начали наливаться тьмой, предшествующей обмороку, но он продолжал грести изо всех сил, в очередной раз за свою недолгую жизнь вступив в гонку со смертью: скорее, скорее, скорее!
Мгновение — и конжуковия заметила, что жертва вздумала улизнуть.
Мгновение — и она развернулась всем корпусом, бросаясь в погоню.
Мгновение — и ее узкие челюсти, усеянные коническими зубами, занеслись над удирающим тероцефалом: не уйдешь!..
…но чуть погодя прямо ей в глотку ударил поток вонючего ила, заставив инстинктивно свернуть в сторону, тогда как перплексизавр, оттолкнувшись от речного дна, свободно вырвался вперед и, как ключ в замок, ловко проскользнул в гостеприимно распахнутую перед ним дырку в склоне берега, которую он своими собственными лапами оставил там позапрошлой весной. И те же самые когти, что два года назад деловито выгребали тяжелую мокрую глину, сегодня яростно скребли по стенкам, проталкивая тельце вперед, ибо тот самый извилистый туннель, что служил наилучшей защитой от всех речных напастей, сейчас оказался подобен смертоносной гильотине, занесенной над тонкой шейкой: успеешь ли, несчастный, пробуриться сквозь него раньше, чем покров забвения лишит тебя способности двигаться?
Шкряб-шкряб-шкряб!
Шкряб… Шкряб…
Шкряб…
Ш-ш-шух!
А потом — тихий плеск, с которым перплексизавра вынесло из туннеля, когда подхватившая его волна (наверняка созданная оставшейся позади конжуковией, случайно ударившей поблизости хвостом) позволила без лишних усилий преодолеть оставшиеся десять сантиметров и наконец-то оказаться выше уровня воды — в темной, вонючей, застланной лишь сухими водорослями, но все равно благословленной личной спальне, одном из немногих мест во всей долине, где маленький тероцефал чувствовал себя в полной безопасности.
И остались позади плен под затопленной корягой и короткая, но страшная погоня, миновал краткий ужас задыхающегося организма и разжались так и сомкнувшиеся на его тельце ледяные челюсти смерти: едва отдышавшись, малыш деловито потряс головой, избавляясь и от последних капель влаги, и от всех мыслей, связанных с этим происшествием. Он не умел расстраиваться по поводу прошлых неудач, и хотя пустота в желудке уже очень скоро напомнит о себе сосущим голодом, пока что усталый пловец не собирался возвращаться в реку и приступать к поискам пищи. Он подождет — недолго, но вполне достаточно, чтобы конжуковия, по части терпеливости не стоившая и единственного пальчика на лапе халкозавра, убралась прочь, так что к тому времени, как перплексизавр проспится и вновь решит выйти на промысел, бывшая старица, тихий островок на окраине мира тяжеловесных великанов, вновь поступит в его полноправное распоряжение.
И пусть себе гиганты суши спорят между собой, выясняя, кому из них сегодня улыбнется удача — этот малыш был глух к их свирепому шипению и урчашим вздохам, поэтому даже если неуклюжий улемозавр или откормившийся за весну титанофонеус случайно обрушат хрупкий свод его норы… что ж, невелика беда: к тому времени чутко спящий перплексизавр уже наверняка исчезнет в реке, заранее предупрежденный топотом широких лап, после чего невозмутимо примется за постройку нового убежища на любом другом приглянувшемся ему участке.
Ибо голоса титанов ничего не значили для этого на редкость самодостаточного существа, порожденного его собственным, тихим и очень-очень мокрым миром.
ЧТО ТАКОЕ, КТО ТАКОЙ:
Улемозавр (Ulemosaurus, «ящер с реки Улема») — род крупных дейноцефалов, родственных тапиноцефалу. Длина черепа свыше 40 сантиметров, длина тела — до 4 метров; размер крупного буйвола или носорога. Очень массивное животное с вытянутой мордой, малозаметными клыками и крупными передними зубами, которые могли плотно смыкаться, перетирая пищу.
Титанофонеус (Titanophoneus, «титанический убийца») — род хищных дейноцефалов, родственных антеозавру и пампафонеусу. Длина черепа до 60 сантиметров, длина тела — до 5 метров; животное было размером с тигра. Обладал крупной головой, короткой мощной шеей, продолговатым туловищем на сильных конечностях, расставленных в стороны, и длинным хвостом. Был доминирующим хищником в своей экосистеме, при этом молодые особи могли охотиться в воде на рыбу, амфибий и мелких рептилий, тогда как взрослые, скорее всего, скрадывали молодых или ослабленных дейноцефалов, приходивших на водопой.
Перплексизавр (Perplexisaurus, «непонятная ящерица») — род тероцефалов, дальний родич ликозуха. Длина черепа — около 5—7 сантиметров, общая длина тела животного могла достигать 20—25 сантиметров. Примечателен сравнительно крупными, загнутыми назад коническими зубами (присутствующими также и на небе), а также необычной сенсорной системой на верхней челюсти: она представляет собой продольный ряд чашевидных углублений, на дне которых обнаружены микроскопические отверстия. Вероятно, эта система служила для электрорецепции и, как у современного утконоса, помогала перплексизавру охотиться в мутной воде. Также, вероятно, именно эта система вызвала необычайно сильное развитие переднего мозга, чей объем превосходит все известное для пермских тероцефалов.
Халкозавр (Chalcosaurus, «медная ящерица») — род примитивных рептилий, родственных лантаниску. Длина черепа до 25 сантиметров, общая длина тела могла достигать полутора метров. Череп очень плоский, сильно скульптированный, с мелкими зубами (расположенными как на челюстях, так и на небе), тогда как туловище, скорее всего, было компактным, широким и уплощенным, с относительно коротким хвостом. Вероятно, халкозавр был засадным донным хищником, охотившимся как на крупных беспозвоночных, так и на попадавшихся ему мелких позвоночных (рыбу, амфибий, возможно — рептилий).
Конжуковия (Konzhukovia, в честь Елены Дометьевны Конжуковой, советского палеонтолога) — род мелозаврид, родственный мелозавру. Череп длиной около 30 сантиметров, общая длина животного — около полутора метров. Примечательна наличием крупных небных «клыков», а также некоторым сходством тазовых костей с тазом эриопса; вероятно, это намекает на полуводный образ жизни конжуковии и ее способность немало времени проводить на суше.
Сиодон (Syodon, «свиной зуб») — род примитивных хищных дейноцефалов, родственный микросиодону. Длина черепа до 20 сантиметров, общая длина — около полутора метров, животное было размером с небольшую собаку. Вероятно, сиодон вел околоводный или даже полуводный образ жизни и питался, в основном, речной рыбой, которую вылавливал своими крючковидными клыками.
Одна на двоих
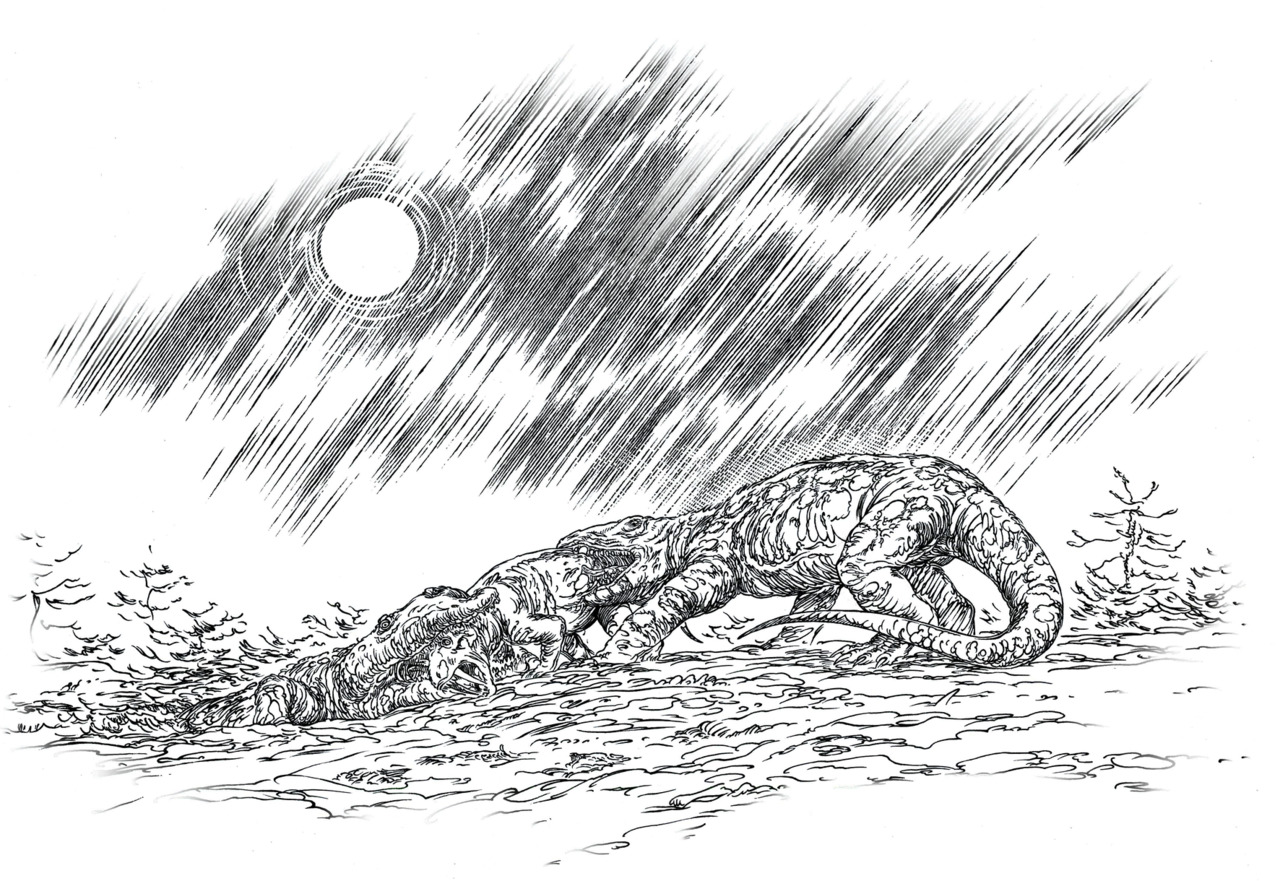
263 миллиона лет назад
Западная часть Пангеи
Территория современной Бразилии,
штат Риу-Гранди-ду-Сул
По мере того, как дрожащий огненный шар поднимался все выше и выше над горизонтом, температура стремительно нарастала, и воздух уже стал густым, вязким, трепещущим — он лизал потрескавшуюся от жары кожу, забивался в ноздри и шутил над зрением, заставляя иссохшую землю казаться поверхностью огромного озера… поистине жестокая игра, которую природа вела с изнывающими от жажды животными, уже почти девять месяцев сидевшими без дождей! Особую же ироничность этому розыгрышу придавало то, что стояла вторая половина пермского периода, а значит, ледяной щит на обоих полюсах планеты только-только начал таять — но здесь, в этом затерянном краю у западного побережья Пангеи, резкоконтинентальный климат диктовал свои условия, и по мере того, как солнечные лучи начали все больнее прожигать толстые, но мягкие шкуры, пасущееся стадо тиаражуденсов, дальних родичей уже известной нам робертии, нехотя покинуло опустошенное их присутствием пастбище и попыталось спастись от жары в пожухлых зарослях папоротников.
Правда, особого облегчения они там не нашли: то время, когда похожие на восточные опахала ярко-зеленые листья могли с головой скрыть взрослого тиаражуденса, давно прошло — теперь и молодые животные вынуждены были искать выкопанные в красноватой земле лежки (почва в них была чуточку влажнее, а значит — прохладнее), дабы там, приоткрыв пасть и сонно зажмурив глаза, переждать самое невыносимое время суток. Занимать местечко следовало побыстрее — самые тяжелые и грузные звери в стаде законно выбирали для себя самые удобные лежки, и лишь наличие живой «подстилки», косящейся на пришельца темно-коричневым глазом, могло заставить старика, негромко постанывая, отказаться от своих претензий и двинуться дальше. То тут, то там вспыхивали мелкие конфликты, особенно когда не особо смотрящие по сторонам животные одновременно устремлялись в одну точку, и если один из противников оказывался существенно мельче конкурента — что ж, стычка прекращалась столь же быстро, как и возникала, но уж когда сходились равные…
Тут, как говорится, без хорошей драки было не обойтись!
И удивляться было нечему — из-за теплой зимы и последовавшего за ней на редкость жаркого лета большинство самок не решились в этом году отложить яйца, так что самцам, уже приготовившимся к схваткам за партнершу, приходилось выплескивать накопившуюся энергию как-то еще. Подливали масла в огонь и недостаток свежей зелени, и тот факт, что обычно эти животные не сбивались в столь крупные стада — им были привычнее небольшие группы по три-четыре особи, состоящие из взрослых самок и одного матерого самца — однако во время засухи тиаражуденсы мало-помалу скапливались у любого крупного источника воды, и отдельные группы, скучившись на едином пастбище, волей-неволей сливались воедино. Как следствие, возрастала напряженность: находясь в состоянии нескончаемого стресса, даже самые спокойные животные нервничали, а самцы то и дело начинали реветь друг на друга, широко разевая пасти и демонстрируя длинные, наподобие моржовых бивней, саблевидные клыки, торчащие из-под верхней губы на все десять с лишним сантиметров. И хотя это было скорее турнирное оружие, нежели боевое, предназначенное для устрашения и установления социального статуса, при случае мощные зубы могли послужить не хуже настоящих клыков, так что не один свирепый хищник, рискнувший напасть на целое стадо, впоследствии красовался длинными рваными ранами, оставленными «безобидными травоядными».
Между прочим, остальные зубы тиаражуденса, при всей своей кажущейся простоте, также заслуживают нашего внимания, ибо в них можно разглядеть все то блестящее будущее, что ожидало растительноядных животных в последующие миллионы лет. Передние, похожие на маленькие долотца, идеально подходили для скусывания молодых веток и обдирания жестких папоротниковых листьев, а задние, располагающиеся за клыками, имели гораздо более уплощенную форму, напоминая наши собственные коренные зубы, и выполняли роль примитивной терки, частью раздавливающей, частью перетирающей поступающую в рот грубую пищу. Тиаражуденс еще не умел жевать в том смысле, в каком его воспринимаем мы, однако его зубная система уже заметно выделялась среди современников, большинству которых и такая «терка» была недоступна. Обычный дейноцефал, оторвав кусок пищи крепкими передними зубами, просто проглатывал его, подвергая минимальной обработке, тогда как тиаражуденс для начала мясистым языком проталкивал пищу дальше, на многорядную «батарею» задних зубов, несколько раз двигал челюстью и только после этого отправлял получившийся мягкий комок в желудок. Подобный способ питания позволял обходиться меньшим количеством пищи за счет ее лучшего усвоения — животные, не способные жевать и только глотающие куски растений, вынуждены были размалывать пищу в мускульных желудках, набитых мелкими камнями (как это делают современные птицы) или, что вероятнее, просто ели без передышки, заменяя качество пищи ее количеством. Тиаражуденс, живший в местах, где условия существования отнюдь не располагали к излишествам, такой возможности был лишен, так что, как это нередко бывает в неблагополучных условиях, эволюции пришлось сделать несколько шагов вперед, дабы обеспечить его необходимым минимумом питательных веществ.
Более чем через сотню миллионов лет, уже в век динозавров, травоядные гиганты тоже откроют для себя этот метод улучшения качества пищи, и поздние меловые ящеры — игуанодоны и гадрозавры — будут жевать уже ничем не хуже нас с вами, умудрившись даже на постной хвойной и папоротниковой диете наплодить тысячные стада многотонных животных — однако именно синапсидам с их разномастными зубами принадлежит «пальма первенства» в этом открытии, что не только подтолкнуло вперед их собственное развитие, но и определило одну из главных особенностей млекопитающих, которая, после вымирания травоядных динозавров, может считаться нашей «фишкой» наряду с молочным вскармливанием и шерстным покровом.
Но, впрочем, довольно о будущем — вернемся к тиаражуденсам. К счастью для них самих, этим животным не была свойственна излишняя агрессивность, как это бывает, например, у гиппопотамов, и большинство стычек за понравившуюся лежку ограничивались демонстрациями, после чего противники успокаивались. Большинство — но не все, особенно если в схватке участвовали молодые самцы, чересчур порывистые и, скрывать нечего, на редкость неопытные в битвах. Всего около недели назад один из таких юнцов погиб, сперва пронзенный, а потом едва не раздавленный навалившимся на него соперником… но, как водится, учиться на чужих ошибках не нравится никому, и вот уже двое молоденьких прошлогодок, столкнувшиеся лбами над симпатичной ямкой в земле, решили не на шутку помериться, «у кого длиннее». Вроде бы, обычное дело — подрастающие самцы, еще не достигшие зрелости, постоянно устраивают такие «турниры понарошку», оттачивая наиболее эффектные позы и боевые приемы, которые однажды позволят им завоевать свой собственный гарем — однако на этот раз все было пугающе серьезно. Всего через несколько минут последовал первый удар, пока еще пробный, и кость затрещала о кость, а сами поединщики, на мгновение застыв бок о бок, тяжело раздувая бока, в следующий миг уже отшатнулись в разные стороны, выбирая момент для новой атаки.
Их блестящие глаза медленно наливались кровью, сердца стучали в ускоренном ритме, отвечая возросшим запросам организма, а воздух короткими рывками пробивался через ноздри, обдавая противников спертым запахом полупереваренных растений. В другой раз эта парочка могла и разойтись бескровно — один из сражающихся явно был опытнее и на пару килограммов тяжелее второго — однако то был печальный день, когда голод, жара и равнодушие самок обратили все стадо тиаражуденсов в медленно закипающий котел, вот-вот норовящий взорваться, и каждое новое полешко в горящий под ним костер — раздраженные взгляды, недоброжелательный поворот головы, резкие вопли, полные растущего негодования — только приближали момент, когда…
— У-о-о-а-а-а! — взревел один из поединщиков, едва длинные клыки более крупного соперника вонзились ему в неловко подставленный бок. К счастью, широкие грудные ребра не дали чужим зубам добраться до легкого, и два плоских белых клинка лишь скользнули по кости до самого брюха… но для молодого тиаражуденса это означало проигрыш. Он больше не мог сражаться — ужасная боль пронзала его тело при каждом движении, а запах собственной крови ввергал в неконтролируемую панику, призывающую как можно скорее покинуть это место и спасаться бегством. Молодой самец до этого ни разу не был настолько серьезно ранен, и это новое ощущение сбивало его с толку — он покачивался на еще недавно таких крепких лапах, мотал головой и глухо ревел, словно пытаясь добиться у окружающего мира сострадания…
Вот только мир сострадать не намеревался.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.