
Бесплатный фрагмент - Дневники
ПРЕДИСЛОВИЕ
Приходящего ко Мне не изгоню вон
(Ин. 6:37)
Помню, как один мой знакомый, впервые побывав в храме и услышав проповедь священника, больше похожую на речь замполита, сказал: «Прости! Но, если это христианство, больше я туда не пойду».
Конечно, он не прав. А вот за честность — спасибо! Поскольку после этого случая я стал чаще размышлять о том, что такое христианство? Эти дневники — плод моих размышлений. Своего рода путевые заметки. На пути к миру. Миру в своей душе и с другими людьми. Буду рад, если они вас заинтересуют.
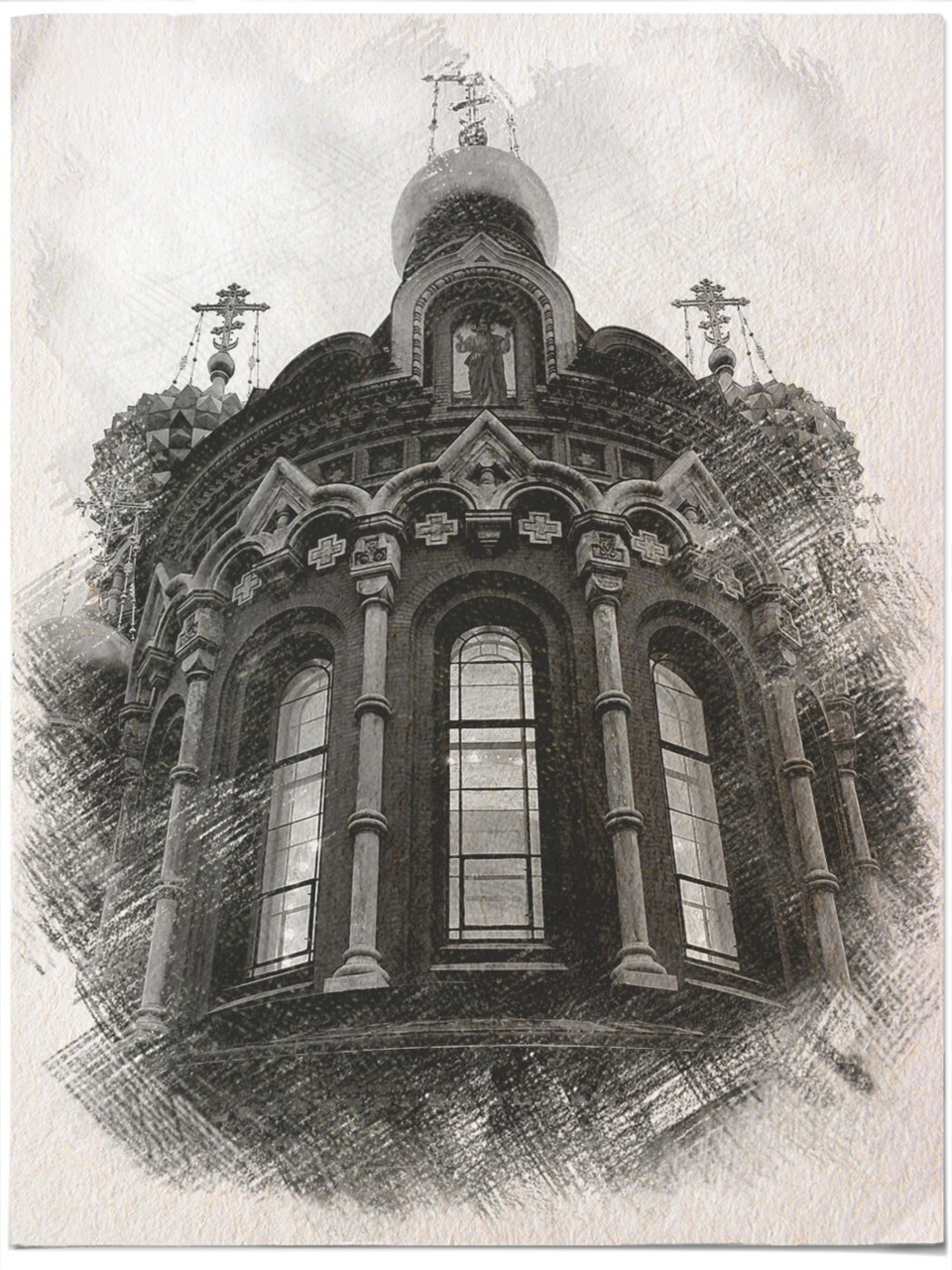
ДНЕВНИК РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
ЕСЛИ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
Начался Рождественский пост, который, надо признаться, ещё ни разу мне не довелось провести так как было задумано в начале. Впрочем, наверное, я не прав и сам себе льщу. Ведь если ты чего-то не сделал, значит так и хотел. Несмотря на все красивые слова и обещания. Иначе разбился бы в лепёшку и добился бы своего. А раз не разбился, если позволил сдать назад, то нечего строить из себя жертву обстоятельств. Когда же ты сам нечестен, то вправе ли требовать иного от других? И потому «врачу, исцелися сам!» (Лк. 4:23).
Пожалуй, вот и нашлась точка приложения сил, которую следует наметить на предстоящий пост — никого не поучать и не осуждать, а постараться вглядеться в самого себя и предстоящий праздник. Чтобы встретить его хотя бы чуточку другим. Хотя бы на шаг приблизиться к пещере, над которой взошла звезда Рождества. С надеждой, что однажды удастся в неё заглянуть и услышать ответы на все вопросы. В том числе понять, почему Бог пришёл в наш «мiръ» беззащитным Младенцем? И почему в этом случае слово «мiръ» следует писать именно так? В отличие от «мира», как принято называть Царство, из которого Он пришёл. Правда, интересно?
НА СВОЁМ ЯЗЫКЕ
Представляю, как, дочитав до конца первый пост, читатель вздохнёт, закроет книгу и поставит её на полку в самый дальний угол. Подумав, что автор, неплохо начав, быстро съехал в привычную для него колею и стал говорить на другом языке. Возвышенном и интересном, но незнакомом и потому требующим перевода. А времени на это нет, душат дела, и вечно надо куда-то бежать. Поэтому изображать из себя Кирилла и Мефодия не получится и книгу придётся отложить.
Ну, что же? Понимаю. Сам когда-то с трудом мог разобрать, что написано в епархиальной газете, и сторонился церковных текстов. Пока один умный человек не сказал: «Понимаешь, в каждой стране есть свой язык, и, если ты хочешь в ней жить, придётся его выучить. Также свой язык есть у Царства Небесного, и, если ты хочешь в нём жить, придётся его выучить. Научиться не только на нём говорить, но также думать и осмысливать всё, что происходит вокруг. Потому не сдавайся, сделай усилие, и уже скоро язык этого Царства станет понятным и даже родным». Так и случилось. С тех пор перевода с церковного на мiрской я не стесняюсь, и, если есть необходимость, охотно его делаю.
Вот и в нашем случае. Представьте, что где-то на земле родился Тот, Чьи таланты и способности в миллионы раз превосходят самый совершенный искусственный интеллект. Неужели вам не захочется с Ним встретиться? Чтобы получить ответы на все вопросы, узнать все тайны прошлого, разобраться в настоящем и заглянуть в будущее.
Между тем в Рождество Христово именно это и произошло. В наш мiръ пришёл Тот, о Ком в Символе сказано «Им же вся быша», то есть именно через Него всё начало существовать. Тот, Кто сотворил время и пространство, Небо и Землю, всех живых существ и самого человека.
Как же было не отправиться вслед за чудесной звездой, не поспешить к пещере Рождества, чтобы хотя бы издали Его увидеть и, если повезёт, встретиться с Ним лицом к лицу. О чём столетиями мечтали самые мудрые, самые дерзкие, ищущие и смелые.
Давайте, мы поступим также и пройдём этот путь вместе. Навстречу Тому, В Ком ответы на все вопросы и множество новых загадок, которые ждут нас на этом пути.
ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ СМАРТФОН?
Сегодня первый день зимы, которая в этом году не спешит. Ночью минус 3, днём около ноля. Снег. Слякоть. Рассвет в 8.06, закат в 14.55. Остальное время — сумерки и ночь. Серая, сырая и промозглая, как старый, намокший диван, который осенью поленились занести в дом.
Новости примерно такие же. Серые и тревожные. При этом несложно заметить, что все трагические и печальные события связаны с разделениями между людьми, странами и народами. А также с нежеланием преодолевать эти разделения силой любви, для чего надо научиться уступать или, говоря языком Церкви, «умаляться». Чего многие люди не хотят. Даже смартфон, на котором сейчас я набираю текст, не хочет это слово признавать и постоянно исправляет. В чём, конечно, сам гаджет не виноват. Виноваты люди, которые забыли, почему это важно. А зачем «умаляться», когда в ходу совсем другие приоритеты. С раннего детства и до глубокой старости.
Помните?
Детский сад. Выпускной. Фотограф строит детей для общей фотографии, и родители отчаянно сигнализируют: вставай ближе к воспитателю, чтобы оказаться в центре снимка! Что касается школы, то это, вообще, постоянно соревнование в знаниях и талантах, силе и ловкости, красоте и последних новинках моды, грамотах и дипломах, авторитетах и статусах, «респектах» и «уважухе», близости к классному руководителю, завучу и директору. Причём не только среди учеников, но также среди учителей. Надо ли продолжать и столь же подробно писать о колледже и институте, карьере и работе, или с ними и так всё ясно?
Возможно, кто-то скажет: «А как иначе? Ведь миром движет конкуренция!». На что я переспрошу: «Каким миром?». В том смысле, что есть не только земной мiръ, но также мир небесный, Царство Божие, и я что-то не припомню, чтобы святые граждане с кем-то соревновались и конкурировали. Как не припомню, чтобы волхвы бежали к пещере Рождества наперегонки, стараясь обогнать друг друга и войти в пещеру первым. Или чтобы пастухи толкались возле яслей с Младенцем, стараясь занять лучшее место. Подобно тому как перед началом распродажи возле магазина толкаются покупатели, чтобы первыми ворваться в торговый зал и схватить нужный товар.
Почему же святые не толкаются, а мы стараемся прийти первыми, суетимся и топчем друг друга? И так однажды, не дай Бог, дотолкаемся до новой войны, которая станет последней. Почему?
КТО НЕ СПЕШИТ?
«Кто понял жизнь, тот не спешит». Хорошо сказано. Кратко и точно. И при этом работает в обе стороны. Намекая, что вечно спешит тот, кто не понял что-то важное. Быть может, самое главное. Что именно?
Догадаться об этом несложно. Надо лишь задуматься, зачем мы спешим? Что заставляет нас торопиться? Конечно, случаи бывают разные. Иногда приходится кого-то догонять. Иногда надо поторопиться, чтобы не опоздать и успеть прийти вовремя. Иногда мы спешим, чтобы не отстать от своих товарищей и подруг. Как, например, некоторые спешат выйти замуж или жениться, пока всех «нормальных» женихов и невест не «расхватали».
Если это обобщить, получится, что люди спешат, чтобы не оказаться последними, а ещё лучше прийти первыми.
Помню, когда я заканчивал институт, мне предложили в нём остаться и даже выбрать кафедру, на которой мне хотелось бы работать. Принимая во внимание, что вместо этого прямо с выпускного можно было отправиться «куда-нибудь на село», предложение было просто фантастическим. И всё же, посоветовавшись с Ириной, я отказался. Поскольку к тому времени мы уже твёрдо решили жить своей семьёй и уехать от родителей в то самое село, которым нас пугали. На что отец сказал: «Конечно, выбирай сам. Только помни, что ты не один такой умный. За тобой идут другие, и они ждать тебя не будут. Да и не должны. Поэтому, когда надумаешь вернуться, место будет уже занято».
Так и произошло. И хотя затем в родном институте я не раз был желанным гостем, но «поезд» в самом деле ушёл. Впрочем, об этом я не жалею. Так как именно тот выбор позволил нашей семье найти путь, по которому мы идём уже тридцать лет. Как будто в тот момент, когда закрылась одна дверь, тут же открылась другая. И никто никуда не опоздал.
С тех пор я стараюсь никуда не спешить. В том числе не рваться в начальники, чемпионы и лауреаты. Поскольку это верный способ испортить отношения не только с друзьями и коллегами, но также с самим собой. Ведь в случае успеха «медных труб» не избежать, а с ними также надо суметь справиться. Иначе однажды они сыграют тебе отбой или, хуже того, похоронный марш.
Если ты это понял, то уже никуда не спешишь. Не мчишься по жизни сломя голову, круша и сметая всё на своём пути, расталкивая и топча других людей. Если не понял и мчишься, то однажды непременно пожнёшь то, что посеял. Когда кто-то другой, более проворный и сильный, на очередном повороте обойдёт тебя и оставит позади. На вытоптанном тобой поле, среди обиженных тобой людей. Так надо ли было мчаться?
Быть может, лучшее время об этом задуматься — Рождественский пост или просто конец года. Когда мы подводим итоги и вспоминаем, что было сделано. Так почему бы в эти дни не притормозить? Вылезти из беличьего колеса и вспомнить о тех, с кем мы останемся, когда эта гонка закончится. А она обязательно закончится. Потому что однажды всё заканчивается. И будет очень жаль, если мы так и не нашли минутки, чтобы перевести дух и задуматься над тем, зачем всё это было?
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Сегодня праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, когда в храмах впервые звучат Рождественские песнопения. И мне вспомнилось время, когда я начал ходить в церковь.
Интересно, что до сих пор я не могу понять, как это произошло? Ведь меня никто не заставлял. Более того, первое время это приходилось делать тайком. Как и носить нательный крестик, который каждый раз перед сном я снимал и прятал под подушку, не зная, как к этому отнесутся родители. Впрочем, как оказалось, зря. Когда однажды я забыл-таки его снять, отец ничего не сказал, лишь бросил удивлённый взгляд. Мама же, вообще, никак не отреагировала. После чего я больше не прятался и ходил с крестом.
На дворе стоял 1989 год. Время горбачёвской «перестройки», без которой, как сейчас я понимаю, ничего подобного не произошло бы. Поэтому, когда сегодня эти годы ругают, я терпеливо молчу и думаю, что надо не искать «козла отпущения», а спросить себя, как ты использовал открывшиеся тогда возможности? А ведь они, в самом деле, открылись. И не только для плохого, но также для хорошего.
Для меня одним из главных открытий тех лет стало понимание того, что государство не Бог. Его авторитет, важность и ценность не абсолютны, но относительны. А раз так, то надо понять, когда оно право или неправо?
В пору моего детства было иначе — советскому государству принадлежало абсолютно всё, и в этом отношении сравниться с ним не мог никто. В том числе Царская Россия, где крестьяне, ремесленники и купцы всё же имели собственность и потому были хоть в чём-то независимы от царя и его чиновников.
С чем в советские годы было покончено. Настолько решительно и, казалось, бесповоротно, что даже хрущёвская «оттепель» не смогла ничего изменить. Граждане попели песен у костра, станцевали твист, надели брюки-клёш, сели за руль «Жигулей» и съехали в привычную колею, чтобы включить первый и единственный государственный канал и получить ответы на все вопросы.
И вот теперь, во второй половине 1980-х, страна зашла на второй круг «оттепели», разрешив гражданам предположить, что может существовать какая-то другая правда, кроме государственной. Этот шаг не мог не вдохновить. Особенно тех, кого Христос назвал «ищущими и жаждущими правды» (Мф. 5:6) и призвал в Церковь. Так совершилось введение во Храм миллионов советских людей.
В том, что среди них каким-то чудом также оказался и я, лично моей никакой заслуги нет. Христос призвал, и Он же привёл. Иначе до сих бы пор я ходил бы строем и таращился в телевизор, ожидая очередной порции правды, а также лояльности к «своим» и ненависти к «чужим». Не зная о том, что для Бога никаких «чужих» нет, но все «свои».
С праздником, друзья!
ЗА ЧЕМ Я ПРИШЁЛ В ЦЕРКОВЬ?
Пожалуй, вот и ответ на вопрос, за чем я пришёл в церковь? За правдой. Понимал ли я это осенью 1989 года, когда крестился в Троицкой церкви села Кстинино? Вряд ли. Да и не мог. Большое видится на расстоянии. Но сейчас понимаю и даже знаю, почему это было важно.
Представьте юношу, которому с детства внушали, что он живёт в самой лучшей стране. Что советская власть вечна, и всё хорошее сделано при коммунистах и коммунистами. Что Ленин и его партия никогда не ошибались, а партия и народ едины, в чём сомневаются только враги и предатели.
Представьте юношу, который во всё это верил и изо всех сил старался не оказаться врагом и предателем. Носил октябрятскую звёздочку и пионерский галстук. Был председателем совета отряда, комсоргом в школе, армии и институте. Проводил политинформации и выступал на собраниях. Дважды в год исправно ходил на демонстрации и стоял в почётных караулах у памятника тому, кого со всех трибун, книг и газет, сцен и экранов славили как Бога.
Представьте юношу, который все свои знания о жизни и мире черпал из газеты с названием «Правда» и её клонов — «Пионерской правды», «Комсомольской правды», «Кировской правды». Не сомневаясь в том, что, если они так называются, значит, в них пишут «правду, только правду и ничего кроме правды». Ведь взрослые не могут хитрить и обманывать, тем более коммунисты. Ведь они почти святые, а святые не обманывают.
Вместе с тем не будем рисовать нашего героя круглым идиотом. Иначе бы он не окончил школу с золотой медалью и не поступил бы в местный институт на самый престижный исторический факультет. После окончания которого ему предстояло стать законченным циником. Поскольку, прекрасно понимая подлинное положение вещей, затем в течение всей жизни ему нужно было бы лгать другим и самому себе.
Возможно, и здесь нашему герою удалось бы выбиться в «первые ученики». Но неожиданно грянула «перестройка» с её лозунгами «ускорения», «демократизации» и «гласности». Вооружившись которыми новое поколение вступило в бой со стариками, и те на время ослабили хватку. Подарив стране несколько лет свободы и редкую возможность говорить, что думаешь, и поступать, как считаешь нужным.
Понятно, что продолжаться вечно это не могло. Страна потеряла управление, и её, как сбившийся с курса корабль, быстро понесло на рифы. Период свободы продлился от силы с десяток лет. Но этого оказалось достаточно, чтобы наш герой оказался в Церкви, которая на фоне полного раздрая и отрицания смогла-таки сохранить лицо и надежду на то, что правда всё же победит.
Это был очень важный шаг. Но не последний. Поскольку вскоре обнаружилось, что даже в Церкви у многих — «своя» правда. Хотя, казалось, что, назвавшись христианами, следовало искать правды не «своей», а Христовой.
Однако об этом думали не все. За что не осудишь. Ведь люди приходят в Церковь не только за правдой, но по разным причинам: чтобы поправить здоровье или избежать одиночества, найти новых друзей или узнать нечто интересное, проявить и реализовать себя, обрести уверенность в завтрашнем дне. Да мало ли зачем! Ведь пути Господни неисповедимы. Не станем же мы укорять Бога за то, что Он ведёт кого-то другим путём.
Однако свой путь также надо пройти до конца. И если это путь искания правды, то его также следует пройти. Тем более что, приведя на это путь, Бог не оставил нас без подсказок. Одной из которых является Рождество Христово.
Как это? А вот послушайте.
МЕРИЛО ПРАВДЫ
Все мы слышали слова, впервые прозвучавшие в ночь Рождества Христова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение» (Лк. 2:14). Однако вряд ли задумывались над тем, что именно они могут быть мерилом правды и справедливости. Как и над тем, что, где правда, там и справедливость. Неслучайно эти слова являются однокоренными.
Известно, что в русской культуры идея справедливости занимает особое место и ассоциируется со справедливым распределением доходов, отсутствием богатых и бедных, достойным уровнем зарплат и пенсий, борьбой с коррупцией, то есть с материальными благами, которые также важны. Однако, как это связано с правдой, непонятно. Как неясно, существуют ли какие-то объективные критерии правды и справедливости, или же каждый ориентируется на свои предпочтения?
Признаться, я также долгое время об этом не задумывался. Но недавно снова услышал в храме Рождественское славословие и решил прислушаться к словам, в которых так много сказано.
«Слава в вышних Богу». Следовательно, праведно и справедливо лишь то, что служит к славе Божьей. Мы же, наоборот, часто ведём себя, как неблагодарные дети, забывшие о своих родителях. Как будто сами себя родили, с нас всё началось и именно вокруг нас вращается земля. Однако взрослые ведут себя иначе. Понимая, что этот мiръ был до нас и будет после нас. Поэтому надо помнить о тех, кто жил до тебя, и передать доброе наследство детям.
«На земле мир». Значит, для Бога справедливо лишь то, что не нарушает мира между людьми, не провоцирует войны и другие конфликты, но примиряет и объединяет.
«В людях благоволение». Выходит, нельзя творить всё, что взбрело на ум, ни с кем и ни с чем не считаясь, но стараться согласовывать свои желания и усилия с Божьей волей.
В чём эта воля? В том, чтобы все дети Божьи могли вернуться к своему Отцу. Как заблудшая овечка, о которой в притче сказал Христос. А раз так, то «нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:14). Потому всё, что помогает человеку вернуться к Богу — хорошо. Всё, что этому мешает — плохо.
Поскольку же во всей полноте знать этого нам не дано, надо с особой осторожностью рассуждать о том, что праведно и справедливо. Тем более приписывать себе правду. Что в своё время сделали большевики, назвав свою газету «Правдой», и поныне делают разные пропагандисты, утверждающие, будто только они и никто другой знают, что это такое.
Для меня же мерило правды — не телевизор или интернет, а Сам Христос и Его Рождество. А раз так, то справедливым и праведным можно назвать лишь то, что служит к славе Божьей, хранит мир между людьми и помогает приблизиться к Богу. Поскольку же всё это откроется лишь на Страшном суде, то вряд ли следует уже здесь и сейчас о чём-то судить. Ведь может оказаться, что доля правды и справедливости есть даже в газете «Правда».
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
Сегодня день памяти святого князя Александра Невского, когда, случается, меня поздравляют с Днём Ангела. Хотя я отмечаю его в другой день — 26 мая на память мученика Александра Римского, в честь которого был назван сам благоверный князь. Так что мы с ним в самом деле связаны. Быть может, именно поэтому все «танцы» вокруг его имени мне неприятны. Как бывает, когда кто-то пытается использовать близких тебе людей в своих интересах.
Святому князю Александру, пожалуй, досталось больше других. Если в старину его почитали прежде всего как правителя-христианина, который, несмотря на все соблазны, не перестал искать Царства Небесного, и изображали в монашеских одеждах, то в Имперской России ему дали в руки меч и поставили во главе войска, под иконы и хоругви. Возвеличив, как правителя, развернувшего Русь от Европы в сторону Орды. С ханов которой стали брать пример русские цари, не думая о том, сколь опасным искушением их власть является для них самих и сколь тягостным бременем для подданных.
При этом учёные до сих пор спорят, являлся ли тот «разворот на Восток» стратегическим выбором или был вынужденным и временным? Неслучайно Пётр Первый, «прорубив окно в Европу», перенёс мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург. В память о Невской битве, в которой он отстоял право на выход к Балтийскому морю. А раз так, то надо ли делать из святого князя ярого противника Европы? Как и преувеличивать угрозу, которую представляли для Руси несколько десятков рыцарей Ливонского ордена? Неслучайно историки В. О. Ключевский и М. Н. Покровский не упоминают Ледовое побоище в своих трудах.
Скорее всего, мой ответ кому-то не понравится. Впрочем, я на нём не настаиваю. Возможно, причина в том, что в нынешнем виде культ князя Александра Невского сложился в сталинские годы, когда на экраны страны вышел фильм Сергея Эйзенштейна. Неслучайно прозвучавшие в нём слова «кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет» многие до сих пор приписывают святому князю. Хотя он их не произносил. Тогда же был учреждён Орден князя Александра Невского, на котором пришлось изобразить артиста Николая Черкасова. Как и на знаменитом триптихе Павла Корина.
С тех пор было создано множество подобных картин и скульптур, которые изображают князя Александра как выдающегося полководца и национального героя. Напоминающих плакаты советских времён с молодыми строителями коммунизма. С той разницей, что вместо партийного билета святой князь прижимает к груди наперсный крест. Отчего такие работы удачными не назовёшь.
Возможно, кто-то скажет, что таков исторический момент. Родина нуждается в защите, а её защитники — в достойном примере. Кто же с этим спорит? Только следовать подобным запросам надо с осторожностью. Иначе мiрское возьмёт верх и поставит «небесное» на службу «земному». Хотя должно быть наоборот.
Почему же некоторые этого не понимают? Не потому ли, что путают веру с идеологией? Хотя разница между ними очевидна. В чём она?
ВЕРА И ИДЕОЛОГИЯ
Сегодня День Конституции 1993 года, которую в последнее время часто критикуют. Наверное, есть за что. И всё же именно благодаря ей миллионы людей смогли заходить в храмы, не оглядываясь с опаской по сторонам. О чём наши дедушки и бабушки могли только мечтать.
Поскольку же тогда в храмы пришли вчерашние советские люди, буквально нашпигованные пропагандой, самое время поговорить о том, в чём разница между идеологией и верой. Пересечения между которыми, конечно, есть. И всё же это не одно и то же. Различия есть.
Возможно, главное из них в том, что идеология обращена к обществу и публичному, а вера — к личности и сокровенному. О чём Христос говорил: «Если хочешь молиться, войди в свои внутренние покои, закрой дверь и молись Отцу твоему втайне, и Отец твой, видящий втайне, воздаст тебе» (Мф. 6:6).
Поэтому неприлично спрашивать у человека, верит ли он в Бога? Тем более во время интервью или телешоу, что ещё недавно было у нас в порядке вещей.
Поэтому неуместно в крестном ходе петь «Боже, царя храни» и вместо икон нести флаги и лозунги типа «Православие или смерть».
Поэтому, когда на митингах политики начинают цитировать Евангелие или святых отцов, это вызывает недоверие и даже отторжение.
Поэтому так трудно служение епископа и священника, которым приходится сочетать сокровенное и публичное, тайное и явное.
Поэтому, если кого-то тянет бороться с глобализацией и массовой культурой, трансгуманизмом и модернизмом, либерализмом, оккультизмом и прочими «измами», такому человеку лучше поступать не в семинарию, а на курсы политруков и говорить не с амвона, а с трибуны.
Между тем для Христа всегда была дорога именно вера. Неслучайно Он спрашивал: «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Заострим — не храмы и монастыри, не православные телеканалы и приходские сайты, не совместные проекты Церкви и государства. Всё это, скорее всего, будет. А вот сохранится ли вера? Вопрос. Почему? Потому что это дело сокровенное, о котором не станешь трындеть перед камерами. А, если станешь, то это уже не вера, а лицемерие. Неизменный спутник любой идеологии, в какие бы одежды она ни рядилась.
Возможно, я сгущаю краски. И всё же почему бы над этим не задуматься? Тем более в День Конституции, которая избавила нас от пресса государственной идеологии и разрешила верить лично и сокровенно. За что, при всех её недостатках, спасибо!
ВДОГОНКУ
Решил добавить ко вчерашнему посту несколько строк о том, что ещё одно отличие идеологии от веры и пропаганды от проповеди состоит в том, что проповедь должна примирять человека с Богом и ближними, а пропаганда, как правило, призывает к победе. Для чего пропагандист внушает человеку мысль о превосходстве над другими людьми, подобно фарисею, который хвалился своими победами. В то время как хорошая проповедь должна призывать к покаянию и исправлению, для чего следует брать пример не с фарисея, а с мытаря.
ЕСЛИ
Если ехать, не на месте.
Если помнить, то о том,
Что быть битым и безвестным
Лучше, чем прослыть скотом.
Если плавать, в океане.
Если бегать, не трусцой,
Если пусто, то в кармане,
Но никак не за душой.
Если травы, то по пояс.
Если чашка, то своя.
Если строить, то на совесть.
Если жить, не для себя.
ВЫБРОСИТЬ ИДОЛОВ
Сегодня день памяти святой великомученицы Варвары, в житии которой есть поразительный момент, о чём хотелось бы рассказать подробнее.
Помню, как примерно десять лет назад в этот день мы служили в нижнем храме Пантелимоновской церкви, отмечавшем свой престольный праздник. Службу возглавлял митрофорный протоиерей Серафим Исупов. Легендарный священник, который был рукоположен ещё в 1956 году архиепископом Вениамином (Тихоницким). Поэтому, когда пришло время говорить проповедь, никто из нас, молодых священников, в пекло вперёд батьки не полез, и отцу Серафиму пришлось выйти на амвон с пастырским словом. И как блестяще он это сделал!
Начав рассказ о жизни мученицы, старец дошёл до момента, когда святая Варвара собрала всех идолов в доме своего отца Диаскора и выбросила в окно. О чём отец Серафим не только сказал, но также показал, как она это сделала. Вытянул в стороны руки, обхватил воображаемых идолов, сжал в охапку и решительным жестом с разворота выбросил из храма на улицу. Так убедительно, что половина прихожан дружно повернули головы и проводили их своими взглядами. Несмотря на то что в нижнем храме не было ни одного окна. Такова сила пастырского слова!
Почему я об этом вспомнил? Потому что, приходя в Церковь из «мiра сего», мы неизбежно приносим с собой его идолов. Конечно, не каменных истуканов, которым сегодня вряд ли кто-то станет поклоняться. Однако это не означает, что идолов больше нет. Как и того, что им не надо приносить жертвы.
Все мы слышали, что «искусство требует жертв». Что «революция пожирает своих детей». Что «порядок превыше всего», и «коллектив всегда прав». Что «милосердие — поповское слово», и «не надо никого жалеть, ведь и мы никого не жалели». Что «победителей не судят», и «лучшая защита — нападение». Потому «надо бить первым», причём даже своих, «чтобы чужие боялись».
Это не просто избитые фразы. Это правила жизни. Законы, по которым живёт «мiръ сей». Все они о том, что будто бы есть нечто важнее любви к Богу и ближнему. А раз так, то любовь можно и даже нужно принести в жертву. Подобно тому как когда-то перед идолами приносили в жертву людей.
Конечно, всех идолов не перечислишь. Однако нет идола более прожорливого и беспощадного, чем сам человек, который любит только себя. О чём святой Андрей Критский сказал: «Самоистукан бых страстьми, душу мою вредя». То есть сам из себя сделал идола, потакая страстям и губя свою душу. Лучше не скажешь!
Поэтому было бы хорошо, придя в Церковь, провести «ревизию» своей души и, по примеру святой Варвары, выбросить всех идолов. В чём Рождественский пост — первый помощник. Поскольку, когда же ещё прибираться в своей душе, как не во время поста?
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОБЕДА
Сегодня за службой мы вспомнили святителя Николая, которого вятчане почитают Великорецким паломничеством. И я подумал, почему бы о нём не написать?
О том, что Великорецкий ход — это вызов. Причём не один, а сразу три. Вызов телу, которому предстоит немало потрудиться. Вызов душе, которой несмотря на все трудности пути нужно остаться живой и сострадательный, внимательней к другим людям. А также вызов духа, когда из всех побед, которые может одержать человек, следует выбрать победу не над другими людьми, а над самим собой — своей ленью, эгоизмом и гордостью. Чтобы, выйдя из Вятки в Великорецкое, прийти в вечное Царство Божие, которое в эти дни сияет на Великой реке.
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Вчера вспоминал Великорецкий крестный ход, заглянул в интернет и случайно наткнулся на сайт Георгия Колосова. Удивительного фотохудожника, которому, возможно, как никому другому, удалось передать, каким был этот ход в пору нашей юности на рубеже веков.
Начал листать снимки и надолго завис, потеряв счёт времени. Словно нырнул глубоко-глубоко. Не просто в прошлое, а в другую жизнь. В которой всё было иначе, и крестный ход также был другим. Не только потому, что Георгий Колосов работал с чёрно-белой фотографией. Или потому что тогда мы были на тридцать лет моложе, и на столько же доверчивее, открытее, наивнее.
Всё это очевидно. Дело в другом. Сравнив эти снимки с современными, нельзя не заметить, как изменился крестный ход. Причём не только количественно, но также качественно. Что-то важное исчезло, растаяло, осталось в прошлом, только на фотографиях и уже вряд ли вернётся. Но что именно?
Какое-то время я листал снимки и не мог найти ответ, а затем он пришёл, как бы сам собой, и воплотился в одно- единственное слово — тайна. Которая, по мере того как Великорецкое паломничество множилось и расцветало, если не исчезла совсем, то истончилась. Настолько, что вспомнить о ней удалось не сразу, а лишь благодаря работам мастера.
Конечно, я тут же загорелся желанием этим поделиться. Но как сказать о том, что неуловимо? Как определить то, что не имеет границ? Как увидеть то, чего глазами не увидишь? И вместе с тем понимаешь, что когда-то именно это привело тебя на Великую реку. Когда же затем истончилось и перестало быть главным, то и всё остальное также стало другим и чужим. И крестный ход тоже.
Не судите строго. Попробую провести такую параллель.
Представьте себе ночь Христова Рождества. Тихую и звёздную. Где-то вдали спит Вифлеем. Дремлют стада, которые оставили пастухи, поспешив к чудесной Пещере, чтобы увидеть чудесного Младенца. Войдя в неё, они благоговейно застыли, пытаясь разглядеть Мать и Дитя в полумраке, освящённом пламенем свечи, и ничем не нарушить тишины и величия этих мгновений.
Вдруг стремительно приближается какой-то шум. В пещеру врываются вспышки фотоаппаратов, толкотня и голоса людей. Один из них, не устояв на ногах, падает на пол пещеры, прямо перед яслями с Младенцем, и, воспользовавшись моментом, выхватывает фотоаппарат и делает несколько снимков. Ослепляя вспышками Дитя и стоящих рядом. Мгновенно рядом вырастают люди в форме и, подхватив фотографа под руки, уводят с собой. Организуя живой коридор для начальника синагоги и двух его спутников — мэра Вифлеема и его молодой супруги, словно сошедшей с обложки глянцевого журнала.
Вы чувствуете толчок в спину и тут же оказываетесь на улице, прикрывая глаза от бесконечных вспышек фотоаппаратов. Кто-то бесцеремонно и больно тычет в лицо микрофоном. Со всех сторон сыплются вопросы: «Вы Его видели? Какой Он? Правда, хорошенький? А Мать? Говорят, Ей ещё нет восемнадцати? Как Вы это прокомментируете? Говорят, что гостиницу, где им отказали в ночлеге, уже закрыли. Хорошо бы ещё наслать на них налоговую? Он посмотрел на Вас? В самом деле? И что Вы почувствовали? Пожалуйста, опишите подробнее!».
С трудом отбившись от репортёров, Вы делаете шаг в сторону и окидываете взором поле перед пещерой, которое ещё четверть часа назад было безлюдным и пустынным, а сейчас яблоку негде упасть. Кругом, насколько хватает взгляда, толпы людей. Шум, гам, толкотня. Десятки софитов, наскоро установленных на крыши машин, освещают пещеру, над которой рабочие уже приступили к монтажу сцены и огромного экрана.
Сотни блогеров ведут свои репортажи и стримы, стараясь перекричать соседа и не упустить момент, когда из пещеры появится Святое Семейство. Туда же своими камерами нацелились тысячи смартфонов и глаз, которые ловят каждое движение. Чтобы успеть нажать на затвор или, ещё лучше, впрыгнуть в кадр и сделать селфи, от которого лопнут от зависти все, кто проспал эту ночь.
Впрочем, пора остановиться. Так как многие уже поняли, о чём я хотел сказать.
За шесть веков Великорецкое паломничество пережило столько, что этого с лихвой хватит на десяток диссертаций и романов толщиной в ладонь. И переживёт ещё немало. В том числе переживёт нынешний этап его истории, когда, казалось бы, всё напоказ, и той тайны, которую в своих снимках смог запечатлеть Георгий Колосов, почти не осталось. Между тем, как было замечено в одном из лучших фильмов прошлого года, «там, где нет сомнений, нет тайны, а где нет тайны, нет и веры».
Как же сделать так, чтобы тайна и вера не исчезли? Надо вспомнить, что главное на Великорецком пути происходит не вокруг, а внутри. В твоей душе. И этого главного, как писал Сент-Экзюпери, «глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».
А раз так, то почему бы снова не попробовать пройти Великорецкий путь без смартфонов и социальных сетей, громких речей и больших начальников. Всего, что отвлекает от тайны, мешает вглядеться в себя и заставляет смотреть по сторонам. Ведь ходили же так веками! И сейчас не собьёмся с пути. Было бы желание.
ПОЧЕМУ ХРИСТОС?
Неделю назад, в день памяти святой Варвары, я вспомнил, как она выбросила в окно всех идолов. На что один знакомый заметил, что современный человек не верит ни в какие деревяшки, на месте которых у него портреты гениев и прочих мудрецов.
В самом деле, разве мало было умных и добрых людей, талантливых и харизматичных, способных увлечь и повести за собой? Почему же тогда мы пошли за Христом?
Потому что, образно говоря, пока все другие учителя учили тому, как прибежать к финишной ленточке первым, срезав дорогу и растолкав локтями других людей, Христос позвал дальше — в Царство Небесное. Туда, где прежде никто из земных учителей не бывал и не знал, как стать его гражданами.
Всё остальное, включая христианскую государственность и мораль, культуру и просвещение, право и смягчение нравов, к этому лишь приложилось. Стало результатом поисков Царства Небесного, которое Христос завещал искать прежде всего (Мф. 6:33).
Поэтому если кому-то интересно это Царство найти, то без Христа не обойтись. А если неважно и неинтересно, то и называть христианством это не надо. Это что-то другое.
ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ХРИСТА
Сегодня католическое Рождество. «Что же нам до этого?» — спросит иной читатель. Со столь недоумённым видом и интонацией, словно, вспоминая об этом, мы предаём православие.
Хотя меня больше волнует другое: почему, назвавшись христианами, некоторые люди остаются к Нему равнодушными? Ходят в церковь, держат посты, вычитывают положенное правило, одеваются, причёсываются, выглядят как христиане, но о Самом Христе думают редко или не думают вообще.
Бывает, пригласят освятить квартиру. Попросишь хозяев принести икону Спасителя, а они перероют весь дом, но не могут найти. Как и Евангелие, которое — не мной замечено — протестанты знают лучше православных. А раз его не читают и не знают, то и не стараются по нему жить, соизмеряя свои мысли и поступки с Благой вестью Христовой.
Такое вот «христианство без Христа» получается. Хотя очевидно, что ничего подобного нет и быть не может. По сути, это имитация. Более или менее похожая на христианство внешне, но внутренне весьма далёкая от того, чему Христос учил, ради чего взошёл на Крест и воскрес.
Можно отпустить бороду до пупа, сутками не вылазить из купели, стоптать в крестных ходах ни одни сапоги, объехать множество святых мест, с утра до ночи читать акафисты и смотреть православный канал, завесить стену иконами и во всех пабликах «топить» за Святую Русь, но имитация так и останется имитацией. Если во всём этом нет Христа. А борода? Как говорится, борода и у козла есть. Разве в ней дело? Фарисеи тоже были и верующими, и бородатыми, а Сына Божия тем не менее не узнали и распяли.
Как этого избежать? Надо мысленно поставить в центр своей веры и жизни Спасителя и Его Благую весть. Подобно тому как в центре иконы Рождества находятся не волхвы и не пастухи, не вертеп и не Вифлеемская звезда, а Сам Христос.
Давайте же вглядимся в эту икону более внимательно. С надеждой на новые открытия и добрые подсказки, без которых замысливший всё это Отец не мог оставить своих детей.
ВИФЛЕЕМ КАК ОБРАЗ МIРА СЕГО
Замечали ли Вы, что история Рождества перекликается с тем, чему учил Христос, и теми образами, которые Он использовал в Своей проповеди?
Первый из этих образов — Вифлеем, в котором не нашлось гостиницы для молодой женщины, готовящейся стать матерью. Никто из хозяев не предложил Ей приют. Никто из постояльцев не уступил своё место. Таков «мiръ сей», в котором каждый ищет свою выгоду и думает о себе. О том, как выжить и избежать дискомфорта, различных проблем и бед и в итоге смерти.
Поэтому Святому Семейству пришлось покинуть Вифлеем и искать приют за его стенами. Впрочем, неслучайно. Потому что Царство Небесное, которое пришёл возвестить Христос — не от «мiра сего». О чём история Его Рождества напоминает особенно ярко, образно и точно.
ИРОД КАК СИЛЬНЫЙ МIРА СЕГО
Ещё один образ Рождества Христова — образ царя Ирода, который послал воинов погубить в Вифлееме всех младенцев. Поскольку боялся, что родившийся в этом городе Мессия станет народным вождём и отберёт у него власть.
Злодеяние Ирода ужасно. Однако оно не противоположно, а сродни тому, как жители Вифлеема отнеслись к Святому Семейству. Отказавшись приютить молодую женщину, которой пришло время родить, и тем самым обрекая Ее и Младенца на возможную смерть.
В этом все они оказались подобны Ироду, а Ирод — жителям Вифлеема. С той разницей, что Ирод был царём, то есть не простым гражданином, а «сильным мiра сего». Но двигало им всё то же желание выжить. Причём не своим усердием, талантами и силами, а за счёт других. Столь характерное для «мiра сего», образом которого является Вифлеем.
ОБРАЗ ПУТИ
Когда говорят о волхвах и пастухах, обычно подчёркивают, чем они отличаются друг от друга. Однако почему бы не задуматься над тем, что их объединяет? Они находятся вне стен Вифлеема. Волхвы уже давно покинули свои царства и отправились за удивительной звездой, которая в итоге привела к Рождественскому вертепу. Пастухи вышли из дома недавно и находились в поле со своими стадами, когда им явились ангелы, славящие Христово Рождество. Равно как и Святое Семейство к тому времени уже много дней находилось в пути.
Случайно ли это?
В Священном Писании мы часто встречаем странников, покинувших родные края. Такими были Авраам и Иосиф, Моисей и Предтеча. Самарянка встретила Христа у колодца. Мария оставила в доме сестру и выбежала навстречу. Апостолы оставили свои лодки и отправились за Учителем, Который Сам постоянно находился в пути и «не имел места, где можно преклонить главу». В отличие от книжников и фарисеев, которые всегда тяготели к своему народу и его традициям, и через эту привязанность оказались рабами «мiра сего».
Поэтому, как бы ни были хороши СССР или Царская Россия, Европа, Америка или глобальный Юг, прилепляться сердцем надо не к ним, а к Христу и Его Царству. Чтобы не увязнуть в «мiре сем». Будь он трижды сыт и могуч, красив и на вид благочестив.
Вот почему не только волхвы, пастухи и Святое Семейство, но также все христиане с тех пор постоянно находятся в пути из «мiра сего» в Небесное Царство.
ОБРАЗ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
Один из самых ярких моментов Рождества Христова — явление Ангелов, возвестивших пастухам о рождении Спасителя мира. О чём создано немало умилительных и трогательных картинок. Однако я думаю, что это было не столько умилительно, сколько неожиданно и даже страшно. Иначе не понять, почему пастухи бросили свои стада и поспешили к пещере, чтобы увидеть пришедшего в мир Бога.
При этом поразительно, что открывшееся пастухам Царство Небесное было так близко, практически рядом. Не где-то «далеко и потом», а уже «здесь и сейчас». Впоследствии именно это проповедовал Христос, говоря, что Его Царство «приблизилось» (Мф. 4:17) и уже здесь и сейчас можно с ним встретится и стать его гражданами.
ОБРАЗ ЦЕРКВИ
Ещё один образ Рождества — образ Христовой Церкви. На иконе его являет Пещера, которая находится в месте, которое трудно поддаётся описанию. Расположенном на земле, но за стенами Вифлеема — вне «мiра сего», в котором Святому Семейству не нашлось места.
При этом уже сейчас Пещера Рождества озарена светом Царства Небесного, который исходит от лежащего в яслях Младенца и сияет на лицах собравшихся людей.
Это помогает понять, что делает нас христианами? Ни купание в купели, куда ныряют также и моржи. Ни многокилометровые шествия, в которых участвуют также и туристы. Ни изучение церковной истории и культуры, чем также занимаются учёные. Ни почитание предков и традиций, в чём преуспели реконструкторы и язычники. И даже ни посещение храма, куда не запрещено входить даже атеистам.
Всё это может быть увлекательно и даже полезно. Однако не делает нас христианами, если не связано с Христом и тем, для чего Он родился, как жил, что проповедовал, зачем взошёл на Крест, как победил смерть и почему после Своего Воскресения остался с нами, в созданной Им Церкви.
Поэтому в центре иконы Рождества Христова — не волхвы и цари (учёные и государство), не пастухи (труженики и простой народ), не Мария и Иосиф (семья и родные), не животные и природа (тварный мир) и не родная земля (родина, отечество). В центре иконы Рождества — Христос. Все остальные и всё остальное собрано вокруг Него.
Также и мы, назвавшись христианами, являемся ими лишь в меру того, насколько центром нашей жизни является Христос. Для чего достаточно вспомнить, давно ли мы исповедовались Ему и причащались Его Святых Таин? А всё остальное, включая святую воду и ныряние в купель, приложится.
ОКО ЗА ОКО, И МIРЪ ОСЛЕПНЕТ
Закончился год. Начался новый. Каким он будет?
Предвижу ответ: как Бог благословит. Суперправильный и ультраортодоксальный. Который чаще всего произносят те, кому, на самом деле, никакое благословение свыше не нужно. Для кого эти слова лишь прикрытие, попытка переложить ответственность на других и в конечном итоге на Бога. Что первым пытался сделать ещё Адам, обвинив в своём грехе Создателя: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12).
Хотя, конечно, так и есть — как Бог благословит, таким этот год и будет. Просто не надо повторять это по всякому поводу. Подобно музыкальной шкатулке, играющей всякий раз одну и ту же мелодию. А лучше задуматься над тем, что мы сами можем сделать для того, чтобы новый год был лучше или хотя бы не хуже старого. Даже если это увидят и услышат не миллионы, а всего лишь несколько человек.
Подобно той радости, которую в ушедшем году подарил спектакль «Хлынов», поставленный в областном драматическом театре к юбилею города. Поводом для которого стала история «развода Вятки», состоявшегося в 1489 году по воле великого московского князя Ивана III и круто изменившего жизнь Вятской земли.
Формально спектакль об этом. Однако, если подняться на другой уровень обобщения, можно увидеть больше. Можно увидеть город или страну, которые отгородились от остального мира высоким забором, никому не верят и уверены, что отношения с соседями можно выстраивать только с позиций силы. Так как кругом враги, и, если проявишь слабость, они разорвут тебя на куски. Вывод — око за око, и только так! На что главный герой отвечает фразой, которая после спектакля ещё долго звучит в твоём сердце: «Око за око, и мiръ ослепнет». Хорошо сказано! Тем более в наши дни, когда каждое слово о мире на вес золота.
Что же касается недостатков, то как без них? Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но писать о них не буду. А за слово о мире спасибо! Юбилей пройдет, а оно не забудется.
ЧЕМ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ?
Сегодня за службой снова звучало Евангелие о суде над Спасителем. Потрясающие своим драматизмом и деталями, о которых из четырёх евангелистов сообщает только Лука. Например, о том, что, когда Пётр в третий раз отрёкся от Христа, Иисус посмотрел на Своего ученика, их взгляды встретились, и, устыдившись, Пётр вышел со двора и горько заплакал.
Очевидно, что выдумать такое невозможно. Скорее всего это было записано со слов самого Петра или Иоанна, который также присутствовал на том суде. Пилат мог и должен был остановить беззаконие, но не захотел. Уступил нажиму толпы и сильных «мiра сего», которые требовали казни Христа. Хотя понимал, что Пленник ни в чём не виноват.
Каждый раз, когда я читаю эти страницы, мне кажется, что вот сейчас, в этот раз, Пилат не дрогнет, выгонит из дворца клеветников и освободит Арестанта. Для чего собственно и существует государство — чтобы смирять олигархов и толпу перед лицом Истины. Однако это возможно, лишь когда ты знаешь Истину и ей дорожишь. Как в любви, когда ты любишь кого-то по-настоящему, то живёшь уже не только ради себя, но и ради того, кого любишь. Поэтому вопрос «что есть истина?», который Пилат произнёс, возможно, стал приговором. Как Иисусу, так и тем, кто требовал Его казни, и самому Пилату.
К чему это я? К тому, что это не просто «было и прошло», но постоянно повторяется, чем бы мы ни занимались и где бы ни находились. Независимо от того, называем мы себя верующими или неверующими. Мы стоим перед лицом Истины и делаем выбор, от которого зависят судьбы других людей. Причём по мере того, как «мiръ сей» становится всё более глобальным, число этих людей растёт. И однажды всё закончится тем, что человек, от которого зависят судьбы всего человечества, выберет не Истину, а самого себя. Как это сделал Пилат. И никто не сможет ему помешать. Потому что само слово «истина» будет вызывать ухмылку. Этим всё и закончится.
НАСКОЛЬКО МЫ БЕЗНАДЁЖНЫ?
Продолжая вчерашний пост, хочу сказать, что Христу всё это было известно. И тем не менее ни во время Тайной вечери, ни на Кресте, ни после Своего Воскресения Он ни в чём не укорил Своих учеников. Ни трижды отрёкшегося Петра, ни предавшего Иуду, ни сомневавшегося Фому, ни остальных.
Страдая на Кресте, Христос ни словом не осудил мучителей и не стал, подобно некоторым блогерам и горе-миссионерам, читать лекции о том, как ужасен окружающий мiръ, а человек плох и безнадёжен. Но, напротив, просил Бога Отца простить убийц, ибо «они не ведают, что творят» (Лк. 23:34). И даже, когда спустился в ад и встретил Адама и Еву, не стал сыпать обвинениями и приводить примеры, к чему привело грехопадение первых людей, но вывел их из ада в Своё вечное Царство.
При этом в Евангелиях, действительно, можно встретить немало горьких пророчеств. Однако все они исполнены не презрения, а сострадания к людям. Подобных тому, как отец печалится о детях, заблудившихся и потерявшихся, но ещё способных вернуться на верный путь. Самые же грозные слова Спасителя обращены к тем, кто лишает людей этого пути — книжникам и фарисеям. Которые сами себя считают безупречными и способными рассуждать о судьбах мiра, а по сути — гордецы и кликуши.
Поэтому будем осторожны в наших суждениях. Будем брать пример с Христа, Который даже после всех беззаконий, продолжал верить в способность человека покаяться и стать гражданином Его Царства. Что произошло с Благоразумным разбойником. Пусть в последние минуты, но произошло.
И, значит, мы не безнадёжны.
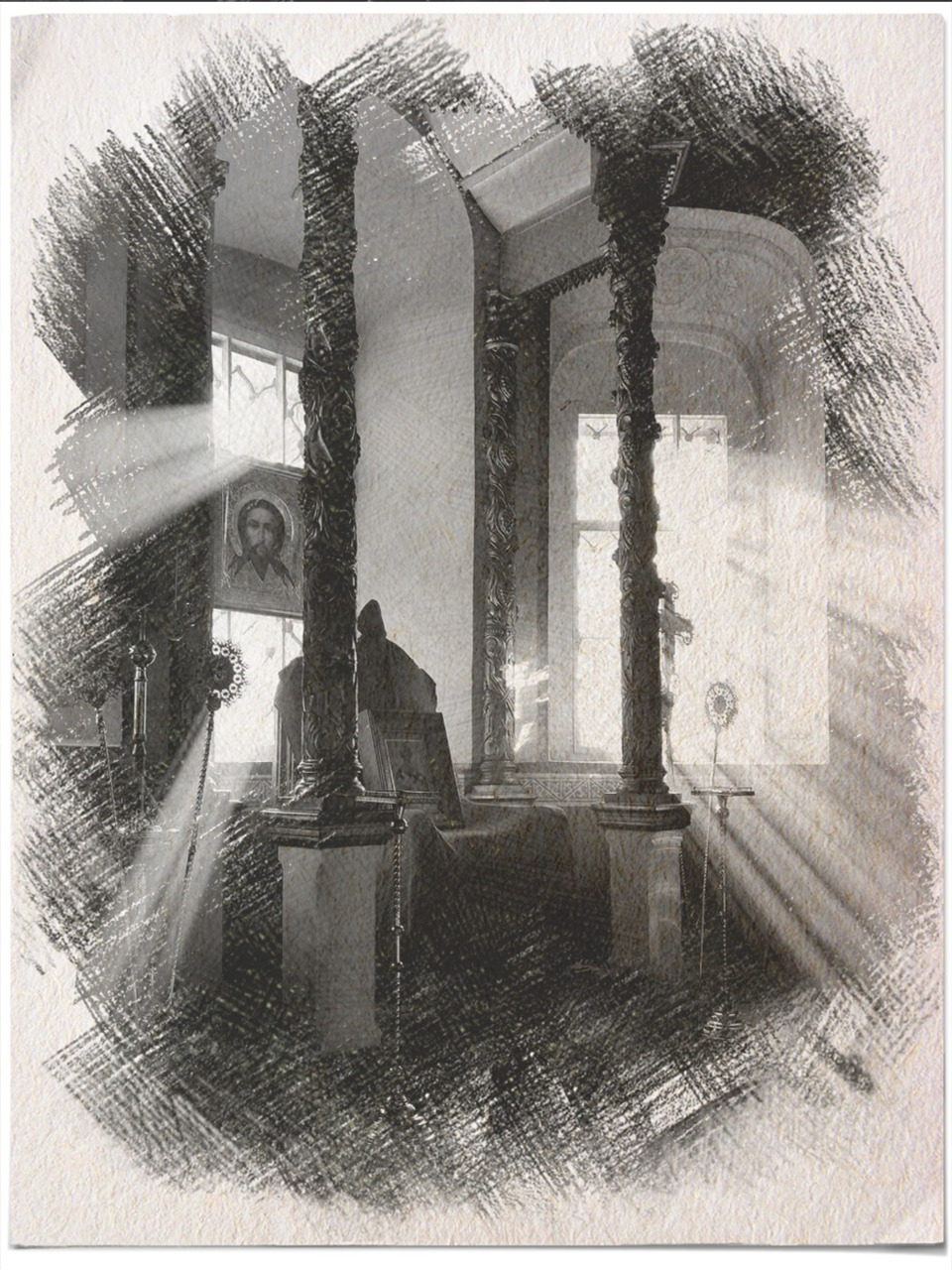
ДНЕВНИК ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТРИ ЛИТРА ТОМАТНОЙ ПАСТЫ
Помню свой первый пост, когда первые три дня я ничего не ел. Кроме томатной пасты, разведённой в трёхлитровой банке. К концу третьего дня мои ладошки стали морковного цвета, голова пошла кругом, и тарелка с рожками стала казаться пиром на весь мiръ.
Сегодня, вспоминая об этом, я лишь грустно улыбаюсь. Поскольку, оказалось, можно питаться одной томатной пастой, и при этом оставаться таким упёртым эгоистом, что общение с тобой становится невыносимым. Но ты этого не замечаешь, так как, тренируя волю, всем своим существом упёрся в банку с пастой и больше ничего и никого не видишь. Однако воля без любви — как накаченные мышцы без сердца. Добра не будет. И такой пост никому не нужен.
Неслучайно в первый день Великого поста звучат такие слова: «К чему Мне множество жертв ваших? — говорит Господь… Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим» (Ис. 1:11, 15—17). А раз так, то дело не в колбасе, молоке или томатной пасте, а в том, чтобы не быть мучением для других людей. Но стать для них опорой, надеждой и радостью.
ЧЕТЫРЕ СЛОГА
В 1971 году Иосиф Бродский написал, пожалуй, своё самое короткое стихотворение:
В ушную раковину Бога
Закрытую для шума дня
Шепни всего четыре слога:
Прос-ти ме-ня.
В самом деле, что мы ещё можем сказать в ответ на безграничную любовь Божию, сопровождающую нас с первого до последнего дня. Сказать не только Богу, но всем, кем были любимы. Кто поверил в нас и доверился нам. Кто щедро делился с нами главным, что у него было — своей жизнью. Единственной и неповторимой. Какие ещё слова сможем привести в своё оправдание? «Прос-ти ме-ня». Пожалуй, это всё, что мы сможем выдохнуть. Если сможем.
Поэтому, чем меньше слов, тем лучше. Особенно в Церкви. Из-за чего все бесконечные чтения правил, акафистов, канонов, кафизм, стихир, тропарей и кондаков кажутся чрезмерными и ненужными. Как бег по кругу. Без начала и конца. Без ясной и конкретной цели, к которой надо стремиться. Слова, слова, слова.
Вот и Христос говорил ученикам, чтобы, молясь, они не говорили лишнего, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:8). Отчего же в Церкви так много слов? Напишу об этом в следующей заметке. А пока подумаю, как это сделать покороче. В четыре строчки или слога.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЛОВА?
В самом деле, зачем в Церкви так много слов, чтения и пения, что с непривычки хочется развернуться и уйти? Причём слов устаревших, которые сегодня мы не используем и не понимаем?
Вообще, зачем о чём-то просить, если Бог и так знает, что нам нужно? И, если это в самом деле нам необходимо, даст сразу, без всякой просьбы. Как каждый день даёт свет, вздох и жизнь восьми миллиардам людей. Хотя не все Его об этом просят и думают о Нём. Так к чему все эти слова, которых особенно много звучит в дни Великого поста.
Попробую привести такую аналогию. Если хочешь жить в другой стране, то, как не крути, придётся выучить язык, на котором говорят её жители. Без чего в один прекрасный день тебе укажут на дверь и депортируют в родные края. Также и слова в Церкви нужны не для того, чтобы что-то выпросить у Бога, но чтобы научиться Его слышать и понимать, говорить с Ним на одном языке и так стать гражданином Его Царства.
Как это? Попробую рассказать.
ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ТРЕНИНГА
Помню, как долго я переживал, что не понимаю всех слов, что звучат за богослужением. Даже специально купил словарь церковно-славянского языка, который затем за ненадобностью переехал в одну из библиотек. Потому что, во-первых, появилась его online-версия, а, во-вторых, оказалось, что во всём этом есть другой смысл.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
