
Бесплатный фрагмент - Дневник юной особы
Предисловие
Порой жизненные обстоятельства требуют от нас принять роль судьи и даже палача по отношению к собственному прошлому. Это не акт жестокости, а скорее суровая необходимость, навязанная ходом событий. Для меня таким переломным моментом стало осознанное решение расстаться с домом, где я родилась и выросла.
Он стоял пустой и забытый на краю нашего маленького, утопающего в зелени городка, как старый, верный друг, который слишком долго ждал меня. С тех пор как родители ушли, дом стоял в полудреме, в ожидании. Я давно жила далеко, моя жизнь прочно укоренилась в другом городе, с другими заботами, с мужем, с детьми и внуками. Моя кипучая и активная жизнь совершенно не была похожа и не сочеталась с тихим шелестом листвы в нашем старом саду, с каким-то немного сонным и размеренным течением бытия в городе моего детства и ранней юности.
Каждый раз, приезжая сюда на несколько дней, я чувствовала, как на меня накатывает волна тепла. Это тепло было соткано из воспоминаний и ощущений: манящий запах маминых пирогов, скрип отцовского кресла, утренний свет, пробивающийся сквозь тюль в гостиной. Это было мое тепло, мое детство, моя ранняя юность. Но вот что я поняла: дом без хозяина, без того, кто его любит и наполняет собой ежедневно, хиреет и умирает. Он постепенно, с течением времени превращается в старый механизм, чьи шестеренки заржавели от бездействия. Дом нуждался в человеке, который вдохнет в него новую жизнь. А я, увы, уже не могла дать ему этого.
Сомнения терзали меня месяцами. Продать — значило отрезать последнюю тонкую нить, которая связывала меня с детством, с родителями. Но оставить — значит позволить этому чудесному месту медленно угаснуть в пустоте и одиночестве. Я выбрала второе, более болезненное, но честное решение.
Именно в процессе этого прощания, разбирая старые вещи в поисках того, что стоит забрать, что выбросить, а что оставить на попечение новому владельцу, я наткнулась на то, о чем совершенно забыла. На дне старого черного сундука я обнаружила стопку пожелтевших от времени тетрадей. Мои дневники.
Я сидела в родительском доме, вдыхая запах времени, и впервые за много лет увидела себя со стороны. Ту наивную, полную надежд и нелепых трагедий девчонку, которая когда-то жила в этих стенах. Она была такой смешной, наивной и такой настоящей.
Эти записи — не просто хроника событий. Это пульс того тепла, которое, как мне казалось, исчезло навсегда, затерялось в бесконечных коридорах времени. Дом был пуст, но его душа, его истинный уют, остались здесь, запечатанные на этих пожелтевших страницах.
Разбирая старые вещи, я просто, наконец, нашла способ забрать из него самое ценное. Свои воспоминания. Я отдаю вам эти записи, чтобы вы могли прочесть их. И, возможно, в них вы найдете отголоски собственного прошлого, которое тоже когда-то казалось вам концом света, а теперь стало просто прекрасной главой вашего романа под названием «Жизнь».
Катерина
Чердак старого дома
Ступени в прошлое
Катерина привычным движением взяла лестницу, установила стопоры, проверила, прочно ли они стали, и осторожно, ступеньку за ступенькой, преодолела расстояние от пола до люка в потолке. Она уперлась головой в крышку — она легко приподнялась. Катерина еще шагнула на одну ступеньку вверх, и крышка легко отлетела в сторону, открывая путь в прошлое.
Скрипнула последняя ступенька, и Катерина оказалась на чердаке. На чердаке ничего не изменилось. Все было так, как всегда. Это было не просто отсутствие перемен, это была идеальная консервация момента, в котором она последний раз была здесь несколько лет назад. Время остановилось. Замерло в ожидании.
Ее легкие наполнились густым, обволакивающим ароматом. Пахло деревом, но не свежей стружкой, а глубоким, многослойным запахом старого дерева, пропитанного временем. Весь пол был устлан толстым, мягким слоем опилок, которые, казалось, впитали в себя не только время и пыль, но и само тепло всех прожитых в этом доме лет. Катерина сделала шаг, и опилки тихо, почти благоговейно зашелестели под подошвой, словно вздохнув от долгого сна.
Летнее солнце, проникая сквозь небольшие, пыльные боковые окошки, создавало на полу золотые, четко очерченные прямоугольники. Свет выхватывал из полумрака отдельные предметы, превращая их в молчаливые экспонаты музея ее собственной жизни, жизни ее семьи.
Пыль времени
Катерина медленно огляделась, и волна острой, почти физической ностальгии накрыла ее. Полумрак чердака, пробиваемый лишь полосками света из небольших окон, мгновенно сгустился вокруг нее. Она стояла на пороге десятилетий, забытых и законсервированных здесь, под самой крышей. Это были не просто старые, забытые вещи — это была ее история, переплетенная с историей этого дома, который теперь готовился сменить владельца.
Ее взгляд скользил по нагромождениям. Вот старый черный сундук, который стоял здесь всегда. Рядом, в углу, громоздились коробки из плотного картона, пыльные, местами помятые, но все еще живые.
Шестьдесят лет. Возраст, когда понимаешь, что твоя жизнь — это уже не бесконечный чердак, где можно просто отложить вещи на потом. Жизнь — это сейчас, и сейчас нужно принимать решения. Продажа дома означала не просто смену адреса; это означало ампутацию прошлого.
— Разобрать, — прошептала она в тишину. Слово прозвучало чужеродно в этом святилище прошлого.
Разобрать, рассортировать. Что забрать? Что сохранить как драгоценную реликвию, а что, с легким поклоном, отпустить в небытие? Каждая вещь требовала оценки не по ее материальной ценности, а по весу пережитых эмоций. Эта старая, поцарапанная керосиновая лампа — символ уюта в те времена, когда электричество еще не всегда было в поселке. Выбросить? Оставить новым владельцам?
А вот стопка старых газет, пожелтевших до состояния пергамента, с заголовками, которые уже давно потеряли свою актуальность. Они занимали место, они были просто бумагой. Выбросить.
Сердце Катерины сжималось от боли, похожей на фантомную, но вполне реальную потерю. Разбирая чердак, она разбирала саму себя. Она чувствовала себя археологом, который раскапывает собственные завалы, и каждый предмет, поднятый из пыли, кричал ей о том, какой долгой и насыщенной была эта жизнь.
«Прости меня, мой дом,» — подумала Катерина. — «Но пришло время двигаться дальше. И начинать нужно с того, что лежит прямо здесь, на твоем чердаке».
Вот видавший виды алюминиевый чайник, его бока потускнели, но носик все еще сохранял изящный, почти дамасский изгиб, словно созданный для того, чтобы лить кипяток с аристократическим достоинством. Выбросить? Нет. Взять.
Рядом стояли аккуратной горкой черные чугунки. От огромного, пузатого, в котором, казалось, можно было сварить обед на целую роту, до крошечного, идеальной формы, который она когда-то использовала для игры в куклы, готовя «суп» из песка и воды. Катерина провела кончиками пальцев по шершавому, черному боку самого большого. Холод чугуна был утешающим, основательным. Выбросить? Нет. Подарить, кому-то же они пригодятся!
Взгляд скользнул и остановился на картонной коробке с соковыжималкой внутри. Коробка пожелтела от времени, рисунок на плотном картоне выгорел, но Катерина мгновенно увидела эту соковыжималку в действии. Она почувствовала внезапное онемение в пальцах от осеннего холода, то самое, которое случалось в конце сентября, когда наступала пора сбора яблок. Она видела себя, маленькую, с красными от холода щеками, несущую корзины с яблоками из сада. Вспомнила мытье их под ледяной водой из уличного крана, как вода обжигала кожу, заставляя ее сжиматься, а затем — удовлетворение от тяжелой работы, когда включался электромотор соковыжималки, и нож внутри начинал вращаться, издавая знакомый, ритмичный звенящий гул.

И вот он — результат: густой, мутный поток яблочного сока, падающий в эмалированную чашку. Сладкий, с той самой, едва уловимой терпкостью, которую давали только сочные хрустящие антоновки.
А потом… ее сердце сжалось от нежности. Папа. Он иногда забирал этот сок, чтобы поставить вино. Она помнила, как он разливал его по огромным бутылям, как зимний свет, проникая сквозь стекло, делал выстаявшееся, созревшее вино янтарным, сияющим, живым. Она чувствовала его присутствие — не как призрак, а как теплое послевкусие того самого вина, терпкого и прозрачного, которое папа позволил ей попробовать, когда Катя стала взрослой.
Эти вещи, покрытые слоем пыли и забвения, не были мусором. Они были частью ее самой. Каждая вмятина на чайнике, каждый слой ржавчины на чугунке — это были не дефекты, а шрамы, которые делали их родными, незаменимыми. Катерина глубоко вдохнула запах опилок и на мгновение ей показалось, что она больше не взрослая женщина, стоящая на чердаке, а маленькая девочка, которая пришла сюда, чтобы спрятаться от мира, зная, что здесь, среди забытого тепла, ее всегда найдут и поймут.
Колыбелька
Летний воздух в родительском доме теперь пах по-новому: сухой травой, нагретым солнцем деревом и легким, едва уловимым ароматом старой пыли, осевшей на вещах, которые помнили слишком многое.
У небольшого окошка в торце помещения, стояла деревянная колыбелька. Сердце Катерины застучало резко, отзываясь эхом в тишине. Эта колыбелька была не просто старой мебелью — это была особая детская кроватка, сделанная с трепетной любовью руками ее отца для новорожденной Кати.
Она сразу вспомнила себя: ей было три, может, четыре года? Из тайных глубин ее памяти всплыла так явно и четко картинка, как она, совем еще малышка, просыпалась, а потом осторожно выбиралась из этой кроватки по утрам. Как осторожно перебрасывала вначале одну, потом вторую ногу через тогда такой высокий бортик, как спрыгивала на пол, чтобы бежать на кухню, где пахло мамиными блинами.

А потом, много лет спустя, ее собственные дети, Антон и Маша, спали в этой колыбельке. Катерина вспоминала те времена с почти физической ясностью. Катерина увидела себя на скрипучем стуле в углу детской, наблюдающей за тем, как мягко колышется старая деревянная кроватка, а в кроватке лежит ее первенец.
Много лет назад, в том же самом углу, под тем же самым окном, спала она сама. Теперь было лето, и она, уже взрослая женщина, сама мама, приехала к родителям на весь теплый период. Она была в декретном отпуске. Сначала она привезла в родной дом совсем крошечного Антона, и его сопение казалось эхом ее собственного младенчества. А потом, через пару лет, приехала Маша, и старые, отцовские бортики снова были свидетелями тихих вздохов и сопения.
«Как же быстро пролетело время», — прошептала Катерина, и ее голос потонул в тишине чердака.
Время, которое так медленно тянулось и казалось бесконечным, когда она ждала, пока младенец Антон подрастет, или когда пыталась уложить капризную Машу, теперь сжалось до одного мимолетного мгновения.
Теперь Антон и Маша уже взрослые. У них свои квартиры, свои заботы, свои семьи и свои дети — внуки Катерины, которые спят в модных, легких кроватках, купленных в гипермаркетах.
Катерина посмотрела на колыбельку, стоявшую в углу. Она была сделана с любовью отцовскими руками, до сих пор крепка и надежна, но теперь… никому не нужна. Ее миссия выполнена. Она отслужила трем поколениям.
Она погладила рукой прохладное, отполированное дерево. Это было немного грустно — чувствовать себя хранителем того, что мир уже перерос и стремительно улетел вперед.
«Может, новые хозяева найдут ей применение», — подумала Катерина. Она закрыла глаза, вдыхая запах дома и собственного давно прошедшего детства. Колыбелька останется здесь, в доме, как молчаливый свидетель того, как жизнь, словно вода, всегда находит путь вперед, унося с собой самые дорогие моменты.
Эхо воспоминаний
Катерина еще раз посмотрела на колыбельку, коснулась рукой, словно прощаясь с тем далеким временем, и отошла в сторону. Теперь ей предстояло разобрать содержимое огромной картонной коробки из-под телевизора, старого синего чемодана и огромного черного сундука. У каждой этой вещи была своя история, которую Катерина знала наизусть, и все это с такой настольгией вспоминалось сейчас.
Рядом с сундуком, сваленные в кучу, лежали старые, но все еще живые многочисленные журналы «Наука и жизнь» и «Знание — сила». Подписка за 1975–1978 годы. Катя — она позволила себе назвать себя так, как звал и помнил ее этот старый дом — присела на толстое бревно стены, пролистала несколько выпусков. Вспомнила, как читала эти журналы от первой до последней страницы, как жадно впитывала информацию — ей все было интересно. А еще припомнила, с какой дотошностью перерисовывала замысловатые чертежи и схемы, когда по инструкциям из раздела для рукодельниц «Для тех, кто вяжет» в журнале «Наука и жизнь» создавала свои самостоятельно связанные первые свитера. Эта рубрика имела мало общего с наукой, но была очень близка жизни советского человека. В эпоху тотального дифицита эта рубрика пользовалась большим вниманием.

Рядом с пожелтевшими стопками журналов, которые, казалось, никто не трогал с начала восьмидесятых, лежали старые школьные учебники. Они были тяжелыми, с твердыми, все еще яркими обложками.
Но внимание Катерины привлекли не учебники, а россыпь ее собственных, исписанных тетрадей. Тетради рассыпались и смешались со старыми журналами и книгами, и Катерина принялась их перебирать. Вот конспекты по физике, полные неуклюжих рисунков и формул, которые она тогда отчаянно пыталась понять. А вот тетрадь по литературе, где ее подростковые сочинения были похвалены учительницей с неожиданно теплой пометкой.
И тут, в самом низу стопки, она нашла школьный дневник за девятый класс.
Катерина устроилась поудобней, подстелив картонку, вытянула ноги и осторожно раскрыла дневник. Она начала пролистывать страницы.
Сентябрь. Строчки, написанные аккуратным, но еще не окрепшим после долгого лета почерком, рассказывали о напряженном расписании, о новых предметах и домашних заданиях.
Ноябрь. Катерина невольно улыбнулась, увидев оценки, проставленные суровыми, но справедливыми красными чернилами. Вот «пять» за сочинение, а вот «тройка» за невыученный параграф по истории. Она почти физически ощутила присутствие своей строгой классной руководительницы, Елены Петровны, чья рука выводила эти пометки.
Листая дальше, она увидела расписание уроков, исчерканное пометками о контрольных и факультативах. Она вспомнила лица. Вот Олег, который всегда сидел на последней парте и списывал у нее же. Вот ее школьная подружка Света, которая всегда первой сдавала тетради. Все эти люди, чьи жизни тогда были так тесно переплетены с ее собственной, теперь были далеко, у каждого своя судьба.
На последней странице, под датой «30 мая», было написано всего одно предложение: «Наконец-то лето».
Картонная коробка
Катя резко встала, бросила дневник в кучу старых журналов. «Надо это все сжечь!» — решила Катерина, чувствуя внезапный, почти физический порыв избавиться от груза прошлого. От долгого сидения в неудобной позе затекла спина. Она потянулась, выгнув спину, и осмотрелась. Задумалась. С чего же начать разбор этого кладбища памяти? Коробка, чемодан или сундук?
Катя подумала и решительно шагнула к картонной коробке. Коробка была старая, местами картон порвался, местами был примят. Она открыла створки — они были пыльными, и Катерина тут же чихнула. Пальцы рук уже были серыми, грязными от многолетней пыли. Катя заглянула внутрь огромной коробки. Она сама могла бы уместиться в этой коробке, если бы свернулась калачиком на дне.
В коробке, аккуратно упакованные в целлофан, лежали клубки серых ниток. Катя сразу глянула в дальний угол чердака — да, все было по-прежнему. Там стояла мамина старая прялка. Сколько лет этой прялке? Сто? Маме эта прялка досталась от кого-то из родственников. Катя помнила, как этот раритет появился в их доме. Пыльный, немного потрепанный, но живой. Папа долго осматривал прялку, вытирал пыль, а потом что-то ремонтировал в ней.
Катя сейчас посмотрела на это столетнее чудо и мгновенно из недр ее памяти всплыли яркие картины: пропитанные уютом и теплом короткие зимние дни и длинные вечера. На нее обрушилась волна печали, такой острой и теплой одновременно. Она мгновенно оказалась в комнате у окна. Зимний день. Мама сидит за прялкой, Катя рядом. Солнце — низкое, зимнее, но удивительно яркое — пробивается сквозь стекло с удивительными морозными узорами, рисуя на полу золотистые полосы.
Катерина почувствовала, как тепло обволакивает ее, словно старый шерстяной платок. Она услышала, как дрова трещат в печи — этот сухой, уютный звук, который обещал покой. Услышала, как вода булькает в чугунных батареях — этот низкий, убаюкивающий звук.
И в этом идеальном, застывшем кадре прошлого было только одно движение, один постоянный ритм: стук педали прялки и тонкое, почти неслышное жужжание шпульки, наматывающей шерстяную нить. И еще мамины ловкие пальцы, вытягивающие шерсть в тонкую нить. Это был звук созидания, звук маминой заботы, звук безопасности.
В этот момент Катерина ощутила острую, пронзительную ностальгию по простоте, по этой абсолютной, незыблемой уютности, которую она так яростно пыталась воссоздать в своей взрослой жизни через дорогие вещи и карьерные успехи. Но все это было какое-то бездушное. Настоящее тепло было там, в той комнате, под стук старой маминой прялки.
Как же долго она бежала от этого тихого, умиротворенного прошлого, считая его слабостью, что почти забыла, как сильно оно ее питало и грело.
Катя отложила в сторону несколько серых клубков ниток — это она возьмет с собой, будет вязать внукам носки!
Ниже лежали связанные мамиными руками вещи — кофты, жилеты, носки и варежки. Теплые, немного колючие.
«Это я отдам соседям. Пусть носят и вспоминают маму», — решила Катерина, аккуратно складывая вещи в стопку.
Она продолжила раскопки. Под вязаными вещами лежала еще одна, меньшая по размеру, картонная коробка. Катя открыла ее и замерла. В коробке лежали ее старые босоножки и сапоги.
От времени кожа на босоножках высохла, покрылась пятнами, стала твердой и ломкой. Но Катя все же попыталась втиснуться в эти, когда-то такие крутые босоножки на высоком каблуке. Эти босоножки Катя чудом купила в конце месяца, выстояв огромную очередь в тесном, душном магазине. А потом с гордостью ходила в них на танцы. В них она поступала в институт, в них бегала на свидания.
Катя с усилием втиснула ноги в босоножки, застегнула ремешок на тонкой щиколотке. Стоять на таких высоких, целых восьмисантиметровых каблуках было тяжело и неестественно. Когда-то она в них буквально летала, казалось, что они были созданы для ее ног. Сейчас — только боль и напоминание о хрупкости времени.
А потом она взяла в руки сапоги. Эти сапоги, хоть и прошло столько лет, все еще были мягкими на ощупь. Только вот каблуки и подошва были безнадежно истерты. Итальянские сапоги. Они стоили бешеные деньги, и Катя помнила, как долго копила на них. Но когда Катя в них шла по улице, на нее оглядывались прохожие. И даже она иногда слышала:
— Смотри, какие сапоги!
Да, обувь — это ее, Катина, страсть. Это, наверное, у нее от отца. У папы всегда была очень красивая и качественная обувь, которую он бережно носил и хранил.
Катя еще раз чихнула, спрятала обувь обратно в коробку и решительно бросила ее ближе к люку.
— Это тоже сожгу! — отрезала она, чувствуя, как уходит напряжение.
Катя вытащила еще какое-то старое тряпье, оно полетело в ту же кучу. Все сожгу!
Коробку она разобрала, отложив клубки и вязаные вещи. Теперь — синий чемодан.
Синий чемодан
Катя стряхнула с себя остатки пыли и решительно переключила внимание на синий чемодан. Он стоял возле коробки, казалось, даже не пыльный, словно время его пощадило. Глубокий, насыщенный синий цвет, потертый местами, но крепкий. Этот чемодан был не просто вещью — это была реликвия их семейной истории.
Ее пальцы дрогнули, когда она коснулась прохладной, гладкой поверхности. Внезапно в памяти всплыли семидесятые годы. Зимний вечер. За окнами дома зима, а в доме тепло и уютно. Мама собирается в Москву. Этот чемодан — обязательный атрибут поездки в изобильный столичный мир.
Мама уезжала вечерним или ночным поездом, возвращалась, как шептала сама себе Катя, спустя «ночь-день-ночь», утром. Катя в день возвращения мамы просыпалась рано, потом сидела на диване, обхватив колени, и смотрела на медленно двигавшиеся стрелки на часах. Она ждала. А потом была магия распаковки!
Катя теперь явно видела это, как будто вчера: мама ставит чемодан на стол и открывает крышку. И мгновенно в мир их дома врывается совершенно новый, незнакомый аромат — смесь запахов столичных универмагов, терпкий аромат цитрусовых, запах свежей выделки, исходящий от изысканной обуви мамы, и, наконец, некой чарующей, еще до конца не раскрытый сути, пока что аккуратно упакованной в бумагу с загадочными буквами «ЦУМ».

Из чемодана доставали апельсины — круглые, ярко оранжевые, пахнущие солнцем, которые зимой были настоящим чудом. И, конечно, Бабаевский шоколад — темный, горьковатый, который нужно было смаковать по маленькому квадратику. А потом — долгожданные пакеты с гречкой, розовые сосиски, и, о чудо! — новое, блестящее платье для Кати, а для мамы — элегантные туфли и пальто, которые казались верхом стиля.
Чемодан сменил владельца и назначение, когда пришло время отцовских поездок. Папа брал его в Трускавец. Катя вспоминала, как мама, скрупулезно выглаживая каждую рубашку, укладывала вещи в синий чемодан.
Папа всегда возвращался отдохнувшим, улыбчивым, с обязательными подарками, которые вызывали у Кати смешанные чувства.
«Странные туфли для мамы, мне они не нравились», — пронеслось в ее голове. Они были какие-то неуклюжие, старушечьи, с толстым, неудобным каблуком. Катя даже не могла вспомнить, носила ли мама эти туфли. Но вот варежки и носки из дивной белой пряжи — это было совсем другое дело! Мягкие, пушистые, они пахли свежим воздухом Карпатских гор.
Катя глубоко вздохнула, стряхивая наваждение. Она наклонилась и одновременно нажала на две металлические защелки. Они с легким, мелодичным щелчком поддались. Крышка поднялась.
Внутри чемодана царил идеальный, нетронутый порядок. Сверху лежала пожелтевшая от времени газета. Катя заметила дату: 25 апреля 2017 года. Прошло всего несколько лет, а будто целая эпоха.
Под газетой лежали тюлевые шторы. Они были белоснежными, чистыми, как первый снег, и пахли… ничем. Пустотой. Ниже лежали льняные шторы с аляповатым рисунком — огромные красные и голубые цветы на фоне ярко-зеленых листьев.
Катя медленно опустилась на колени, облокотившись о плотную стопку ткани, лежавшую в чемодане. Она смотрела на эти шторы и ее охватила внезапная, тяжелая мысль. У нее дома, в ее шкафах, — завалы нужных, ненужных, но ее вещей. И когда ее не станет, ее дети будут точно так же разбирать этот хлам, ломая голову, что с ним делать. Будут ли они вспоминать ее с нежностью, как она сейчас вспоминает мамины апельсины, или будут просто злиться на горы туфель, платьев, трусов и колготок?
В горле запершило. Это была не та легкая ностальгия, что была от клубков и старых босоножек. Это был страх перед забвением и бесследностью.
— Нет, — твердо прошептала Катя, сжимая кулаки. — Надо еще жить! Не хочу, чтобы дети ругались, выбрасывая горы моих…
Она осеклась. Жить нужно сейчас, а не планировать, что останется после.
Катя аккуратно сложила шторы, положила сверху газету и закрыла чемодан. «Щелк».
— Об этом я подумаю потом, — сказала она вслух, отталкиваясь от пола. — Сейчас — сундук!
Черный сундук
Катя отложила синий чемодан. Теперь — черный сундук. Он был полной противоположностью легкомысленному синему чемодану.
Семейная легенда гласила, что этот сундук принадлежал еще деду, отцу ее папы, и был он с ним на Первой мировой. В это верилось с трудом, уж больно велик и тяжел был этот сундук. Но сундук выглядел так, будто пережил не одну войну. Его уголки и края были обиты тонкой металлической лентой, которая кое-где истлела, обнажая темное дерево. Стенки местами, казалось, были изъедены древоточцем, но сундук, переживший целый век, оставался на удивление крепким. Он пах историей, старым железом и чем-то неуловимо тревожным и неведомым, как повествование, не дописанное до конца.
Катя подошла к нему. Привычным, отработанным годами, движением она потянула за массивную железную защелку. Она не была заперта.
Крышка открылась с глухим, протяжным скрипом.
Внутренняя поверхность крышки была оклеена чем-то вроде старых бумажных этикеток. Катя прищурилась, рассматривая самую заметную: дама в алом платье с высокой прической. Этикетка от давно использованного мыла. Буквы стерлись до неразличимых пятен, но изображение женщины сохранилось почти идеально. Были и другие картинки, но они поблекли до состояния белесых теней.

Катя заглянула внутрь. Сундук был полон прошлого. В рамках под стеклом и просто стопками лежали старые фотографии. Свет из окна падал на пожелтевшие фотографии, выхватывая из полумрака давно ушедшие лица.
На одном снимке, ярком и шумном, была первомайская демонстрация. Красные флаги, словно алые реки, текли по улице, а на транспарантах застыли строгие, но когда-то полные надежд лица вождей. Но Катю притягивало не это. Она смотрела на своих родителей.
Они были поразительно молоды. Ее отец — эталон стиля той эпохи: широкие брюки, идеально сидящие по фигуре, и длинный, двубортный пиджак, который казался невероятно модным даже сейчас. Он улыбался, и в этой улыбке была вся уверенность в завтрашнем дне. Мать стояла рядом, легкая, словно бабочка, в светлом платье и туфлях на толстом, высоком каблуке. Они были не просто молодыми — они были полны жизни, планов, нетронутых, как свежий лист бумаги.

Рядом с ними, словно живые тени, стояли и другие люди: братья и сестры отца со своими женами и мужьями. Их лица тоже светились той же безграничной верой в будущее. Вся эта компания — молодая, полная надежд, единая — на переднем плане, а на заднем плане виднелся яркий транспарант с лозунгом, который сейчас казался наивным, но тогда наполнял сердца гордостью и верой в светлое будущее.
Сердце Кати сжалось. Это было странное, острое чувство. Не ностальгия по прошлому, которого она сама не помнила, а пронзительное, ледяное осознание.
Она медленно провела пальцем по глянцевой поверхности снимка, едва касаясь молодого лица отца.
Никого не осталось.
Все эти улыбки, вся эта энергия, их смех, споры, их мечты — все это теперь осталось только здесь, запечатанное в картоне, в бумаге, в пленке. Они ушли. Время, которое они так уверенно держали в руках, унесло их безвозвратно.
Слезы навернулись сами собой. Они были горячими и солеными, и Катя не пыталась их сдержать. Они капали на фотографию, размывая на мгновение четкие контуры счастливой, но теперь уже навсегда потерянной семьи. Она начала аккуратно складывать фотографии, откладывая в сторону пустые старые рамки. Рамки были хрупкими, их лучше не трогать.
Под слоем фотографий лежали многочисленные мамины работы — вышитые картины в рамах под стеклом. Сколько же труда, сколько усердия вложено в эти стежки! Лебеди на пруду, яркие, почти живые, казались чудом.
— И это заберу, — прошептала Катя, — но без рамы.
Она осторожно перевернула одну из рам. Придерживая стекло, она поддела маленькие, ржавые гвоздики, державшие картонную подложку. Отогнув их, Катя вытащила картонку.
И тут ее накрыло.
Под картонкой, аккуратно уложенные в ряд, лежали три школьные тетрадки. Ее тетрадки. Ее дневники.
В один миг все, что было погребено глубоко под слоями времени, обид и забвения, вырвалось наружу с невероятной силой. Катя вспомнила тот тяжелый февральский день, когда укладывала сюда эти тетради. Она вспомнила свое подростковое отчаяние, нелепые влюбленности, резкие суждения о мире и о людях.
И главное — она вспомнила ее. Подругу, которой она доверяла больше, чем самой себе.
Воспоминание ударило, как физический толчок. Обида, которая тогда казалась концом света, вспыхнула вновь, обжигая. Подруга, которой Катя доверяла, случайно обнаружила ее дневники и прочла. А потом зло смеялась. Не просто прочитала, а смеялась над ее самыми сокровенными мыслями, над ее разочарованиями, над ее мечтами. Это было предательство, абсолютное и бесповоротное.
Катя тогда хотела сжечь дневники. Помнила, как в отчаянии уже открыла топку в печи и собиралась швырнуть тетради в огонь, но передумала, и поклялась себе никогда больше не писать. Она спрятала их за картонку в раму, а потом они перекочевали в этот черный сундук. Катя тогда надеялась, что время сотрет даже память о них.
Теперь, держа в руках эти три тонкие, пожелтевшие от времени тетради, Катя почувствовала, как ее переполняет интерес. Это был и отзвук гнева на подругу за предательство; это было воспоминание про собственную наивность, и сожаление, что она когда-то позволила кому-то так близко подойти к своему внутреннему миру.
Чувство унижения тогда было таким сильным, что даже теперь ей стало трудно дышать. Она была так откровенна, так наивна и не могла представить, что кто-то, кроме нее, увидит эти записи. Это было вторжение, осквернение ее личного пространства.
— Как я могла… — ее голос дрогнул. — Как я могла быть такой глупой и наивной? Я так верила в порядочность своих подруг.
Она чувствовала себя голой перед лицом прошлого. Эти дневники были не просто записями, это был крик и откровение ее юной души, которые тогда, казалось, выставили на всеобщее обозрение.
Она тогда, юная и наивная не хотела вспоминать об этом позоре. Она хотела, чтобы это все сгорело, испарилось.
Катя осторожно взяла дневники. Она так же аккуратно уложила «лебедей» и фотографии. Затем захлопнула крышку сундука.
Она отступила на шаг от черного, тяжелого сундука.
— На сегодня все! Сегодня буду читать дневники!
Эти три тонкие тетради, снова желали стать частью ее настоящего.
Кукла Эрика
Катерина уже шагнула к открытому люку, намереваясь спуститься с чердака и, наконец, открыть свои девичьи дневники, найденные вместе с остальными сокровищами прошлого. Но ее взгляд, скользнул по полу и внезапно зацепился за старую, потрепанную картонную коробку. Из нее выглядывал кусочек серого кружева и крошечные кукольные пальчики.
Она сразу поняла, что это. Сердце забилось от нахлынувших эмоций. Это была ее Эрика.
Катерина от волнения опустилась прямо на пыльный пол, на время позабыв о дневниках. Она осторожно, почти благоговейно, открыла пыльную коробку и взяла куклу в руки.
Пятьдесят шесть лет. Более полувека. Кукла родилась всего на четыре года позже нее самой. И вот она здесь, в руках Катерины, все так же моргает своими дивными карими глазами.

Наряд, некогда яркий, немного истрепался. Кружевной чепчик и воротник, которые она когда-то считала верхом изящества, теперь стали из ослепительно белых серыми. Темные, густые кудри по-прежнему были шелковыми, завитыми в крупные локоны.
Сапожки… Дивные, до сих пор целые кожаные сапожки! Катерина невольно улыбнулась, касаясь их протертых носков. Настоящее немецкое качество, пережившее десятилетия забвения. Руки, болтавшиеся на растянутых резинках, все еще держались, благодаря одежде.
Теплый летний день хлынул в ее сознание с ошеломляющей ясностью. Ее четвертый день рождения. Крестная, сияющая и немного суетливая, вручила ей в тот день коробку. Золотую, с круглым окошком на крышке, через которое виднелось лицо куклы.
Катерина вспомнила дрожь своих маленьких пальчиков, нетерпеливо пытавшихся развязать атласную ленту, завязанную в тугой, нарядный бант. Кукла была необычной. У нее были настоящие шелковистые волосы, которые можно было расчесывать! И даже крошечная, перламутровая расческа лежала в коробке, рядом с куклой. На крышке, золотыми буквами, было выведено: «Кукла Эрика».
Катя ждала праздник. Мама улыбалась и накрывала стол в гостинной.
И тут же, как ледяной душ, нахлынул другой образ. Мама уже накрыла стол, но сценарий праздника внезапно дал трещину. Папина резкая, судорожная хватка за бок. Искаженное, мученическое выражение лица. Он все еще пытался улыбаться, когда Катя смотрела на него широко открытыми от страха глазами, не желая пугать свою любимую дочурку.
Потом — звук скорой, мигание синего света в окнах. Мама, бледная, как мел, уезжает вместе с папой. А Катя остается с крестной и куклой Эрикой.
Она помнила, как мама вернулась ближе к вечеру. Тихое, отчаянное бормотание на кухне. Мама плакала, уткнувшись в плечо крестной, а Катя сидела на старом диване, прижимая к себе свою новую, волшебную Эрику. Кукла была единственным утешением в рушащемся мире того дня.
Эмоции накатили волной — не просто ностальгия, а острая, физическая боль от понимания и переживания. Ведь именно тогда в ее беззаботное детство вошло понимание боли и страха, когда она увидела искаженное лицо и слезы в глазах ее любимого папы. И странное, непонятное словосочетание «почечная колика».
Катерина крепко обняла куклу, уткнувшись лицом в пыльные локоны. Эти глаза видели все: и радость первого подарка, и ужас отцовской боли, и слезы матери.
— Ты останешься со мной, Эрика, — прошептала Катерина. — Мы обе слишком долго ждали друг друга.
Она бережно уложила куклу в пыльную старую коробку и, наконец, решительно поднялась. Дневники ждали. А еще вместе с дневниками ей нужно было унести Эрику подальше от этого мертвого чердака, в мир, где она сможет снова дать ей немного тепла, которого ей так не хватало все эти долгие, бесконечные года.
Катерина
Катерина заварила кофе. Взяла чашку, прошла с ней в гостиную, отодвинула тюлевую штору, впустила в комнату больше света и, довольная достигнутым эффектом, поставила кофе на подоконник. Любимое кресло отца пододвинула ближе к окну. Струйка пара поднималась над горячей чашкой. Аромат кофе медленно заполнял комнату.
Она села в кресло, взяла чашку, вдохнула аромат свежесваренного кофе и замерла от тех мыслей, что всплыли из глубин ее памяти, когда она посмотрела на эту тоненькую школьную тетрадь — свой дневник.

«Как же так, когда пронеслись эти сорок пять лет?» — мелькнула мысль, резкая и почти болезненная.
Ей казалось, что еще вчера она сидела в удобном кресле в своем кабинете, подписывая важные документы. Катерина — руководитель. Катерина — наставник. Катерина — та, что всегда знает, как лучше, и всегда все успевает. Она была стержнем, вокруг которого вращалось целое подразделение. Ее дни были расписаны по минутам, и в этом жестком графике была своя, понятная ей, стремительная жизнь и смысл.
А теперь…
Она посмотрела на свои руки — руки, которые еще недавно держали сложные отчеты, ручки, клавиатуру, а теперь просто сжимали края теплой чашки.
«Просто Катя», — горько подумала она, глядя в окно. Там, за окном, по-прежнему сияло солнце, смеялись молодые люди, уверенно шагая по тротуару мимо ее дома. Катя. Женщина, которая недавно перешагнула рубеж с такой значимой цифрой «шестьдесят». И которая совсем недавно перешагнула порог, за которым начиналась неизвестность, названная пенсией.
«Неизвестность». Какое мягкое, обтекаемое слово для чего-то, что на самом деле иногда пугает до дрожи. Всю жизнь она была нужной. Ее ждали, на нее рассчитывали, ее экспертиза была неоспорима. А теперь? Теперь ее ждут только звонки от дочери с вопросом, не забыла ли она принять таблетки, и вежливые напоминания о том, что пора бы уже «наслаждаться жизнью».
Наслаждаться? Как наслаждаться, когда кажется, что ты потеряла смысл существования. Куда идти, куда стремиться?
«Вот я сижу, Катерина Петровна, — мысленно произнесла она своим строгим рабочим тоном. — И что дальше? Ты могла организовать запуск нового проекта в условиях жесткого дефицита ресурсов. Но ты теперь не можешь организовать свой собственный следующий год».
Она сделала глубокий вдох.
«Нет, — сказала она себе тихо, но с оттенком старой командной интонации. — Я не просто Катя. Я — Катерина. И шестьдесят лет — это не финиш. Это просто новая, очень большая, смена декораций».
Но именно в этой смене декораций, возможно, и заключалась новая свобода. Ей не нужно теперь быть самой компетентной, самой незаменимой. Ей нужно было просто жить.
«Ну что ж, Катя, — улыбнулась она криво, поудобнее устраиваясь в кресле. — Посмотрим, как быстро ты освоишь эту новую „должность“ — быть просто собой».
Катерина вспоминала, как первые недели не могла привыкнуть, что утром не надо никуда бежать. Тело привыкло просыпаться в шесть утра, мозг автоматически прокручивал список задач: совещание в девять, отчет к полудню, звонок в управление. Но будильник молчал. Тишина в квартире, которая раньше казалась роскошью, теперь оглушала.
«Что делать?» — этот вопрос первые недели висел в воздухе, как пылинка в солнечном луче.
Всю жизнь Катерина бежала. Бежала за успехом, за признанием, за лучшим для своих детей, за тем, чтобы доказать что-то самой себе, когда-то давно испуганной и неуверенной в себе молодой специалистке. Она покоряла вершины, строила карьеру, и этот бег стал ее жизнью.
Уход с работы не был спонтанным действием. Это было решение, выношенное, обдуманное в течение почти двух лет, как сложный стратегический план, который наконец-то пришел к фазе исполнения. Она сама назначила дату, сама подготовила преемника, сама провела финальную презентацию, которая, как ей казалось, была самой сильной за всю ее карьеру. Она ушла на пике, как диктуют все бизнес-учебники.
Но учебники не описывают, что происходит, когда пик оказывается обрывом.
«Страшно? Невыносимо страшно!» — эта мысль, которую она так тщательно пыталась заблокировать, прорвалась и ударила прямо в солнечное сплетение.
Страшно было не уйти. Страшно было остаться.
Остаться в той роли, где каждый день был повторением предыдущего, где каждый успех был лишь подтверждением того, что ты еще не устарела. Страшно было, что однажды ты не сможешь вспомнить нужную цифру, не найдешь нужного слова, и это заметят. Катерина всю жизнь жила, опираясь на свою безупречную компетентность. Это был ее панцирь, ее броня, ее идентичность.
А что, если снять броню, а под ней пустота?
Она сжала кулаки. Пустота. Это было самое страшное слово. Оказаться ненужной, невостребованной, просто… пустой функцией, которую система больше не нуждается использовать. Всю жизнь она строила империю — не материальную, но профессиональную. И теперь, когда фундамент её личной империи — ежедневная необходимость в ней — рухнул, она почувствовала себя археологом, раскопавшим руины собственного прошлого.
Она вспомнила последний день. Женщины-коллеги утирали слезу, мужчины из отдела дарили ей гравированную ручку, а она говорила о «новом этапе, полном возможностей». Слова были отточены, но внутри нее что-то отчаянно кричало: «Я не знаю, что это за этап! Я не планировала его!»
Её жизнь была похожа на идеально настроенный швейцарский механизм. Каждая шестеренка, каждая пружинка работали в унисон, обеспечивая точность хода. И вот, она добровольно вытащила себя из механизма, и теперь этот механизм продолжал тикать без нее, даже не заметив паузы.
«Ты отдала работе сорок лет, Катерина, — прошептал внутренний критик. — Ты отдала работе свои выходные, свои отпуска, свою молодость. И что работа тебе дала взамен? Право сидеть и смотреть на молодежь, которая сейчас делает то, что ты делала в их возрасте, только быстрее и с меньшими затратами нервов».
Она должна была перепрограммировать себя, как устаревший сервер. Это займет время, это будет больно, и, возможно, она совершит пару критических ошибок в этом проекте под названием «Жизнь на пенсии». Но одно она знала точно: Катерина Петровна никогда не сдавалась перед вызовом, даже если этот вызов был вызовом самой себе.
Но время, этот неумолимый судья, постепенно принесло свое лекарство.
Однажды утром Катерина проснулась не от будильника, а от ощущения мягкого света, пробивающегося сквозь неплотно задернутые шторы. Она не вскочила. Она потянулась, как кошка, впервые за долгие годы позволив себе эту ленивую, ничем не оправданную негу.
Она надела удобные кроссовки, которые купила еще прошлой осенью, но так и не успевала надеть, и вышла на улицу. Раньше ее прогулка — это пять минут между машиной и входом в офис. Теперь это было путешествие.
Она шла по парку, и впервые за много лет видела окружающий ее мир. Замечала, как меняются деревья в парке, как растет трава, как распускаются цветы, как смешно суетятся воробьи, спорящие из-за крошки хлеба. Раньше она бы прошла мимо, думая о квартальных показателях, о срочных отчетах, о текущих делах. Теперь она остановилась, улыбнулась и позволила себе насладиться этим моментом — села на скамейку в парке, подставила лицо лучам теплого солнца, и в голове мелькнула мысль: «И все же, жизнь прекрасна и удивительна!»
Душевное спокойствие Катерины не было внезапным озарением. Это было медленное, кропотливое возвращение к себе. Оно приходило волнами, как прилив.
Бассейн стал ее медитацией. Вода обнимала тело, уставшее от напряжения. Движение в воде было размеренным, ритмичным. Никаких рекордов. Только вдох, выдох, скольжение. В этот момент не было ни срочных писем, ни недовольных подчиненных, ни нужды что-то доказывать. Была только она, вода и ее собственное, ровное дыхание.
Посиделки с подругами, тоже вышедшими на заслуженный отдых, стали другим открытием. Они больше не обсуждали, кто кого обошел в рейтинге или чей ребенок поступил в престижный ВУЗ. Теперь они вспоминали юность, смеялись над глупостями, делились рецептами новых блюд и планами на лето. В этих разговорах не было конкуренции, только теплое, душевное общение.
А книги… О, книги! Катерина обнаружила, что может прочитать главу, не отвлекаясь на телефон, не перечитывая одно и то же место трижды. Она погружалась в романы, которые ждали ее десятилетиями. В этих вымышленных мирах она была свободна от ответственности, но при этом — полностью погружалась в вымышленные миры.
Однажды вечером, сидя в своем кресле, Катерина перебирала старые фотографии. Вот она, молодая, с горящими глазами, на первой своей серьезной конференции. Она выглядела напряженной, готовой сражаться. Она посмотрела на свое нынешнее отражение в темном стекле окна. Морщины стали глубже, волосы серебристее, но глаза… Глаза были другими. В них больше не было той лихорадочной искры, которая сжигает изнутри. Теперь там была глубокая, тихая вода.
Она поняла: бег был необходим, чтобы достичь определенной точки. Но она достигла ее. И теперь, когда гонка закончилась, пришло время насладиться покоем.
«Устала бежать», — прошептала она в тишину комнаты. И впервые за долгие годы это не было признанием поражения. Это было констатацией факта, который принес не опустошение, а облегчение.
Эволюция приоритетов
С возрастом, особенно когда переваливаешь за определенный рубеж — скажем, за 55 или 60, — в сознании происходит тихий, но необратимый сдвиг. Это не внезапное озарение, а скорее накопление опыта, которое кристаллизуется в новое мировоззрение: ты становишься пофигистом.
Изначально это слово кажется негативным, ассоциируется с ленью или безответственностью. Но с годами понимаешь, что это не лень, а эволюция приоритетов, вызванная жестокой реальностью, которую ты наконец-то принял.
В молодости ты веришь в бесконечность ресурсов: времени, сил, энергии. Ты готов работать до полуночи, потому что убежден, что успех — это прямая функция затраченных усилий. Ты хватаешься за все: за повышение, за ремонт, за идеальный газон, за десяток хобби. Ты думаешь, что если не сделать это сейчас, ты что-то упустишь.
Но приходит возраст, и ты начинаешь видеть истинную природу вещей.
Первый удар по иллюзиям наносит работа. Ты понимаешь, что работа — это не спринт с финишной чертой, а бесконечный марафон. Ты закрываешь один проект, и тут же на столе лежит три новых. Ты достигаешь желаемой должности, и обнаруживаешь, что новая должность требует еще большего вовлечения. В 25 лет это мотивирует; в 55 это вызывает горькую усмешку. Ты осознаешь: если ты будешь стараться на 100% всегда, ты просто сгоришь, а объем задач не уменьшится. И тогда включается механизм самосохранения: «Сделаю на 80%, и этого будет достаточно».
Второй аспект — это быт и личные проекты. Классический пример — грядки и помидоры. Молодой человек видит в грядке возможность вырастить «самые вкусные помидоры в мире», вложив в них душу, удобрения и часы прополки. Он получает удовольствие от процесса и идеального результата.
С возрастом ты смотришь на грядку и проводишь быструю экономическую оценку: «Чтобы получить эти на 10% более вкусные помидоры, я потрачу 40 часов своего ограниченного времени и спину сорву. Дешевле и проще купить их в магазине и потратить эти 40 часов на чтение книги или общение с внуками, детьми, подругами».
Это не отказ от удовольствия, это переоценка ценности времени. Ты понимаешь, что энергия, которую ты тратишь на доведение чего-либо до идеала, не возвращается. Силы, потраченные на прополку, — это силы, которых не хватит на вечернюю прогулку.
Самый неопровержимый аргумент в пользу этого «пофигизма» — физика. В 60 лет ты объективно не можешь делать то, что делал в 30. Ты не можешь проснуться в 5 утра, чтобы успеть на тренировку, а потом работать до 8 вечера, а потом еще копать. Тело начинает диктовать условия. Сначала ты игнорируешь боль в спине, потом начинаешь «слушать» ее.
Этот физический лимит заставляет тебя быть выборочным. Ты больше не можешь позволить себе распыляться. Ты вынужден отказаться от участия в комитетах, от дружбы, которая требует слишком много эмоциональных вложений, от амбиций, требующих постоянного стресса.
В итоге, «пофигизм» с возрастом трансформируется в мудрость. Это не безразличие к миру, а трезвое осознание конечности ресурсов, в первую очередь — времени и здоровья. Ты перестаешь пытаться контролировать вселенную, которая, как ты понял, абсолютно равнодушна к твоим усилиям.
Ты начинаешь ценить тишину, комфорт и возможность просто жить, а не доказывать. Ты понимаешь, что мир не рухнет, если ты не отправишь то письмо прямо сейчас, если помидоры будут неидеальными, и если ты пропустишь одно совещание. Ты наконец-то начинаешь жить для себя, а не для бесконечно растущего списка ожиданий.
Катерина посмотрела в окно. За окном пылало лето. Голубое небо, яркое солнце, старая яблоня в саду. Тишина. Ей не нужно было никуда спешить. Она могла позавтракать, когда захочет, пойти на прогулку или просто сидеть и смотреть в окно. И в этой полной, абсолютной свободе от необходимости быть кем-то для других, она наконец-то нашла нечто более ценное, чем все ее прошлые победы: она нашла себя саму. Спокойную. Умиротворенную. Настоящую.
Катерина допила свой кофе и взяла первую тетрадь. На обложке крупными буквами было написано «Дневник. Очень личное. Любопытным не читать!»
Почти сорок пять лет. Тонкая на 12 листов школьная тетрадь в клетку, теперь потрепанная, с выцветшей обложкой, лежала на коленях. Руки Катерины, покрытые веснушками, нежно касались бумаги. Этот запах, застывшего на страницах времени, и чего-то неуловимого, сладкого, как засушенный цветок, — мгновенно вырвал Катерину из уютной тишины старого дома.
И вот, первая страница. Аккуратный, почти каллиграфический почерк.
Дневник. Тетрадь первая
28 апреля 1975 года
28 апреля 1975 года
Дорогой Дневник!
Вот я и завела тебя. Я много читаю, и героини книг, которые мне нравятся, ведут дневник. Они утверждают, что это очень полезно — вести записи. Говорят, что потом интересно будет перечитывать и анализировать. Не знаю, интересно ли мне будет, но я решила попробовать.
Я буду писать сюда то, что не могу сказать никому. Вообще никому. Даже маме. Особенно не могу сказать Светке. Она вроде лучшая подруга, но я ей не доверяю. Она все время болтает, и я боюсь, что она разболтает мои секреты. А мои секреты — это самое важное, что у меня есть.
Я буду писать сюда все: что я думаю о новом учителе математики — он ужасный зануда; что я чувствую, когда смотрю на Андрея из параллельного класса, сердце начинает колотиться, как сумасшедшее; и почему мне иногда кажется, что я какая-то другая.
Это только мой мир. Моя крепость.
Если кто-нибудь, любой, прочтет это, я не знаю, что сделаю. Наверное, умру от стыда. Поэтому я клянусь тебе, Дневник, и клянусь самой себе: это только для меня. Никому ни слова.
Пусть здесь будут мои самые откровенные, возможно, глупые мысли и самые большие мечты.
Катерина улыбнулась, но улыбка вышла горьковатой и немного печальной. Это был не просто текст. Это было путешествие во времени, вырвавшее ее из нынешней, упорядоченной жизни — из домашних хлопот, заботы о внуках — и бросившее прямо в яростный, неуклюжий вихрь ее неполных пятнадцати лет. Пятнадцать ей исполнится скоро, летом, 4 июля.

«Я много читаю, и героини книг…»
«Ох, моя девочка, — подумала Катерина, — ты так старалась быть похожей на них. Ты хотела быть романтичной, глубокой, чтобы твоя жизнь была насыщенной, как в романах, которые ты зачитывала до дыр».
Самое поразительное — это острота эмоций. Она вспомнила это чувство: необходимость завести дневник, чтобы зафиксировать свою уникальность. В шестьдесят лет ты просто живешь, а на пороге пятнадцати ты доказываешь себе и миру, что ты существуешь, что ты уникальная, что ты чувствуешь больше, чем остальные.
«…то, что не могу сказать никому. Вообще никому. Даже маме. Особенно не могу сказать Светке. Она вроде лучшая подруга, но я ей не доверяю… А мои секреты — это самое важное, что у меня есть».
Светлана
Катерина прикрыла глаза. Светлана. Это имя всплывало в памяти Кати с легким, но отчетливым привкусом раздражения, даже спустя годы. Светка. Ее одноклассница и, по какой-то прихоти судьбы, когда-то лучшая подруга.
Светлана была воплощением неуемной энергии, которая, казалось, питалась исключительно сплетнями и инсайдерской информацией. Она была похожа на маленький, постоянно жужжащий улей, из которого непрерывным потоком вылетали новости.
Ее внешность, возможно, была самой обыкновенной, но манера поведения приковывала внимание — или, по крайней мере, требовала его. Светка никогда не умела просто идти рядом; она всегда должна была быть ближе, наклонившись, чтобы ее голос стал интимным, даже если они стояли посреди шумного школьного двора.
«Кать, ты не поверишь!» — начиналось неизменно, и Катя уже чувствовала, как напрягается ее челюсть. Светка тарахтела, не давая времени на ответ или даже на кивок. Она выдавала информацию с жадностью кладоискателя, нашедшего заветный сундук. Кто с кем встречается у кинотеатра, кто получил двойку по алгебре, чей отец, по слухам, ищет новую работу, а чьи родители, не выдержав напряжения, решили развестись. Это был непрерывный поток чужих жизней, который Светка подавала как самое важное, что случилось в мире за последние пять минут.
Кате это было совершенно неинтересно. Она ценила тишину, личное пространство и тайны. Светка же не признавала ни того, ни другого. Для нее знание было силой, а распространение знания — ее главной миссией.
Именно эта страсть к информации в итоге и стала тем фатальным камнем, который разрушил их дружбу. Дневник. Катина школьная тетрадь на двеннадцать листов, исписанная тайными мыслями и переживаниями, которую Светка, конечно же, нашла и, конечно же, прочитала.
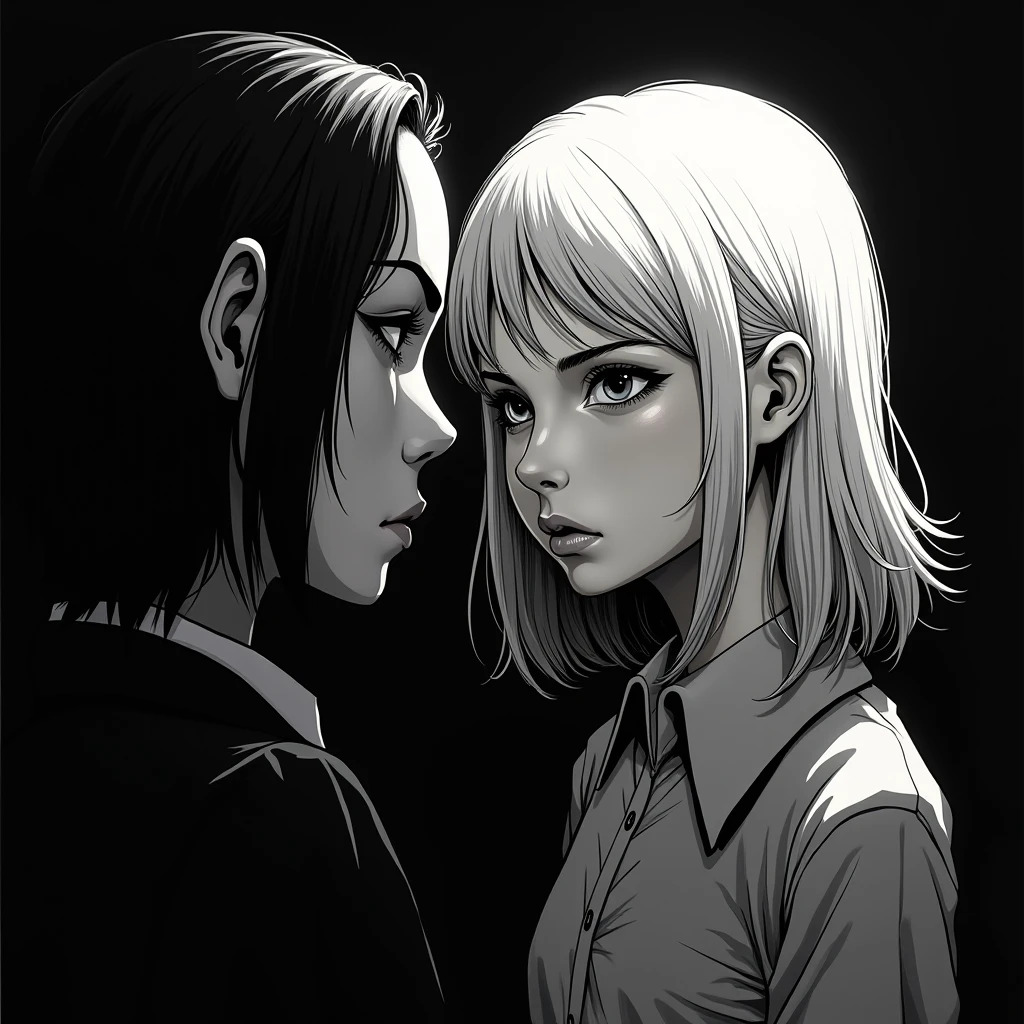
Светка не смогла удержаться. Она разнесла Катины самые сокровенные страхи и неуверенности по школе с той же скоростью и энтузиазмом, с каким делилась новостями о чужих романах. Катя почувствовала себя голой и преданной. Это было не просто предательство, это было разрушение ее внутреннего мира чужими, равнодушными руками.
После этого инцидента Катя инстинктивно начала возводить стены. Разговоры стали короткими, встречи — редкими, а потом и вовсе прекратились. Светка, не получая подпитки в виде живого интереса Кати, быстро переключилась на другие источники информации.
Катерина прикрыла глаза, вспоминая. Светка. Светлана. Вечно болтающая, немного взбалмошная, уверенная, что она знает все о каждом. Но, как поняла Катя, Светка знала лишь поверхность, сплетни, факты без контекста. Она знала «что», но совершенно не понимала «почему». И эта поверхностность, эта жажда чужих секретов, осталась единственным, что Катя о ней помнила, когда их пути разошлись навсегда после школьного выпускного.
Теперь Катерина вновь прочувствовала те юношеские Катины долгие раздумья и ее страх! Такой всепоглощающий страх быть непонятой или, что еще хуже, быть преданной. Все эти секреты, которые казались тогда тяжелыми камнями, а теперь… теперь большинство из них кажутся такой милой, детской драмой.
«…что я думаю о новом учителе математики — он ужасный зануда…»
Катерина рассмеялась вслух. Учитель математики! Господи, как его звали? Анатолий Федорович? Антон Федорович? Она даже не сразу вспоминала его имя. А вот та боль, то ощущение несправедливости, когда взрослый человек кажется воплощением зла и скуки — это она помнит. Это было так важно.
«…что я чувствую, когда смотрю на Андрея из параллельного класса, сердце начинает колотиться, как сумасшедшее…»
Сердце заколотилось. Андрей. Это особый человек в ее судьбе. Для нее он — верный друг, дня него она — что-то гораздо большее. Русые волосы, вечно небрежно зачесанные, и ямочки на щеках, когда он смеется. Она помнит, как стояла у окна на школьном коридоре, надеясь, что он пройдет мимо. Это было первое, настоящее, невыносимое влечение. И оно казалось концом света, если он не обратит внимания.
Сейчас Катерина вспоминала своего мужа, с которым они вместе тридцать лет, и понимала: то, что билось тогда, было лишь прелюдией к настоящей, глубокой привязанности. А тогда — это была неизведанная вселенная.
«…и почему мне иногда кажется, что я какая-то другая».
Вот оно. Самое сокровенное. Чувство отчужденности. Ощущение, что ты пришелец в собственном теле, что где-то там, за горизонтом, тебя ждет настоящая жизнь, где ты будешь собой. В шестьдесят ты уже знаешь, что эта «другая» ты — это и есть ты, просто та версия еще не умела договариваться с миром.
«Это только мой мир. Моя крепость»
Слеза скатилась по ее щеке, оставив влажный след на странице. Эта крепость. Она была построена из уязвимости и страха. И она была абсолютно необходима. Без этой тайной комнаты, без этого места, где можно было быть некрасивой, неумной, отчаянной и влюбленной до дрожи в улыбчивого парня, она бы не выжила.
«Если кто-нибудь, любой, прочтет это, я не знаю, что сделаю. Наверное, умру от стыда. Поэтому я клянусь тебе, Дневник… Никому ни слова»
Катерина провела пальцем по этим словам. Светлана, ее верная подружка прочла. Клятва была нарушена. Дневник был найден под стопкой учебников. Это было так больно.
И все же, эта первая запись — невероятно трогательно. Это не глупые мысли. Это — фундамент. Каждая неловкая фраза, каждая нелепая клятва — это кирпич, из которого выросла та женщина, что сидит здесь и сейчас, с морщинами вокруг глаз и мудростью, которая пришла с годами.
«Спасибо тебе, девочка, — прошептала Катерина, обращаясь к пустой комнате, — Спасибо, что была такой честной. Ты была права. Это очень интересно перечитывать и анализировать».
1 мая 1975 года
Екатерина прислонилась к спинке старого кресла, закрыв глаза, чтобы лучше настроиться на ту себя, которой она была тогда.
1 мая 1975 года
Сегодня выходной. День такой чудесный. Наконец-то тепло. Я так люблю тепло. И не люблю дождь. Мне грустно, когда идет дождь. Все серо и уныло.
Екатерина усмехнулась. Какая же ты была прямолинейная, Катюша. Как мир делился на черное и белое. Тепло — хорошо, дождь — плохо. Она помнила это физическое ощущение радости от первого по-настоящему весеннего солнца, когда казалось, что можно дышать полной грудью после долгой, серой зимы.
На выходные к бабушке Полине приехал Дима. Он такой красавчик. Но он смотрит на Наташку. Наташка толстая. Но Наташка уже взрослая, она старше меня и ходит на танцы. Она даже целовалась!
Здесь Екатерина почувствовала первый укол глубокого разочарования. Мальчик Дима из соседнего города. Да, этот Дима, казался ей таким утонченным, таким манящим, с его аккуратно постриженными темными волосами, карими глазами и лукавой улыбкой. Он был ее первой, неловкой, грубо отвергнутой влюбленностью. Ее суровым жизненным уроком.
Взрослая Екатерина почувствовала легкую обиду и благодарность судьбе, или проведению, что оно уберегло ее от близкого знакомства с этим, как ей тогда казалось, очень привлекательным мальчиком. Спустя годы, манера поведения, которую явил миру этот человек по имени Дима, оставила крайне неприятное впечатление своей мерзостью.
— Ох, моя хорошая, — прошептала она, — ты так сильно хотела, чтобы он заметил тебя. Но судьба и провидение избавили тебя от него, а время все расставило по местам.
Наташка
«Но он смотрит на Наташку. Наташка толстая. Но Наташка уже взрослая, она старше меня и ходит на танцы. Она даже целовалась!»
Кате не было и пятнадцати, и она была сделана из углов, неловкости и тонких, как прутики, ножек. Катерина помнила, как стояла у зеркала в прихожей, пытаясь придать форму своим вечно растрепанным русым волосам и хотела убедиться, что ее слишком длинный, бесформенный свитер хоть как-то маскирует ее худобу и угловатость. Она была ребенком, завернутым в подобие подростка, внутренне — чистым листом, жадно впитывающим романы, которые читала до поздней ночи под одеялом с фонариком. А рядом была Наташка.
Наташка… Она была всего на полтора года старше, но эта полуторогодовая разница между ними казалась целой эпохой взрослой жизни. В этом возрасте любая разница во времени ощущалась как пропасть, и Наташка несла на себе этот ореол старшинства. Она была чуть выше, держалась увереннее, и в ее движениях уже чувствовалась некая осмысленность, которой пока не хватало Кате.
Наташка уже не прятала свое тело под мешковатой одеждой. Она носила платья, которые, казалось, были созданы специально для того, чтобы подчеркнуть, что она — Женщина, а не та, кем Катя отчаянно хотела стать.
Внешне Наташка была… полновата. В ее тогдашнем, подростковом языке, это слово имело оттенок неодобрения, но в ее случае, это было скорее констатацией факта, который притягивал взгляды. Она была пышногрудой, плечи ее мягко округлялись, а талия, даже под широким ремнем, угадывалась с упоительной четкостью. Вся она была создана для того, чтобы нравиться.
Но самой поразительной, самой запоминающейся чертой Наташки, безусловно, были ее волосы. Это было настоящее огненное облако. Густые, рыжие, они жили своей жизнью, непослушно вились тугими завитками вокруг ее лица и плеч. Когда солнце попадало на них, они вспыхивали медью и золотом, делая Наташку похожей на сказочную героиню или лесную нимфу. Эти волосы притягивали взгляды и служили визитной карточкой, делая ее заметной в любой толпе.
Несмотря на внешнюю взрослость, в глазах Наташки часто мелькала озорная искорка, которая выдавала ее истинный, не такой уж и взрослый возраст. Она была той, кто всегда знал что-то новое, кто мог поделиться секретом или дать совет, который, казалось, был выстрадан годами опыта, а не всего лишь полутора годами жизни. Ее образ был соткан из этой контрастной смеси: зрелая уверенность, которую давала разница в возрасте, и дикая, необузданная красота ее пламенеющих кудрей.
Катерина вспомнила школьные дискотеки, этот гулкий, плохо освещенный зал, пахнущий потом и дешевым одеколоном. Юная Катя всё время держалась поближе к стене, делая вид, что очень увлечена изучением броских лозунгов и изображений на афишах, в то время как Наталья активно участвовала в происходящем в самом центре событий. Ее смех звенел то там, то тут. Ох, этот смех! Он был заливистым, громким. Он разлетался по залу, как колокольчик, и каждый раз, когда он звучал, Катя чувствовала, как ее плечи невольно сжимались.
Наташкины глаза, темные, с длинными ресницами, умели «стрелять». Это было целое искусство — легкий, быстрый, многозначительный взгляд, который заставлял мальчишек краснеть, заикаться и ронять пластинки. Она была магнитом. Катя видела, как к ней тянулись. Стоило включить медленный танец, как ее рука уже покоилась на чьем-то плече, а ее голова — ложилась куда-то на уровень шеи партнера. Она танцевала так, как Катя только мечтала. Ее движения были плавными, уверенными. Она знала, что делает.
А Катя? Катя была тенью, прислонившейся к стене. Катя смотрела на Наташку одновременно с завистью, которая жгла горло, и с немым восхищением, она изучала ее. Она была ее учебником по курсу «Как быть Девушкой».
Потом, когда Катя и Наташка шли домой по пустынным улицам, освещенным редкими желтыми фонарями, Наташка снисходительно делилась крупицами своей взрослой жизни. И эти откровения были для Кати важнее любого школьного урока.
— Ты представляешь, Кать, Димка Столяров… он же такой наглый! — говорила она, поправляя воротник пальто, и в ее голосе звучала такая легкость, будто разговор о поцелуях был не сложнее разговора о погоде.
Она рассказывала. О том, как они сидели на старой деревянной скамейке в парке, где тополиный пух уже сменился липкой осенней грязью. Как он дышал ей в ухо, и как она сначала испугалась, а потом… потом она закрыла глаза.
— И мы целовались, Кать. Долго. Он такой… уверенный.
Катя слушала, стоя рядом, чувствовала, как кровь приливает к лицу. Она представляла эту скамейку, этот парк, этот поцелуй. У нее в голове тоже был Димка Столяров, но он не смотрел в ее сторону. И Кате мечталось о другом. Ее понимание любви было недостижимым, книжным, идеально романтичным.
А Наташка целовалась. Настоящая, осязаемая жизнь кипела вокруг нее, а она, Катя, стояла в стороне, тонкая, словно засушенная иллюстрация к книге.
— И тебе не страшно? — спрашивала Катя.
Наташка смеялась своим звонким смехом, который всегда звучал так, будто она только что выиграла в лотерею.
— Глупышка ты, Кать. Страшно? Да я бы не променяла это ни на что. Это же… жизнь.
Для Наташки это было просто «жизнью». Для Кати — чем-то непостижимым. Катя видела Наташкину пышность, ее уверенность. Она была сформированной, а Катя — только наброском. Наташка была звездой, а Катя — просто зрительницей в первом ряду, которая не может оторвать глаз. Наташка была старше. Она была взрослая. И это проявлялось абсолютно во всем: в том, как она разговаривала с парнями, в том, как она знала, что делать, когда ее приглашали. Иногда Катя ловила себя на мысли, что она смотрит на нее, и в ней просыпается странная, не очень чистая эмоция. Катя злилась на ее легкость. Злилась, что ей всё дается так просто. Ее тело, которое Катя считала «толстым», было ключом к дверям, которые для нее были заперты на амбарный замок.
Катя часто смотрела на Наташку, и думала: мальчишки смотрят на Наташку. Дима, или Петя, или Сережа, тот, кто ей тайно нравился, всегда смотрел не на нее, худую и угловатую. Они смотрели на Наташку. Потому что Наташка умела быть замеченной. Она излучала это тепло, эту зрелость, этот намек на то, что с ней можно не просто поговорить о домашних заданиях, а можно пойти в парк и…

А Катя хотела любви, как в книгах, — чистой, возвышенной, чтобы мир остановился. Но мир, она видела, остановился не для нее. Он остановился, когда Наташка улыбалась Димке.
Катерина вздохнула. Ей шестьдесят, и она сидит в кресле, читает свой дневник и вспоминает. Пьет кофе, размышляет. За окном — тихий летний день. Руки, покрытые сеткой тонких морщин, держат старую, пожелтевшую тетрадь с ее девичьими эмоциями, переживаниями, впечатлениями.
Катерина встала, подошла к старому серванту, открыла ящик и вот он, ее старый школьный альбом. Она пролистала пожелтевшие страницы и нашла то, что искала. Старое фото. На ней — они, школьницы, в нелепых вязаных шапках. И вот она, Наташка. Как же смешно вспоминать десятилетия спустя, какой значительной казалась ей тогда разница в полтора года! Юная Катя была так отчаянно уверена, что Наташка — это какой-то другой вид существа. Она была воплощением всего, чего она боялась и желала.
Наташка. Она и правда была такой… полной. Катерина помнила, как в те годы, когда идеалы красоты диктовались не обложками журналов, а девушки с формами считались идеальными, а упругая грудь была символом, знаменем. Символом того, что она «выросла».
Катя же была тогда тоненькая, как натянутая струна. Худенькая, да, и внутренне незрелая, это правда. Она видела мир через призму сентиментальной литературы, где чувства должны были быть романтическими, чтобы иметь значение.
А Наташка жила моментом. Ее заливистый смех Катерина, кажется, слышала до сих пор, особенно когда вспоминала о школьных вечеринках. Это был смех человека, который не боялся быть громким, не боялся привлекать внимание. И да, Наташкина способность «стрелять глазками» — это было мастерство наблюдения и легкой, почти кошачьей хитрости. Она знала силу своего взгляда. Парни, конечно, тянулись к ней, как мотыльки к лампе. Она была доступна, но не легкодоступна. Она была интересна.
Она, Катя, была загадкой, которую никто не хотел разгадывать, потому что боялся, что там внутри лишь неуверенность и книги.
В тот момент, Катя-подросток, ощущала ревность — жгучую, унизительную. Она хотела такой же связи, такого же опыта. Но она хотела «по книгам». Катя хотела, чтобы сначала было великое признание, а уж потом — поцелуй, который перевернет мир.
Наташка же просто целовала.
Сейчас, в шестьдесят, Катерина понимала, что Наташка не была «взрослой» в каком-то высшем смысле. Она просто была более смелой в принятии своей физиологии и желания. Она не прятала свою женственность, которая в шестнадцать лет кажется самой большой обузой и одновременно самой большой силой. Она была впереди на один год, и этот год означал для нее умение принимать комплименты, умение носить короткие юбки и умение говорить о поцелуях без тени смущения.
А Катя оставалась в своем мире детства.
«Но он смотрит на Наташку». Да, конечно. Дима смотрел на ту, кто излучал уверенность. Это был урок, который Катя усвоила слишком поздно: мальчики (и мужчины) смотрят на тех, кто не сомневается в своем праве занимать пространство. Тогда, в неполные пятнадцать, Катя видела Наташку «толстой». Сейчас Катерина видела красивую, округлую, земную женщину, которая не стеснялась своих объемов.
А Катя отчаянно стеснялась своих углов. Она думала, что ее «взрослость» — это какие-то тайные знания, магия. Но это была просто решимость выйти из тени и пойти танцевать.
Теперь, вспоминая Наташку, Катерина понимала, что своим бесцеремонным счастьем и простым умением ловить взгляды, эта девочка научила ее большему, чем все ее любимые авторы. Она показала, что жизнь не ждет, пока ты прочитаешь правильную главу. Она просто происходит, и ты либо танцуешь в ее вихре, либо стоишь у стены, мечтая о том, чтобы у тебя была такая же обаятельная улыбка.
Катерина тепло улыбнулась, вспоминая юную Катю. Бедный, голодный до эмоций ребенок. Тебе не нужно было ждать любви, как в книгах. Тебе нужно было просто перестать сравнивать себя с уже расцветшей пышной Наташкой. И все же, тогда Катя понимала и верила, что ее время тоже придет, но оно будет другим.
Наташка, как и любая первая яркая звезда на горизонте юности, служила для юной Кати не образцом для подражания, а скорее ориентиром — она показывала, насколько ярким может быть мир за пределами твоей комнаты. И, честно говоря, Катерина до сих пор была ей за это благодарна. Наташка была ее первым, очень громким, очень красивым уроком о том, что такое женская привлекательность, даже если тогда эта красота казалась ей недостижимой и слишком материальной.
Дима
Кате было около восемнадцати, когда это случилось. Поздняя, промозглая осень. Она приехала домой на выходные. Катя уже была студенткой столичного ВУЗа. Она была сильно простужена, голова гудела от температуры, а каждый вдох обжигал воспаленное горло. Она спешила домой, чтобы рухнуть в кровать. Чтобы мама ее лечила и заботилась.
Катерина вспомнила этот переходной мост над железнодорожными путями. Поздний вечер, металлическая конструкция, продуваемая всеми ветрами, казалось, скрипела от холода. Пассажиры спешили мимо, ища тепла вокзала или уюта своих квартир.

И тут она увидела Диму. Он шел с двумя приятелями. Они громко смеялись, их голоса отдавались эхом в тишине позднего вечера. Он выглядел… очень красивым. Не тем миловидным мальчишкой с первой страницы дневника. Он был одет модно, уверенно держался. Его смех был громким, абсолютно безапелляционным.
Когда они поравнялись с Катей, спешившей домой, он пренебрежительно скользнул по ней взглядом. Это был взгляд вскользь. Это было даже нечто гораздо хуже: полное отсутствие интереса, смешанное с легкой, снисходительной насмешкой. Он даже не остановился, не бросил «Привет». Катя смутилась, опустила глаза и молча прошла мимо.
«Ха!» — этот звук вырвался у него, когда он проходил мимо, словно он увидел что-то смешное, нелепое, диковинное. Его друзья тоже засмеялись, подхватив его настроение.
Катю пронзило дурное предчувствие. Это был не просто холодный ветер. Это был ледяной укол в самое уязвимое место. Он не просто не заметил ее — он отметил ее как нечто незначительное, нечто, что даже не стоило упоминания.
Ее щеки вспыхнули от стыда и жара болезни. Она почувствовала, как ее тело сжимается, пытаясь стать меньше, незаметнее.
«Просто иди, Катя, иди, — шептала она себе, — тебе нужно домой. Ты больна».
Она ускорила шаг. Мост, который секунду назад казался просто неприятным, вдруг стал зловещим. Она почти достигла спуска, когда почувствовала резкий толчок.
Кто-то схватил ее за рукав пальто.
— Эй, красотка, куда спешишь? — голос был хриплым и наглым.
Катя обернулась. Их было трое. Друзья Димки? Нет, незнакомые. Но от них веяло тем же неприятным, скользким ощущением. Их взгляды были тяжелыми, оценивающими, и от этого ей стало физически тошно.
— Я… я спешу домой, — голос ее дрогнул, и она тут же возненавидела себя за эту слабость.
— Домой? А мы тут хотели тебя проводить, — усмехнулся тот, что держал ее за рукав. Он был крупный, с красивым, но каким-то надменным лицом. — Ты одна, так поздно. Иди сюда, послушай, что мы скажем.
Ее сердце заколотилось где-то в горле. Это был чистый, первобытный страх. Мост был пуст. Внизу рельсы, гулкий провал. Вокзал казался слишком далеко.
Она инстинктивно дернулась, пытаясь вырвать руку, но он держал крепко.
— Отпустите меня, пожалуйста, я с температурой! — ее голос был писклявым, но в нем, кажется, проскочила нотка отчаяния.
Второй парень подошел ближе, обступив ее сбоку.
— Ты чего дергаешься? Не вежливая. Мы же просто знакомимся. Ты совсем продрогла, да? Хочешь, обогреем…
Катя почувствовала, как потеют ладони. Она судорожно думала, как избавиться от этих парней. Она искала носовой платок в кармане, чтобы хоть как-то отвлечь их, оправдать свою слабость. Катя еле стояла на ногах. Щеки горели, горло болело, ноги от страха и высокой температуры стали ватными.
Сопли текли ручьем. Она начала яростно, почти истерично, вытирать нос, который предательски тек из-за простуды.
— Фу, какая мерзкая, — скривился первый.
— Болеет, наверное. Не врет, что с температурой, — добавил второй, отступая на полшага.
Отвращение, похоже, подействовало лучше, чем мольбы. Они не хотели связываться с сопливой, больной девчонкой.
— Да ну ее, пошли, — махнул рукой первый, отпуская ее рукав так резко, что Катя чуть не упала. — Неуловимая. И больная к тому же.
Они рассмеялись — уже не злобно, а просто пренебрежительно, и быстро зашагали прочь, сливаясь с темнотой.
Катя стояла, прислонившись к холодному перилу, тяжело дыша. Она не могла двинуться. Ей казалось, что ее тело пропитано грязью их взглядов и их слов.
«Неуловимая»…
Катерина до сих пор не знала, почему ее так назвали в тот момент. Тот момент… он до сих пор стоял перед глазами, как заноза: она стоит, прислонившись к этому холодному перилу, и чувствует, как дрожат колени. От страха. От унижения.
Их слова — «Неуловимая. И больная к тому же» — они врезались ей тогда в память острее, чем то резкое движение, когда первый отпустил ее рукав. Они рассмеялись. Это был не злой смех, а что-то еще хуже — пренебрежительный, безразличный, бесцеремонный. Словно Катя была не человеком, а досадной помехой, которую можно просто отмести в сторону.
Катерина живо вспомнила, как они ушли, сливаясь с тенями. А она осталась. Дышать было трудно, она чувствовала себя «пропитанной» этой липкой грязью их взглядов, их пренебрежения.
Самое странное, самое мучительное было в том слове: «Неуловимая». Она до сих пор, будучи взрослой, не могла сказать, почему они ее так называли. Что это значило? Была ли она слишком тихой? Слишком странной? Может быть, они видели в ней что-то, что она сама в себе боялась признать?
В тот момент она не могла двинуться, потому что их ярлык, её страх и беспомощность, их оценка, парализовали ее. Они надели на нее это определение, и оно казалось тяжелым, как мокрый плащ.
Взрослая Катерина понимала, что это была просто жестокость этих парней, их способ отделить себя от «другой».
Но тогда… тогда это было клеймо. Клеймо «не такой», «больной», «неуловимой» — и она отчаянно пыталась понять, как ей от этого избавиться, хотя сама не знала, что именно она «уловила» или «не уловила» в их глазах.
Она стояла там, дрожащая от простуды и адреналинового шока, пока мимо не прошел какой-то пожилой мужчина, который бросил на нее обеспокоенный взгляд, но не остановился.

Только тогда она смогла заставить себя спуститься. Она шла домой, еле переставляя ноги, и единственное, что она думала:
— Если я стану сильной, если я стану умной, если я стану нужной, этого больше не случится. Я сама буду решать, кто на меня смотрит, а кто проходит мимо.
Взрослая Екатерина отложила дневник. Она провела рукой по лицу, ощущая этот старый, давно забытый холод.
«Димка, — подумала она, — ты был всего лишь катализатором. Ты показал мне, что ты не тот милый бабушкин внук, что приезжал в гости, а те трое на мосту… они показали мне, насколько я уязвима и беззащитна».
Она поняла, что вся ее карьера, вся ее жесткость, вся эта броня, которую она носила десятилетиями, родилась не из стремления к успеху, а из жгучего, животного желания никогда больше не чувствовать себя такой беспомощной, как в тот осенний холодный вечер.
Она не стала «как Наташка». Она стала Екатериной — той, что усвоила страшный урок в свои восемнадцать: ты либо сильная, либо ты жертва.
Спустя несколько недель после встречи на мосту, когда Катя вновь приехала домой на выходные, она, вопреки своему желанию оставаться дома, поддалась на уговоры подружек и пошла в городской Дом Культуры на танцы.
В углу зала, у стены, стоял ее школьный друг Андрей. Он был когда-то ее увлечением, детским, непосредственным, тихим. Он всегда казался ей надежной опорой в том хаотичном мире школьных лет и остался таким на долгие годы.
Андрей, увидев ее, поспешил навстречу. Он был бледен, его обычно аккуратная прическа слегка растрепалась, а руки нервно теребили край куртки. Он явно хотел что-то сказать, но слова застревали у него в горле.
— Катя, — начал он, с трудом выдавливая звук, — тут такое дело…
Он замялся, его щеки налились густой краской. Ему было физически неприятно то, что он должен был сказать, но он чувствовал, что обязан это сделать.
— Димка, ну ты же знаешь Димку, внука Полины… он рассказывает про тебя…
Андрей отвел взгляд, затем снова посмотрел на Катю, отчаянно ища поддержки в ее глазах.
— Эээ, ну в общем, он сказал, что ты провела бурную ночь с его друзьями… Это же неправда?
Андрей смотрел на Катю с таким искренним ужасом и мольбой, что она мгновенно провалилась обратно на тот холодный мост. Она почувствовала, как ее лицо вспыхивает, но это был не стыд. Это была ярость. Она поняла: Димка не просто прошел мимо, он не просто проигнорировал ее. Он мстил за то, что она не отреагировала на его появление так, как он ожидал. Он очернил ее, чтобы потешить свой эгоизм.
— Вот же… гадёныш! — только и смогла вымолвить Катя, ее голос дрогнул от еле сдерживаемой злости.
И тут, словно по мановению волшебной палочки, дверь в зал распахнулась. В проеме стоял Димка. Он пришел, видимо, похвастаться своими «успехами» перед приятелями, и, заметив Катю, замер. Его самодовольная ухмылка начала медленно сползать с лица.
Словно фурия, Катя рванула к нему. Она неслась через танцующий зал, игнорируя удивленные взгляды. Она остановилась прямо перед ним, и ее голос, зазвучал на удивление громко и чисто в музыкальном шуме.
— Так с кем я переспала? — заорала Катя, не давая ему опомниться.
Дима опешил. Его взгляд метался по залу, ища спасения. Он увидел Андрея, который стоял чуть поодаль, его лицо было каменным, а глаза — абсолютно ледяными.
Андрей сделал шаг вперед, и его голос, обычно тихий и нерешительный, прозвучал на удивление властно и жестко.
— Дима, исчезни! — сказал Андрей ледяным тоном. — И не показывайся больше мне на глаза.
Дима, видимо, знавший о какой-то своей вине перед Андреем, которая, возможно и не имела отношения к Кате, но была достаточно серьезной, вздрогнул. Он молча развернулся и, спотыкаясь, поспешно вышел из зала, оставив после себя лишь гул шепота.
Андрей повернулся к Кате. Он все еще был бледен, но напряжение немного спало.
— Я… я слышал, что он говорит, — пробормотал Андрей. — Я знал, что это неправда. Просто… я надеялся, что ты сама ему скажешь, что он неправ.
Катя смотрела на него, и в этот момент вся ее броня дала трещину. Она не могла кричать на Андрея. Он был ее единственным союзником в той невидимой войне.
— Спасибо, Андрей, — прошептала она, и это было очень искреннее «спасибо» в ее юной жизни.
Да воздастся каждому по делам его
Годы шли. Катя закончила институт, уехала покорять столицу, где быстро росла по карьерной лестнице, становясь той самой жесткой и успешной женщиной, которую она когда-то себе пообещала. Дима закончил военное училище, служил в армии, где, как шептались, «что-то случилось», после чего его служба оборвалась.
Когда Катерина приезжала в отпуск в родной город, она изредка видела Диму. Он из того самодовольного красавца, каким его помнила Катя, превратился в толстого, обрюзгшего мужчину с пустыми глазами. От местных она узнала, что жена ушла от него, не выдержав его растущей зависимости от алкоголя.
Каждый раз, когда их пути пересекались, Дима моментально опускал глаза, сжимался и спешил пройти мимо. Он не мог вынести ее взгляда. В ее глазах он видел не осуждение, а равнодушие, которое было куда более страшным приговором, чем гнев.
Карма? Может быть.
Но Катерина, сидя теперь в кресле и вспоминая тот вечер на мосту, понимала, что это не мистическое воздаяние. Это был закон сохранения энергии. Ее страх и унижение в тот осенний вечер дали ей энергию для рывка. А его ложь и злоба, посеянные в тот же день, отравили его самого. Он сам выбрал путь, который привел его к забвению и спиртному, потому что он не смог жить с той гнилью в душе, которую юная Катя не замечала в смазливом мальчике, гостившем у бабушки.
Она улыбнулась. Ее победа была в том, что она смогла трансформировать боль в силу, в то время как он трансформировал свою ложь в саморазрушение.
Она взяла свой дневник с благодарностью, нежностью и легкой грустью.
— Спасибо, Катюша, — сказала она самой себе, обращаясь и к той девочке, и к той студентке. — Ты справилась. Мы обе справились.
Она подумала о Наташке. Наташка, казалось, тогда была эталоном всего, чего Катя не могла достичь: взрослости, уверенности, опыта. Тогда, в неполные пятнадцать лет слово «целовалась» казалось каким-то магическим пропуском в другой, взрослый мир.
Екатерина вновь вспомнила это жгучее ощущение собственной недостаточности. Ей тогда казалось, что она застряла в детстве, в то время как все вокруг — Наташка, Димка, даже, наверное, эти дурацкие танцы в городском доме культуры — двигались вперед, к настоящей взрослой жизни.
Она глубоко вздохнула.
— Я так старалась быть похожей на Наташку, но я была другая. Худенькая, веснушчатая, плоская как доска, с длинными тоненькими, как у воробышка, ножками, которые так не нравились мне тогда. Как бы я не старалась, я не могла выглядеть старше. И Димка по-прежнему смотрел на меня, как на пустое место. Мне тогда хотелось провалиться сквозь землю. Почему я не такая, как все?
Екатерина закрыла глаза. Вот оно. Момент унижения, который казался тогда апокалипсисом. Она ощутила глубокое, проникающее сочувствие к этой девочке. Пятнадцать лет — это возраст, когда твоя самооценка висит на волоске, и один неверный взгляд может разрушить весь день, всю неделю. Взрослая Екатерина, которая долго руководила крупным отделом и не боялась спорить с вышестоящими руководителями, вдруг почувствовала себя хрупкой, защищающей ту, юную, ранимую себя.
— Ты не должна была проваливаться сквозь землю, милая, — подумала Екатерина. — Ты должна была просто пойти и съесть что-то вкусное, или погрузиться в мир книг, или прогуляться по парку. И Димка бы забылся через неделю. Отпусти это, Катюша.
Она откинулась на спинку кресла. Она наконец-то увидела ту пятнадцатилетнюю девочку не как объект для критики, а как смелого, хотя и очень неуверенного в себе, борца.
Каменные стены
Катерина сидела в своей бывшей комнате за столом, где она готовила домашние задания и писала этот дневник, где мечтала, сомневалась, переживала свои проблемы и верила в светлое будущее. Было поздно, давно пора было ложиться спать, но спать ей абсолютно не хотелось. Она любила тишину ночи, когда мысли словно сорвались с поводка и уносили ее в те далекие годы, когда она была юной девочкой, искренней, непосредственной и не утратившей веру в то, что мир ее встретит с любовью.
Ночь была тихой, и эта тишина всегда была лучшим катализатором для памяти.
«Наивная… такая наивная я была,» — прошептала она, и в голосе не было осуждения, только глубокая, теплая жалость к той девочке.
Юная Катя. Она была уверена, что мир — это огромный, доброжелательный зал ожидания, где все ждут именно ее, чтобы распахнуть двери и осыпать комплиментами. Она была уверена, что жизнь может быть похожа на волшебную историю, где истинные чувства ценятся превыше всего, а душевная уязвимость служит неким щитом. Она шла по жизни, широко распахнув глаза, ожидая, что каждый встречный увидит в ней чистое золото, которым она себя ощущала.

Как же жестоко мир преподал ей первые уроки! Это было не одно падение, а серия ударов, каждый из которых должен был сломить, но, к счастью, лишь закалил. Предательство первой подруги, когда та, ради чьей-то симпатии, легко вывернула наизнанку самые сокровенные тайны. Зависть коллег, которые не могли вынести ее естественного успеха, и их тихая, ползучая подлость, направленная прямо в спину.
Катерина попыталась вспомнить, как и в какой момент она перестала ждать объятий мира. Потом она начала строить стены. Сначала они были из соломы — тонкие, легко разрушаемые первым же сильным ветром сомнения. Потом они стали каменными, с узкими бойницами, через которые можно было лишь подозрительно выглянуть.
Но самое главное — она не сломалась. В этом и состояла ее победа над той наивностью. Жизнь била, но каждый раз, когда она падала, она находила, за что ухватиться.
Катерина научилась ценить тишину ночи не потому, что она напоминала о невинности и наивности, а потому, что только в ней можно было отпустить контроль. Когда мысли срываются с поводка и уносят именно туда: к той девочке, которая верила в безоговорочную любовь мира. Катерина смотрела на юную Катю из своего нынешнего опыта и думала: «Да, милая, ты была права в одном — ты достойна любви и принятия. Но ты ошиблась в том, кто ее тебе даст».
Мир не был злым по своей сути — он был равнодушным и конкурентным. Он не давал объятий просто так. Их нужно было заслужить, а иногда — просто создать для себя самой.
И хотя Катерина больше никогда не будет той беззащитной, искренней Катей, она глубоко в душе по-прежнему хранила ее веру как драгоценный, но очень хрупкий артефакт. Эта вера стала ее внутренней силой, которая позволила пережить те удары судьбы и остаться… собой. Неуловимой для подлости, но доступной для тех немногих, кто доказал, что достоин войти за ее каменные стены.
8 мая 1975 года
Катерина уже прочла о первых влюбленностях, о разочарованиях и надеждах. Это было странное чувство: читать свои интимные мысли, теперь, когда ты уже взрослая женщина. Это было похоже на просмотр старого, очень личного фильма, где главная героиня — это ты сама, но на сорок пять лет младше.
Она перевернула страницу, и ее взгляд зацепился за дату.
8 мая 1975 года
23.35
Катерина начала читать, и прохладный ночной воздух в комнате словно стал теплее.
Сегодня Наташа уговорила меня сходить на танцы. Я люблю танцевать. Но больше не пойду. Меня никто не приглашает танцевать. Я вечно стою, как дура, у стены. А еще взрослые девушки недовольно шикают на меня: «А что здесь делает детский сад?»
Наташа познакомилась с каким-то парнем, он провожал ее домой. Хорошо, что они и меня провели до дома. А сами пошли гулять по ночным улицам.
Все, больше на танцы ходить не буду. Вот повзрослею, отращу длинные волосы, заплету косу, наряжусь в красивое платье и туфли на высоком каблуке. Приду на танцы такая красивая, а все будут смотреть и шептаться: «Кто это?» А я буду вся такая красивая, неотразимая и гордая.
Катерина почувствовала, как ее губы сами собой растягиваются в улыбке. Это было не просто воспоминание. Она видела себя в этом описании, эту неловкую, но полную надежд девочку, стоявшую у стены. Она вспомнила, как чувствовала себя слишком маленькой, слишком неуклюжей, как отчаянно хотела, чтобы ее заметили, но при этом боялась, что ее заметят «неправильно».
И тут Катерина засмеялась. Это был не вежливый, сдержанный смех, который она демонстрировала на совещаниях. Это был громкий, чистый, искренний смех, который вырвался из нее. Она прикрыла рот ладонью, пытаясь унять его, но не смогла.
— Детский сад! — прошептала она, задыхаясь от смеха, вспоминая, как она краснела и не знала, куда ей деться, пока пары кружили на танцполе. А она стояла у стены, опираясь на нее, словно манекен в заброшенной витрине, невостребованная и забытая.
Но самое смешное было в конце. В этой детской, наивной, но такой мощной мечте о будущем преображении.
«Приду на танцы такая красивая, а все будут смотреть и шептаться: „Кто это?“ А я буду вся такая красивая, неотразимая и гордая».
Катерина перестала смеяться и прижала дневник к груди. Она вспомнила, что в юности была такой неуверенной и полной мечтаний, как любая другая девочка. Эта «неотразимая и гордая» версия, которую она так идеализировала, родилась из боли отчаяния на тех самых танцах.
Катерина не просто вспоминала — она «переживала» себя ту, другую.
Худенькая девочка. Катя стояла у стены в актовом зале на школьных дискотеках, Катя стояла за толстыми колоннами в городском Доме культуры. Стены и колонны были ее невольным покровителем, ее защитой и ее приговором. Она была там, но ее не было видно. Ее скромное, но старательно выглаженное платье казалось серым на фоне ярких нарядов других.
Она помнила запах — смесь пота, дешевого одеколона и пыли, осевшей на деревянном полу. Ее сердце билось так громко, что, казалось, заглушало музыку. Она смотрела на вихрь пар, на смех, на то, как руки ложатся на талию, и чувствовала себя инопланетянкой, случайно попавшей на чужой праздник.
«Пригласи, — шептала она беззвучно, — просто подойди и пригласи». Но никто не подходил. Ее красота, та, что прорастет позже, была пока лишь обещанием, скрытым под неуверенностью и неловкостью движений. Она была как запечатанный сундук, который никто не решался открыть, боясь, что внутри окажется пустота.
Она научилась ценить стену. Стена не предавала. Стена не смеялась. Стена была надежной.
Переход был не мгновенным. Это был долгий, мучительный процесс переплавки. Это была работа над осанкой, над голосом, над тем, как она смотрит на свое отражение. Она начала читать книги, которые описывали женщин, сильных и уверенных. Она начала рисовать себя в этих образах. А еще была замечательная Лизавета, которая войдет в ее юную жизнь чуть позже, летом. Влетит как свежий ветер, как вихрь перемен.
Первые шаги во взрослой жизни были робкими. Она все еще часто искала стену, но теперь это была не стена страха, а стена для опоры, чтобы перевести дух перед очередным рывком.
И вот, однажды, это случилось. Но пока угловатая худенькая Катя об этом не знала.

Когда ей было двадцать два, она уже была профи, она уже знала себе цену. Она училась в институте, и в тот вечер она не просто оделась — она собрала себя. Темное платье, идеально сидящее по фигуре, волосы, уложенные так, что они ловили свет. Теперь она уже не пыталась слиться с фоном. Она была фоном, на котором все остальные казались блеклыми.
Она стояла у бара на вечеринке, не ища никого, просто наслаждаясь тем, как ее новое тело двигается в такт музыке. Она чувствовала взгляды, но впервые они не обжигали — они грели.
К ней подошел парень. Высокий, с глазами, которые, казалось, видели слишком много, но в этот момент смотрели только на нее. Он не стал говорить банальностей. Он просто наклонился, и его голос прозвучал низко, прямо у ее уха, заглушая музыку, но не ее внимание.
«Ты не похожа на остальных, — сказал он, и Катерина почувствовала легкий холодок от его дыхания на коже. — Ты словно с обложки заграничного журнала».
Это не было комплиментом о ее платье или фигуре. Это было признание ее отличия. Это было подтверждение того, что она наконец-то вышла из тени, что ее внутренняя работа стала видимой.
В тот момент Катерина поняла: стена исчезла. Ее больше не нужно было искать. Она стояла на открытом пространстве, освещенная прожекторами, и впервые в жизни не хотела прятаться. Она улыбнулась, и эта улыбка была не наивной детской мольбой, а уверенным знаком того, что обложка готова к публикации.
Взрослая Катерина открыла глаза. Улыбка тронула ее губы.
«Да, — подумала она, — я с обложки. Но путь от стены до этой обложки — это и есть вся моя история».
Ощущение, которое нахлынуло на Катерину, было похоже на теплый дождь после долгой засухи. Она давно поставила точку, потому что она уже давно была та неотразимая девушка с длинной косой.
19 мая 1975 года
19 мая 1975 года.
Тяжелый понедельник.
Привет, Дневник!
Я снова здесь. Не знаю, почему я так долго не писала, наверное, потому что последние дни были какими-то скучными. Но сегодня… сегодня всё по-другому.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.