
Бесплатный фрагмент - Черная речка
«…Я всё помню. Всё помню. И более не горю»
Ольга Костюченко
Реплика
Время снова куда-то идет.
И вы смотрите с ним друг на друга
безразлично, как пара супругов,
не сумевших продолжить свой род.
Будет год и еще один год,
и звонки, и какие-то даты.
Будет елка, под елкою — вата,
и пластмассовых звезд хоровод.
Фраз дежурных хрустящий хитин,
крови вязкой движенье по венам
и пустые глаза манекенов,
что глядят свысока из витрин,
заменивших окошки зеркал.
И поймет перед ними стоящий,
что когда-то он был настоящим,
но в какой-то момент перестал.

Волны
Он лежит посреди того, что когда-то звалось Вселенной,
а теперь не зовётся ей, так как некому больше звать.
Шепчет страшный ночной прибой,
разбиваясь во тьме о стены,
волн солёные языки подмывают его кровать.
Эти ночи длинней, темней, хуже тех, что проходят в беге
от одних новостей к другим, ни оправиться, ни свернуть.
Сконцентрировавшись на ней, как на мантре, на обереге,
он идёт через них на свет; и проделанный за ночь путь
растворяется будто дым — остановка подобна смерти.
Но пугает его не смерть, а родиться потом опять,
и забыть всё, что было с ним в этой лиственной круговерти,
и не помнить её лица, и улыбки её не знать.
И когда на рассвете шторм накрывает его в кровати,
он, зажав в кулаке всё то, что осталось от их ночей,
держит руку над головой, шепчет:
«Боже, пусть воли хватит».
Воду в пальцах не удержать. Всё уходит сквозь сито дней,
как ступени, где спуск в метро, утекают куда-то в землю,
как всё то, чем когда-то жил, распадается на слова.
Он живёт посреди того, что когда-то звалось Вселенной,
где, помедлив, сочтя итог, утекает в залив Нева.
Цифры
Пять сигарет приведут тебя в чувство,
шесть кружек кофе помогут не спать.
Пять гласных в слогане «Нахуй искусство!»,
шесть в «Не хочу умирать».
Поезд до станции «Черная речка»,
дальше — пятнадцать минут от метро.
Скумбрия, курица, рис или гречка,
водка и «экстра-ситро».
Твой заголовок никто не заметит —
Коля-редактор изменит слова.
Значит — опять ни за что не в ответе,
и не болит голова.
Пять человек раскатало по трассе,
шесть — угорело по пьяни в дому.
Тридцать секунд в первом утреннем часе,
глупый вопрос «почему?»
Много ли нужно, что сердце не встало?
Видеть лишь цифры, их смысл поправ.
К чувствам привычка всегда убивала,
предупреждает Минздрав.
Жилец
Опять в кармане новые ключи.
Чужой диван и голоса за стенкой.
Жизнь плавится как олово в печи,
и остается только дрожь в коленках,
две сумки и гитара с рюкзаком,
но и они все больше раздражают.
Жизнь плавится как форма со штыком,
как небосвод, светлеющий по краю.
Уже привычно. Больше не страшит
любая перспектива из возможных.
И пусть порой рука слегка дрожит,
пусть тяжело, пусть больно и тревожно,
все это прекратится в свой черед —
оставит только лужицу горнило.
И если кто ее потом найдет,
не сможет угадать, чем это было.
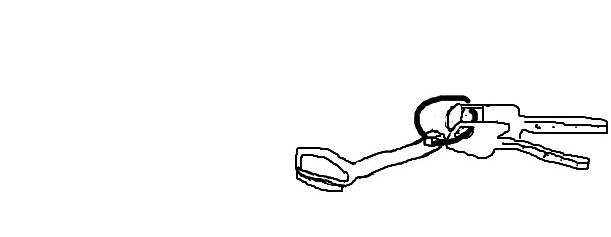
Обязанности пешеходов
4.9. Не зарекайся, не клянись, не вспоминай и не ленись, и на вопрос «ну, как дела?» скажи, что хорошо. Работай больше, меньше спи, не будь наивен, не живи ни чувством, ни мечтой, ни тем моментом, что прошел, и слов на ветер не бросай. Другой кричит — себя спасай; от доброты своей добра ты в жизни не видал. Не любопытствуй, не ищи к открытой комнате ключи, к тому ж, по чести говоря, тебя никто не звал. Встань, соберись, заправь кровать, скорей реши, кем хочешь стать, не попадайся на крючок, не действуй наугад.
4.10. Горит зеленый светофор, а ты — несись во весь опор в другую сторону, молчи и не смотри назад.
Добрые пожелания
Ходить весь день с натянутой улыбкой —
не самая простая из затей.
Но, право, это было бы ошибкой,
душить своим унынием людей.
Хотя невыносимы мысли эти,
избавиться от них я не могу.
Как будто всё, что есть на белом свете,
вдруг сделалось лишь надписью в снегу,
или на стенах странными словами,
и сердце начинает биться вспять.
О, видела б моими ты глазами —
и от себя пыталась бы сбежать!
Как будто всё, что между нами было,
вдруг сделалось соринкою в глазу.
Но что-то у меня закоротило,
и я не в силах выдавить слезу,
чтоб вышло с ней и всё это мученье,
очиститься и встретить новый день.
Не придавай моим словам значенья,
не обращай внимания на тень.
Пусть поезда сжирают километры,
трамваи пусть проносятся, звеня.
Храни тебя Господь от злого ветра,
от солнца — шляпа. Память — от меня.
Брандмауэр
Не был дом ни большим, ни старинным,
в нем не жили цари-короли.
И признали его аварийным,
а признав — очень быстро снесли.
⠀
И остались оглохшие стены
тех домов, что стояли впритык,
да в горе кирпичей непременный
что-то ищущий грязный старик
то бормочет по нос, то хохочет,
набивая карманы старьем,
и брандмауэр сентябрьской ночи
нависает над бывшим жильем.
⠀
Все старания врезать окошко
в эту плоскость холодной стены,
пусть не с форточку, пусть — хоть с ладошку,
обернулись лишь чувством вины,
под ногтями запекшимся бурым,
нервным криком ворон в пустыре.
Ни созвездий на небе ажуром,
ни водицы в колодце-дворе.
⠀
Не был дом ни большим, ни старинным,
в нем не жили цари-короли.
И признали его аварийным,
а признав — очень быстро снесли,
так, что даже жильцы не проснулись,
точно книгу на полку убрав.
Как соринку со скатерти улиц
сбросил походя чей-то рукав.
⠀
Лишь старик что-то тихо бормочет,
Взгляд и руки подняв к небесам,
Но брандмауэр сентябрьской ночи
Глух к его смехотворным слезам.

Минута молчания
1
Когда выгорит все, что когда-то могло гореть,
полыхать, раскаляться, взрываться, хотя бы тлеть,
и осядет пепел, седой, как морской рассвет,
как поверхность морей луны, как хвосты комет,
он укроет от глаз, все, что было и быть могло,
он смягчит очертанья и эхо шагов и слов,
и колесных пар, врезающихся в рассвет.
И минута молчанья продлится десятки лет.
Когда выгорит все, что когда-то гореть могло,
испарится и то, что журчало, лилось, текло,
как кусочки неба лежало на площадях,
что себе забирало скуку, усталость, страх,
устремляясь в пространство, прорвав притяженья плен,
словно узник, устав от решеток, оков и стен.
И взовьется пыль, и закроет собою свет.
И продлится минута молчания сотни лет.
Когда выгорит все, что когда-то могло гореть,
даже воздух не будет больше по нам скорбеть.
Кислород и азот, аргон, углекислый газ
станут просто ветром. Забыв навсегда о нас,
забирая с собой запах сна и твоих волос,
запах кофе, вина и мяты, уйдет без слез.
Он умчится с песней отсюда воде во след,
превращая минуту в тысячи тихих лет.
Когда выгорит все, что когда-то гореть могло,
распадется сталь, и рассыплется в пыль стекло.
Камень станет песком, песок обратится в прах,
и все будет бесплотней, чем руки твои во снах.
Никакая сила не сможет сдержать частиц,
и они разлетятся стаей безумных птиц,
потерявших и дом, и зимовье, и солнца свет.
И молчание будет звучать миллионы лет.
2
Я сижу на работе, время — четвертый час.
Этот город спит, и во сне он не видит нас.
Но, конечно, рассвет придет, и сведут мосты.
Где-то будет цвести пустыня, и петь киты,
кто-то выйдет в утро и кофе возьмет с собой,
сизый дым родится над чьей-то печной трубой.
На вокзале, где мы попрощались в вечерний час
не осталось следа, не осталось ни тени нас —
безразличен мир, он посмел не сгореть дотла.
Моя жизнь — пепелище, на запах и цвет — зола.
И все кажется, если бы мог я освободить
все, что бьется, давит, болит у меня в груди,
не осталось бы камня на камне по всей земле,
и сгорело бы все, что хоть как-то могло гореть.
Но стоят на месте и дом, и вокзал. И мир
даже не встряхнуло. Светило прошло надир.
Я сижу на работе. Привкус во рту — свинца.
И минута молчания длится.
Ей нет конца.
Струна
Простудился ли я от бессонных ночей,
от промозглых ветров, постоянных дождей,
или я заразился от календарей,
с их набитыми бегом коробками дней?
Может статься, виною всему простыня,
что своей белизной заразила меня.
Может — темная комната, стул и фоно,
что расстроено сильно и слишком давно.
Может быть, это воздух, что силясь обнять
мои руки проходят насквозь,
как планету бесплотная ось.
Может быть — эта ручка и эта тетрадь.
От чего эти руки все время дрожат?
Может быть, снова ветер во всем виноват?
Никотин? Кофеин? Отупляющий яд,
что вливаю в себя третьи сутки подряд?
Может, землетрясенье в далекой стране,
будто небо в плевке, отразилось во мне?
Может — люди, что бьются в конвульсиях драм,
мелких, средь вышибающих дух панорам?
Может быть, это то, что пытаюсь сдержать
в темноте моей клетки грудной,
обернулось дрожащей струной
и не хочет смириться, что нужно молчать.
Перед рассветом
Подходит август к середине,
и ты готовишься встречать очередной сырой рассвет.
На светофоре ждешь зеленый, хотя машин в помине нет.
И пусто на душе. И воздух
переполняет желтый свет
висячих фонарей. У бара
ты ускоряешь нервно шаг - там смех людей и звон стекла.
А ночь еще почти тепла,
хотя уже не так как прежде.
И в Александровском саду
густая зелень предвкушает фотографический дебют.
И мокрых статуй силуэты похожи на детей, что ждут
когда придет за ними мама
и заберет из темноты, что неприютна и пуста
туда, где тянутся друг к другу родные руки и уста.
И ночь проходит, приближая
тебя еще на полшага к тому, что сделать загадал.
О, как смеялся бы создатель, когда бы он существовал!
Откуда силы в этом теле,
что истончилось как листок, не раз подвергнутый стиранью?
Ты все еще во что-то веришь, невразумленное созданье?
Переставляешь ноги, будто
в конце пути откроют дверь и скажут: "Здравствуй, проходи.
Я ничего не позабыла.
За эту боль меня прости.
Ты знаешь сам, так было надо. Я рада, что ты смог дойти,
и что ты цел и невредим.
Ты тоже был мне очень нужен, но нужен сильным и живым".
⠀
Рассвет пришел, и ты ложишься.
Ты видишь сон: прошло семь лет, мансарда, за окном Париж.
И ты на скомканной постели, один проснувшийся, лежишь,
вдруг вспоминая это утро,
и парк, и Кронверкский проспект;
и мысль тревожная скребется в лохматой сонной голове.
⠀
Но вот ты слышишь: в ванной шум,
и весело скрипит паркет.
⠀
Она заходит в полотенце
и улыбается тебе.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
