
Бесплатный фрагмент - Центральный институт труда: становление научной работы и изыскания по биологической линии
1920–1930-е гг.
ПРОЛОГ
Имей при себе молоток и гвоздь и воздвигни город.
А. К. Гастев
Если, обогнув Большой театр, пройти полсотни шагов по Петровке, то вверху улицы, по правой стороне можно увидеть угловое здание со стеклянным куполом и величественными колоннами ионического ордера вокруг входных дверей. Подойдя поближе, прохожий увидит на фризе крупные золотистые буквы: «Центр диагностики и телемедицины». С 2020 года здесь расположен один из ведущих научных центров России в области здравоохранения и цифровых технологий. Однако инновационные идеи и смелые научные изыскания кипели в этих стенах и раньше — сто лет назад по адресу Петровка, 24 находился Центральный институт труда (ЦИТ)…
Социальные потрясения начала ХХ века в той или иной мере охватывали большинство стран мира. Осознавая несовершенство и хрупкость экономического устройства жизни, кажется странным, что множество умов билось над его улучшением. Рождались политические теории, утопии, гипотезы, свергались правительства, гремели войны, в схватке сходились капиталистическая и социалистическая системы. Однако даже в этой ужасной смуте у самых отчаянных антагонистов находилось что-то общее. Этим общим стала проблема научного подхода к повышению производительности и качеству труда. Обе полярные системы мироустройства, не смотря на все возможные противоречия, осознали и устремились к разрешению указанной проблемы, так как именно в этом они увидели возможность неограниченного экономического роста, а значит неотвратимой победы своей веры.
Так возникла новая отрасль знаний, новая дисциплина — научная организация труда (НОТ) как научно обоснованный комплекс организационных, технических и психофизиологических мероприятий, направленных на получение максимальных производственных результатов при минимальных затратах труда.
Сама по себе история становления и развития НОТ очень интересна, многогранна и разнообразна, при этом довольно обстоятельно изучена многими поколениями историков. Эта предметная область интенсивно прогрессировала и в СССР в период 1920–1930- х гг., а позднее, во второй половине ХХ столетия многие её аспекты были переосмыслены и возрождены на новый лад.
ЦИТ собственно и занимался научной его организацией. В этом вопросе он был вовсе не одинок, несколько крупных научных учреждений и целый ряд отдельных лабораторий в СССР посвятили себя проблематике НОТ. Однако ЦИТ имел одно ключевое отличие: только здесь было предложено выстраивать труд (от отдельно взятых операций до целых производственных процессов) на основе постоянного контроля и анализа организационно-технических и психофизиологических показателей. Такой подход получил наименование «социально-инженерного», он предполагал научно обоснованное создание отлаженного, синхронно работающего механизма, состоящего из машины и «живой машины», то есть из техники и человека.
В этом ключе путь ЦИТ был уникален. В то время, как другие учреждения в области НОТ исследовали профессиональный отбор, охрану труда и вопросы гигиены, в здании на Петровке, 24 создавали уникальные методологии комплексного изучения состояния человеческого организма непосредственно в процессе осуществления трудовой деятельности. Знания о психофизиологии трудящегося человека применялись для разработки оптимальных способов обучения; здесь не сортировали работников, а обучали и организовывали. В ЦИТ не следовали догмам, а смело их трансформировали, создавая новые сущности: от отдельных методов до целых научных отраслей.
Создателем и первым руководителем ЦИТ был Алексей Капитонович Гастев — уникальный человек, сочетавший в себе таланты поэта и слесаря, учёного и организатора.
Биографии и научному наследию А. К. Гастева посвящено значительное количество научных трудов, причем как российских, так и зарубежных авторов. Начиная с 2017 г. трижды проводилась специальная конференция — «Гастевские чтения». Общественно-политическая, литературно-художественная, научная деятельность Алексея Капитоновича, в том числе, как одного из основоположников научной организации труда, стандартизации, бережливого производства и проч. изучена весьма скрупулезно. Помимо многочисленных статей, книг, диссертаций, совершенно особенный вклад внесен его потомками, прежде всего — Ю. А. Гастевым и А. А. Ткаченко-Гастевым.
Вовсе не ставя своей целью дать исчерпывающий обзор трудов об Алексее Капитоновиче, лишь приведём примерную их классификацию. Его личность и исторический вклад изучены со следующих позиций:
1. Биография — даты, этапы и особенности жизненного пути.
2. Развитие научной организации, социологии и педагогики труда. Непосредственное исследование истории научной и методологической деятельности Алексея Капитоновича в контексте общей истории НОТ. Особо следует отметить единичные работы, указывающие факт наличия «научной школы Гастева», но детально этот аспект практически не разбирающие.
3. Вклад в современную теорию и практику управления, кибернетику. В таких трудах преимущественно прослеживаются взаимосвязи достижений и концепций А. К. Гастева с современными методологиями менеджмента.
4. Культурология. Литературный критик З. С. Паперный говорил, что художественные произведения А. К. Гастева — «одна из самых ярких страниц пролетарского творчества революционной эпохи». А поэт Г. А. Санников утверждал, ни много, ни мало, что «великая и обширная „земля“ советской литературы покоится на трех китах и этими китами являются Максим Горький, Владимир Маяковский и Алексей Гастев». Несколько авторов, включая современника и соратника В. О. Перцова, многогранно исследовали художественное наследие Алексея Капитоновича, его вклад в поэзию и литературу.
Конечно, необходимо указать, что во многих трудах перечисленные выше аспекты пересекаются, взаимно дополняют друг друга. Далеко не всегда конкретную публикацию можно абсолютно точно отнести к той или иной категории.
На фоне весьма обширной исторической литературы об А. К. Гастеве, история именно Центрального института труда, как научного учреждения, изучена крайне поверхностно.
Наиболее значительными представляются монография «ЦИТ и его методы НОТ» 1970 года издания (во многом это просто компиляция научных статей Института); весьма обстоятельная научная статья Д. М. Беркович, опубликованная в 1970 г.; работы по отдельным эпизодам истории ЦИТ А. В. Силина; серия статей о становлении и развитии социальной инженерии А. И. Кравченко; серия статей И. Е. Сироткиной с обзором истории ЦИТ и о развитии биомеханики; диссертация и статьи О. Г. Носковой и некоторые иные труды.
В этих работах обозначены основные этапы развития Института, вводятся в обращение некоторые материалы, однако, при этом делается акцент исключительно на менеджмент, консультирование промышленных предприятий с целью их реконструкции и обучение рабочей силы, развитие стандартизации. На этом фоне психофизиологическим исследованиям уделяется минимум внимания (лишь обзорно освещены аспекты изысканий в области биомеханики и структурирования научной работы Института).
Впрочем биологическое направление НОТ вообще плохо изучено, обойдено вниманием историков как науки, так и медицины. В частности, проанализировано историческое значение первых Всесоюзных конференций по НОТ в обосновании и развитии психофизиологии труда, а также для современных организационно-управленческих подходов в здравоохранении. Вместе с тем, конкретные учреждения и научные группы в предметной области только перечисляются, их вклад и процессы становления остаются неизученными.
Что уж говорить о плеяде выдающихся учёных, трудившихся в ЦИТ и непосредственно составивших научную школу Алексея Капитоновича Гастева! Фактически внимания историков удостоились только Н. А. Бернштейн, Н. П. Тихонов и И. Н. Шпильрейн — их деятельность в период работы в ЦИТ изучена более или менее детально, хотя и в отрыве от общей канвы психофизиологических исследований Института.
Иногда отмечается парадоксальная ситуация: биографии выдающихся учёных изучены, но период их деятельности в Центральном институте труда просто игнорируется или упускается, в лучшем случае упоминается одним предложением (яркий пример — С. Г. Струмилин).
Таким образом, в исследованиях о ЦИТ отмечается явный дисбаланс в сторону инженерно-технических аспектов, организации производства и промышленной стандартизации.
Историки указывают: «Гастевцы сформулировали оригинальную, не имевшую в мире аналогов идею социальной инженерии. Авторы концепции ставили во главу угла человеческий фактор. Социально-инженерный подход предполагает четкое, синхронное, взаимосогласованное функционирование техники и человека, напоминающее работу безупречно отлаженного механизма». А далее изучают только «технику» — инженерные и управленческие аспекты, «человек» же при этом исчезает из поля зрения.
В существующей историографической базе преобладает изучение личности А. К. Гастева и истории инженерно-управленческих научных исследований ЦИТ. Анализ развития психофизиологических изысканий ограничен единичными биографическими исследованиями отдельных учёных. Биологическое направление научной работы ЦИТ, бывшее на самом деле ключевым в период 1920-х гг., практически не исследовано.
А. К. Гастев — инженерный гений организации труда, но почему же именно биологическому (психофизиологическому) направлению он уделял такое повышенное внимание?
В следующей части повествования будет много цитат, и автор заранее просит прощения у читателя за то, что дал возможность своим героям высказаться напрямую.
В период своего становления и расцвета научная организация труда не имела чётко очерченных и однозначно воспринимаемых границ, единых подходов и толкований. Относительно общепринятой была её глобальная цель — обеспечение максимальной производительности труда. Но вот концептуальные подходы, теоретические постулаты и конкретные методологии весьма варьировались. В самых общих чертах можно сказать, что они разделялись на направления: управленческое, организационно-техническое, социально-экономическое и психофизиологическое.
Границы между направлениями зачастую сложно провести, в исследованиях и практической работе они тесно переплетались, дополняли друг друга. Вместе с тем, в рамках отдельных научных групп и школ можно выявить расстановку приоритетов. Алексей Капитонович Гастев и его приверженцы в 1920-е — начале 1930-х гг. основной акцент сделали именно на психофизиологическое (биологическое) направление.
Они однозначно воспринимали психофизиологию труда как новую отдельную науку, целью которой «является выяснение таких условий работы, в широком смысле этого слова, чтобы производительность была наибольшей, а усталость и вредные действия профессионального труда на организм наименьшими».
Объектом этой новой науки был трудящийся человек — «живая машина с окружающими её условиями (рабочий инструмент, рабочее место, технические приспособления, приёмы работы)».
А. К. Гастев утверждал: «все новейшие значительные исследования по вопросам труда и все новейшие методики воздействия исходят в последнее время именно от работников и учреждения, умевших синтетически учесть биологический и технический моменты в производстве».
Выдающийся физиолог и сотрудник ЦИТ Крикор Хачатурович Кекчеев считал, что: «почти все люди работают неправильно, ненаучно. Следствием неправильного способа работы является малая производительность труда в количественном и качественном смысле, преждевременное изнашивание организма и несчастные случаи».
Эту проблему прекрасно понимали все ведущие мировые специалисты по НОТ. Однако предлагаемые ими пути её решения были весьма специфичны:
1. Формализованный профессиональный отбор методами психотехники (психологического тестирования). По факту здесь происходило «выбрасывание из жизни» произвольного числа людей, не подходящих по неким характеристикам или тестам.
2. Рационализация и стандартизация трудовых движений и операций для достижения максимальной производительности в соответствии с методологией основоположника НОТ Ф. Тейлора. Однако при этом не учитывались аспекты утомления, рационального режима труда и отдыха, влияния работы на организм рабочего; именно за это «тейлоризм» и подвергался жёсткой критике, в том числе со стороны В. И. Ленина.
3. Охрана труда, преимущественно, в виде элементарных норм техники безопасности. Интересно, что А. К. Гастев метко назвал физиологию в зарубежных исследованиях методом «хозяйского гуманитаризма», подчеркивая спорадический характер соответствующих научных изысканий и отсутствие системного психофизиологического подхода к НОТ.
В СССР предложили другой путь. Вновь слово К. Х. Кекчееву: «на живую машину, на человека-рабочего обратили как-то мало внимания, а если и интересовались им, то почти исключительно с точки зрения охраны труда; подходили к нему, руководствуясь соображениями человечности, а между тем упорядочение способов работы и построение их на научных основах дали бы возможность, как и показали многочисленные исследования, резко повысить производительность труда, не нанося вреда здоровью самого рабочего. Работа в наилучших условиях, вот — задача научной организации труда: не выжать человека, не добиться от него во что бы то ни стало возможно большей производительности, а поставить его в такие условия, где он мог бы работать возможно лучше, — вот к чему стремится научная организация труда».
В этом ключе о недостатках существующих методик НОТ очень ясно высказывался академик В. М. Бехтерев. Он настаивал на рассмотрении рабочего как «сложного биосоциального существа» и отмечал, что имеющиеся подходы и системы НОТ «извлекая из рабочих рук всю возможную энергию для поднятия производства <…> уделяют сравнительно мало внимания сбережению от изнашивания самой человеческой машины, не вводя каких-либо научных методов для установления той меры, длительное превышение которой может отражаться неблагоприятно на состоянии самой человеческой машины и её здоровья».
В. М. Бехтереву вторит не менее выдающийся физиолог и тоже сотрудник ЦИТ профессор Алексей Александрович Кулябко: «в вопросах регламентации труда и выработки норм продолжительности рабочего дня физиологии должно быть отведено первенствующее место. Эта мысль не должна оставаться достоянием одних учёных, подающих свой голос только тогда, когда прибегают к их авторитету. Нет! Эта мысль должна внедриться в умы народных масс, которые сами принимают участие в своей организации, в своем строительстве».
Подход к воплощению сказанного в жизнь предложил А. К. Гастев, сформулировав научную парадигму ЦИТ: «Мы переворачиваем современную биологию и говорим: человек полон возможностей; в нем тысячи возможностей для приспособления, тренировки, победы. Вот почем мы жестко противопоставляем себя психотехникам — не сортировка на первом плане, а тренировка». На фоне механизации производства Алексей Капитонович сформулировал научную проблему: организовать «воспитание особого нового скоростного человека, с его быстрой реакцией, с его способностью всегда быть настороженным и, в то же время, расходовать минимум нервной энергии. И здесь опять-таки не отбор, а тренировка, ибо все должны быть такими, а не только избранные».
Итак, для Центрального института труда психофизиология — это фундамент НОТ, основа для создания нового типа трудящегося человека.
Живую машину в контексте рабочей среды надо всесторонне изучать, чтобы вырабатывать «методику умелой работы, рабочей, трудовой культуры, методику „как надо работать“».
Но А. К. Гастев ясно видел текущие проблемы: отсутствие методологий таких научных изысканий, дистанцию между сугубо лабораторными исследованиями (которых кстати немало за рубежом) и изучением живой машины в реальных производственных условиях. Тому подтверждением слова цитовцев: «Обращение с этой совершенной живой машиной до сих пор остается грубо эмпирическим. Опыт, не проверенный данными науки, всё ещё является главной основой организации труда и научное отношение к физиологическому организму работника считается чем-то академическим, годным для лабораторных опытов, но не для фабрики <…> Развитие техники, т.-е. мёртвых орудий производства — машин определяется точными данными естественных и математических наук, — использованием живой рабочей силы до сих пор идет по старинке, — на основе стихийных экономических процессов и передаваемого из поколенья в поколение опыта».
В аспекте методологии А. К. Гастев на первое место выдвинул объективные методы, дающие измеримый результат, фактически применив к биологии подходы точных наук: «С тех пор, как технологический прогресс индустрии, выразившийся в сильнейшем внедрении в производство инженерного метода и во внедрении инженера на место ремесленника-мастера, поставил задачу научной организации производства и труда, в вопросе установления норм обозначилось аналитически-исследовательское начало <…> Значение этой аналитически-исследовательской тенденции не в том, что на дала или может дать абсолютно точные или глубоко всесторонние измерители и определители норм, а именно в том, что она в вопросе об определении норм на место обычая и личной секретности выдвинула объективно-аналитическое начало, фиксированное в особых расчетных документах».
В «объективно-аналитическом начале» и «особых расчетных документах» в приложении к психофизиологии можно усмотреть своеобразную предтечу современной доказательной медицины с её стандартизированными дизайнами научных исследований, статистическим аппаратом, требованиям к «прозрачности» и воспроизводимости процессов и результатов научных работ.
Подтверждением этому служит ещё одно концептуальное высказывание Алексея Капитоновича: «В социальной области должна наступить эпоха тех же точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей <…> мы должны поставить проблему полной математизации психо-физиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости с одной стороны, прямыми и кривыми экономических стимулов с другой». Фактически он предписывал учёным подойти к рабочему «с таким же чисто инженерным расчетом и анализом, с каким мы подходим к любому станку-орудию».
В самом начале пути, формируя научные задачи для Института, А. К. Гастев подчеркивал фундаментальную роль психофизиологии труда и научного разрешения проблемы утомления; а ещё выделял отдельное изучение «статики» и «кинематики» работника; в аспекте психотехники он призывал не тратить время на «маленькие проблемы социальной охраны личности», а идти путём «смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого исторического фактора, как машинизм».
Интересно, как Алексей Капитонович подходил к проблеме дистанции между лабораторной наукой и наукой в реальных условиях производства. Как весьма системный человек он начал с классификации явлений и выделил четыре вида труда и соответствующие подходы к их изучению:
1. «Чисто мускульный, индивидуализированный» — его изучение оптимально в «традиционно-лабораторных условиях», оно наиболее доступно для современного учёного.
2. Кооперированный — требует более сложного подхода, чем лабораторный.
3. Механизированный со «сложным или настороженным» управлением — это «самый интересный и ответственный в смысле методов изучения и ценности психо-физиологических выводов» вид труда.
4. Индустриальный, заводской — «даёт возможность перевести чисто психо-физиологическую проблему в проблему психо-физиологической культуры пролетариата».
В этой классификации прослеживается вся программа научных изысканий по биологической линии ЦИТ: от лабораторных исследований в начале 1920-х гг. Институт придёт в начале 1930-х гг. к интеграции непрерывного мониторинга и научного анализа потока данных в реальном производстве («олабораторенному» заводу и «трудовой клинике»).
А. К. Гастев утверждал: «Перед нами во весь рост встаёт задача синтезировать все достижения психо-физиологических исследований». Более того, на основе этого синтеза с привлечением технических наук, педагогики и экономики требовалось обобщить данные, «проэкспериментированные и учтённые на протяжении определённого периода и на громадных людских массах», чтобы создать совершенно новую науку, сменяющую социологию — «творцом этого нового социального инженеризма, создателем новой социально-трудовой методики должен стать Институт Труда».
В научном развитии психофизиологии труда и социального инженеризма на её основе А. К. Гастев опирался на два концептуальных подхода. Первый возник одновременно с созданием Института, второй появился спустя 5–6 лет в ходе развития многочисленных идей.
При создании ЦИТ, в начале 1920-х гг., на психофизиологической основе предполагается разработать методики формирования «биологических установок» или «автоматических био-приспособлений в организме». Под этим подразумевалось создание предрасположения организма к выполнению тех или иных, разумеется научно обоснованных рациональных, движений (так называемая «биологическая автоматизация» действий работника). Это предрасположение формировалось путём обучения (тренажа), причём конкретные упражнения располагали строго в порядке нарастания трудности их выполнения, многократно повторяли, а всю методику и программу обучения в целом формировали на основе результатов научных изысканий, в том числе в области трудовых движений. Изначально в качестве одного из ключевых средств формирования биологических установок в ЦИТ рассматривали тренажёры и всяческие «внешние приспособления» для обучения, направляющие и корректирующие движения; сами цитовцы называли их «организационно-вещевыми установками» или орга-приспособлениями.
А. К. Гастев определил четыре типа биологических установок:
1. Активаторные (выработка энергии, борьба с утомлением, система возбудителей для организма, охрана труда).
2. Статические («основное корпусное устройство», «поддержка равновесия человеческой машины»).
3. Динамические (двигательно-силовая способность, двигательная культура).
4. Сенсорные (зрительные, слуховые, осязательные и высшие нервные рефлексы, выражающиеся в форме ассоциаций).
Для каждой из них он планировал научно обосновать и создать педагогическую методику формирования, шагнув в «область, где ещё не ступала нога исследователя». По замыслу А. К. Гастева ЦИТ должен разработать принципы «биологически-организационной тренировки», чтобы из революционной молодежи с «организационно-биологическими качествами» создавать «кадры организационно-трудовой агентуры, своего рода культурных установщиков, способных прямить неприспособленные к организации широкие народные массы и знающие искусство проведения основных культурных предпосылок». Примечательно, что к «организационно-биологическим качествам» (sic! «биологическим») Алексей Капитонович относил «быстроту и полноту обследований (разведки), точность донесений, способность неотступно биться, ловкое владение телом, уменье выполнять основные трудовые приёмы», соблюдение «выдержанного режима работы и отдыха», умение «давать чеканную организацию на малых участках, изворотливую хозяйственность».
Второй уникальный концептуальный подход появился в середине 1920-х гг.: основой для всей работы ЦИТ стало функциональное разделение. В соответствии с идеей А. К. Гастева каждый трудовой процесс раскладывался на три функциональных этапа: установку, обработку и контроль. По аналогии с работой слесаря: сперва рабочий подходит к верстаку, размещает в тисках заготовку и выбирает инструмент — это установка; затем он изготовляет деталь — это обработка; наконец, измеряет размеры детали, проверяет отсутствие брака — это контроль.
В педагогическом процессе усматривались такие же этапы: психофизиологический отбор и подготовка учебно-методических материалов — это установка; непосредственно обучение курсантов — это обработка; выпускные экзамены и оценка динамики изменения психофизиологических параметров по окончании учёбы — это контроль.
Концепцию выделения функциональных этапов применяли во всех аспектах деятельности ЦИТ, на её основе выстраивали производственные процессы, методики рационализации и организации производства, проводили научные изыскания и т.д., и т. п. При этом, как «обывательский предрассудок», полностью стирали грань между физическим и умственным трудом — функциональное разделение считалось для этого своеобразной панацеей.
Три функциональных этапа стали концептуальной основой и изысканий по биологической линии. А. К. Гастев требовал: «Организационно-производственное измерение трудового процесса в ЦИТ’е производится по формуле: установка — обработка — контроль <…> Значение биологических измерений в производстве должно быть подчинено чисто инженерно-расчетным измерениям технологического процесса».
Это означало необходимость выявить и объективно измерить колебания физиологических параметров рабочего в течение каждого функционального этапа; сопоставить трудовое поведение и биологические показатели отдельно в ходе установки, обработки и контроля. И здесь таилась беда… Но всему своё время.
В целом биологическое направление научно-изыскательной работы Центрального института труда было ключевым и предусматривало разработку психофизиологических основ труда, физиологических концепций научной его организации и управления, методик рационализации трудовых движений, операций и процессов.
В той или иной форме ЦИТ просуществовал много десятилетий, в какой же период времени биологические изыскания носили основополагающий характер?
В ЦИТ достаточно трепетно относились к своей истории, тщательно ведя своеобразную летопись развития и достижений. В первом обобщении деятельности учреждения (формально за 1923 г.) приводится история его основания и самого раннего развития. В 1924 г. А. К. Гастев впервые систематизировал эволюцию учреждения, описав основные достижения и процессы за каждый год. В следующем году Алексей Капитонович лаконично указывал лишь основные вехи:
— 1920 — основание ЦИТ;
— 1921 — лабораторно-производственная выработка установочной методики ЦИТ;
— 1922 — пробная практическая работа по обучению трудовым приемам по методике ЦИТ;
— 1923 — создание курсов инструкторов ЦИТ; установка операций в предприятиях;
— 1924 — массовая подготовка инструкторов, «разброска» их по СССР; общественное признание методики ЦИТ; выпуск инструкторов-операторов; установка операций в предприятиях посредством инструктажа;
— 1925 — общая методическая консолидация ЦИТ; формулировка организационной методики ЦИТ; внедрение в предприятия методом органического обновления.
В 1932 г., когда ЦИТ уже перешёл в ведение народного комиссариата тяжелой промышленности, были описаны следующие исторические периоды его развития с точки зрения методической направленности деятельности:
— до 1924 г. — «узкая база», создание методики обучения;
— 1927 г. — аналитическо-методическое толкование организационно-производственного содержания тенденций социалистической реконструкции и связанного вопроса о типах рабочей силы и формах их подготовки;
— 1928 г. — нормирование труда;
— 1928–1929 гг. — функциональная организация труда и функциональной системы обучения.
Наконец, в монографии, приуроченной к 20-летию Института в 1940 г., появилась следующая периодизация:
— 1920–1924 гг. — возникновение и начало работы;
— 1925–1929 гг. — широкая практическая работа по подготовке кадров;
— 1930–1934 гг. — развёртывание работ по организации труда и производства;
— 1935–1936 гг. — комплексное проектирование производственных участков и развёртывание работ по агрегатному станкостроению;
— 1937–1940 гг. — переход на работу в авиационной промышленности.
В более современных исторических исследованиях альтернативных предложений по периодизации не выявлено.
Исходя из приведенных данных очевидно, что в 1920-е гг. ЦИТ фокусировался на научном развитии методологий и обучении (фактически это уровень отдельно взятого работника), а в 1930-е гг. перешёл на проектирование и организацию производства (уровень целого предприятия), а потом и вовсе на узкую специализацию в виде самолётостроения (фактически с конца 1930-х и до настоящего времени).
Таким образом, периодом институционализации и развития научных исследований в области психофизиологии в ЦИТ можно полагать 1920-е — первую половину 1930 гг. Вместе с тем, для раскрытия событий и процессов, обусловивших появление биологической линии научных изысканий Института, следует обратиться к истокам появления этого учреждения, а значит рассмотреть и отдельные аспекты становления личности А. К. Гастева как учёного. Исходя из сказанного отмечаем, что хронологические рамки нашего исследования охватывают периоды 1900–1935 гг.
Территориальные рамки преимущественно ограничены деятельностью основной базы Центрального института труда в г. Москве.
Целью данной работы стала реконструкция истории зарождения, развития и институционализации биологического (психофизиологического) направления научных исследований Центрального института труда в период 1920-х — первой половины 1930-х гг., выявление влияния соответствующих исследований на отрасли биомедицинских наук, определение вклада и приоритета отечественных учёных.
Источниковая база исследования представлена совокупностью опубликованных и неопубликованных документов. В основу положены письменные источники (научные труды — статьи, монографии, брошюры; законодательные акты; делопроизводственная документация; периодическая печать; публицистические издания); изобразительные источники (фотоизображения из научных трудов и периодической печати); материалы личного происхождения (в том числе, эго-материалы сотрудника Национального института авиационных технологий Николая Ивановича Серёгина).
В ходе работы над монографией использованы письменные источники из фондов ФГБУ «Российская государственная библиотека», документы из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), архива Российской академии наук (АРАН), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива в г. Самара (РГАС), Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Детальная информация об использованных фондах приведена в конце монографии.
Целый ряд материалов и документов впервые вводится в научный оборот.
Итак, «среднестатистический» физиолог 1920-х годов исследовал рефлексы собаки, жёстко зафиксированной в специальном приспособлении, или расчленял лягушку, формируя нервно-мышечный препарат. В ходе десятков и сотен экспериментов по крупинкам накапливались знания о функционировании живого организма. Но Гастев поставил вопрос по-другому: вот завод, на заводе рабочий, у рабочего в руках молоток и зубило; как результаты препаровки лягушки можно применить для улучшения конкретной трудовой операции? Чистая теория ЦИТу была неинтересна, как и крупинки фундаментальных знаний. Научные изыскания должны сразу давать практический результат. Для большинства учёных-психофизиологов того времени такой подход был неприемлем или вовсе непонятен. Однако находились и те, кто принимал вызов…
Технический комментарий автора
Оригинальный стиль письменного изложения А. К. Гастева включал обязательное акцентирование отдельных слов и словосочетаний. В монографии приводится довольно много цитат, так отмечены в них оригинальные акценты. Вместе с тем, автор также взял на себя смелость акцентировать определённые термины и мысли, которые отмечены в тексте таким образом. В цитатах сохранены оригинальные пунктуация и орфография.
ГЛАВА 1. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
1.1. Гастев
Нам надо стоять на базе разбуженных к
новой невиданной жизни рабочих масс и
купать их в остром огне научных проблем века.
А. К. Гастев
Алексей Капитонович Гастев родился 26 сентября (8 октября) 1882 года в городе Суздале в семье служащих. Его отец Капитон Васильевич был учителем в церковно-приходской школе при Вознесенской церкви, а мать Екатерина Николаевна — портнихой. Едва окончив трёхклассное училище, 19-летний Алексей погружается в политическую и революционную борьбу. В 1901 г. он вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). С этого момента начинается полулегальный, насыщенный отчаянными событиями период его жизни. Создание подпольных организаций, руководство рабочими дружинами, аресты, розыск, ссылки и побеги… В активный революционный период — вплоть до 1917 г. — товарищ Лаврентий (такова подпольная кличка Гастева) известен как идейный руководитель, агитатор, боевик, председатель совета рабочих депутатов, чрезвычайный комиссар, делегат партийных съездов. Он знаком с В. И. Лениным, М. И. Калининым, А. В. Луначарским. А ещё А. К. Гастев — поэт и писатель, под семью разными псевдонимами он печатается с 1904 г. Из-под его пера выходит полу-ритмическая проза, стихотворения, рассказы о ссылках и стачках, о фантастическом будущем… О творчестве Алексея Капитоновича положительно отзывались А. М. Горький, В. Я. Брюсов, а по свидетельству В. О. Перцова «Маяковский видел в Гастеве идейного союзника и хотел работать в литературе вместе с ним».
В контексте данного исследования важно выделить следующие биографические факты. Окончив в Суздале технические курсы, А. К. Гастев переехал в Москву, поступил в Учительский институт, изучал слесарное и столярное дело. В 1907 г. он вступил в профессиональный союз работников металлообрабатывающей промышленности (металлистов) — событие, предопределившее его судьбу. В периоды как относительно легального, так и нелегального существования А. К. Гастев трудился на различных заводах; он — рабочий, слесарь, досконально знающий реалии промышленных предприятий. В 1908 г. в Санкт-Петербурге Гастев работал на постройке мостов, в 1906–1910 гг. — в Василеостровском трамвайном парке, в 1910–1912 гг. — на заводах во Франции. В 1913 г. он работал на Петроградских заводах акционерного общества «Я. М. Айваз», в то время одном из наиболее прогрессивных, с точки зрения организации и управления, промышленных предприятий. На «заводах Айваза» реализовывались подходы и методики американского инженера Ф. У. Тейлора (1856–1915) — первые в своем роде разработки по научной организации труда (НОТ).
Отметим, что 14 лет (с 1903 по 1917 гг.) А. К. Гастев жил на нелегальном положении. Он не мог выступать официально, «не считая мелких статей в легальных журналах». По его собственному утверждению свои идеи в этот период «трактовал» в художественной форме, благодаря чему сложилась книга «Поэзия рабочего удара». Гастев — поэт, писатель, фантаст; в среде футуристов и конструктивистов он создаёт собственный стиль. Строки его стихов рисуют в сознании грохочущие заводы, гудки и клубы пара. Его проза — это художественное изложение зарождающихся научных идей, предчувствие победы индустриализации и нового мира. В 1921 г. он издал своё последнее литературное произведение — книгу «Пачка ордеров», после чего предложил и осуществил «самый радикальный подход — выход из искусства». Гастев-поэт «замолк, полностью отдавшись ЦИТу, организацию которого он творил, как истинно поэтическое произведение». Центральный институт труда заполнил всю его жизнь и стал «последним художественным произведением» Алексея Капитоновича.
Осмысление опыта организации производства и сама идея научного подхода — ключевые процессы биографии Алексея Капитоновича. Впрочем лучше всего о них рассказал сам герой…
Путь к науке А. К. Гастева, по его собственному свидетельству, начался в 1908 г. и к 1927 году включал 13 лабораторий.
Алексей Капитонович утверждал, что мысль о новой науке — «социальной постройке предприятий» — впервые пришла к нему в 1908 г. в период работы на стройке мостов на Петербургском Гагаринском буяне. Здесь «блеснули первые, потом отодвинутые жизнью проблески методологии, известной потом как методика ЦИТа». Впрочем первые «проблески» не исчезли вовсе, а нашли некоторое отражение в публикациях Гастева под псевдонимами «Васильев» и «Назаров» в журнале «Металлист» (1908–1909 гг.) с критикой «американской системы» заработной платы, вводимой на казённых предприятиях, обсуждением вопросов организационно-цехового производства.
После «проблеска» последовали тринадцать «лабораторий», выковавших из юного слесаря выдающегося лидера научной школы.
Лаборатория №1. Василеостровской трамвайный парк в Санкт-Петербурге, 1908–1910 гг., где А. К. Гастев работал слесарем и регистратором производственных операций в мастерских. Здесь он столкнулся с интересной попыткой организовать научную лабораторию, задача которой — внести элементы научной организации труда в ремонтные работы. В парке «причудливо сочетался крайний примитивизм рабочего состава и состава мастеров с несколько необычным просвещенным руководством со стороны начальника парка, инж. Павлицкого». Этот руководитель организовал «особый музей, в которой были обозначены и расположены по определенной системе все изученные части при ремонте вагонов». Музей стал для Гастева «недурной организационной школой», позволил соединить «свои небогатые теоретико-статистические знания с эмпирикой ремонта, уложенного <…> в определенные градации, в определенную систему». Фактически здесь впервые А. К. Гастев получил опыт научной систематизации и попытался применить «свои мысли и выкладки об организации труда на практике».
Лаборатория №2. Французские заводы, 1910–1912 гг. Будучи «в изгнании» за границей А. К. Гастев работал на производстве по изготовлению паровых машины и наладке котельного оборудования, а также на автомобильных заводах. В качестве обычного рабочего ему удалось изучить систему заводских инструментальных приспособлений, систему текущих браковок, а главное, познакомиться «с интереснейшим заводским учреждением — „бюро изысканий“». Такие бюро представляли собой лаборатории «нового типа», в целом похожие на университетские, но занятые исключительно разрешением текущих проблем по монтажу и эксплуатации автомобиля. Здесь А. К. Гастев впервые вникает в вопрос организации научной работы при предприятиях, непосредственно сталкивается с «тейлоризмом». Он отмечал, что университетские лаборатории обычно поражали «внешней неряшливостью», а вот заводские отличались «строгой оперативностью и чистотой работы». Во время пребывания в Париже, параллельно с работай на заводах, Гастев учится в Высшей школе социальных наук.
Период двух первых лабораторий был для Алексея Капитоновича временем «скитаний из страны в страну, с завода в завод <…> Живя в этом мире заводов, расположенных в разных частях света и государствах» он всё больше проникался «мыслью нормализации и тренировки трудового приёма».
Лаборатория №3. Завод акционерного общества «Я. М. Айваз» в Санкт-Петербурге, 1913–1914 гг. — один из крупнейших заводов того времени, который отличался передовым подходом к управлению и смело проводил «новую организационную систему индустрии». Вся работа его выстраивалась «чисто экспериментально», внедрялся «тейлоризм», была создана оригинальная система этапных браковок. Именно здесь Алексей Капитонович сфокусировался на проблематике нормирования. Он вёл наблюдения над нормами выработки отдельных рабочих, по его собственным словам вскрыл «производственный анархизм в поведении русского пролетариата». Зато с тех пор идея норм стала занимать его «как определённый социальный фактор, как определённое социальное явление». Он критично осмыслил систему Тейлора. В отличие от неё Гастев стал рассматривать вопрос нормирования не как исключительно проблему повышения выработки, а как «определённую социальную силу» и «показатель социально-производственного развития пролетариата».
Лаборатория №4. Тюрьма, 1914 г. Живший на нелегальном положении А. К. Гастев раскрыт и арестован. Вынужденная резкая остановка, как ни парадоксально, сыграла важную роль в его развитии как учёного. В «тиши» каземата он перебирал, анализировал и упорядочивал накопленные знания: «многократные тюремные сидки не только для меня сыграли роль идейного конденсатора. Вот почему тюремная камера, несмотря на свои решетки, так обаятельна, особенно… в прошлом». Алексей Капитонович изучал тюремную библиотеку, пересмотрев все издания о социальных нормах пролетариата и социально-производственных нормах (занятно, что в ней нашлись и такие труды). Именно здесь он сформулировал для себя обобщение в виде «руководящего начала» по подходу к заводу и к отдельной работе сугубо с точки зрения определенных норм. По собственному утверждению Алексея Капитоновича это обобщение имело позднее фундаментальное значение для создания «методики ЦИТ». А ещё именно в тюрьмах Гастев писал свои стихи.
Лаборатория №5. Нарымская ссылка, 1914 г. Здесь А. К. Гастев продолжил систематизацию, проведя «общефилософскую формулировку всего того эмпирического материала», который был накоплен им ранее и в России, и за рубежом.
По утверждению Алексея Капитоновича именно в ссылке в Нарыме ему впервые пришла идея «социально-инженерной машины», когда он читал реферат о новой индустрии, развитии и организации завода, о заводе-машине перед «сравнительно избранной по современному пониманию публикой». По-видимому, одним из участников аудитории в сибирской глуши, слушавшей этот реферат, был член Президиума Центрального комитета (ЦК) Союза металлистов Б. Г. Козелев (1891–1937). Позже, в своих воспоминаниях он указывал, что идеи НОТ полностью захватили Гастева именно в период ссылки в Нарым: «Мы невольно вспоминаем Алексея Капитоновича Гастева в далекой тайге, в Сибири — он ещё там мечтал о научной организации труда и производства».
Суть идеи Гастева состояла в достижении «невиданной производительности» труда за счёт «органического скрепления человеческого фактора с остальной трудовой обстановкой, которое целиком разрешило бы проблему человеческого труда и всех возникающих в связи с этим взаимоотношений в окружающей среде в самом широком смысле. Это идея социально-инженерной машины, где человек выступает уже не как индивидуум, как субъект работы, а как единица комплекса, как составная часть целого организма, трудовой организации».
Итак, идея объединения организационно-технического и социального (биологического) подхода в организации труда довольно точно датирована самим Гастевым, она «впервые вскрыта в подполье и потом вынашивалась с определенной силой».
Лаборатория №6. Центральный комитет профессионального союза металлистов, 1917 г. Тут, во время «интереснейшей работы на заводах во время революции», Гастев находит сторонников своих идей об организации труда — таких же лидеров профсоюзного движения, как и он сам — А. З. Гольцмана и В. Ф. Оборина. В профсоюзе идет работа по тарификации оплаты труда и соответствующей классификации видов и характера работы. Инициативная группа «вскрывает классы, подклассы, группы и серии пролетариата», то есть систематизирует и классифицирует трудящийся состав. Со слов Алексея Капитоновича это позволило «скрестить предыдущую эмпирику» с «обобщающими концепциями», сформированными в тюрьме и ссылке.
Лаборатория №7. Завод Всеобщей компании электричества в Харькове, 1918 г. На заводе Гастев вёл «поистине лабораторную» работу, осуществлял массовое наблюдение, сводил и анализировал его результаты, формировал практические предложения, которые «вводились на заводе, несмотря на их организационный радикализм». Этот период стал ключевым в персональной научной эволюции А. К. Гастева. Во-первых, в этот момент формировалась концепция «узкой базы», которая в дальнейшем стала фундаментом для всей научно-изыскательной, образовательной и консультативной деятельности Центрального института труда, а также его своеобразной визитной карточкой. Вот как это описал сам А. К. Гастев: в Харькове «углубился в молекулярное изучение отдельных операций и приёмов и впервые развил в печати теоретическую попытку построить классификацию в зависимости от самого метода приёма, который рабочий употребляет на заводе». Это и есть будущая «узкая база». Во-вторых, это момент институционализации — первая попытка создать структуры, в том числе самостоятельные, для научного изучения вопросов организации труда и взаимосвязанного с этим обучения. В то время по линии основной деятельности профсоюза металлистов на предприятиях создавались нормировочные бюро — организационно-методические структуры для тарификационной работы. Развивая эту концепцию Алексей Капитонович, опираясь на весь свой предыдущий опыт и идеи, выступил с проектом социально-инженерной школы в Харькове. Далее, и «узкая база», и социально-инженерная школа будут изучены детально.
Лаборатория №8. Завод «Наваль» в Николаеве, 1919 г. Здесь А. К. Гастев обобщал и сводил в единую систему результаты всех предыдущих «жизненных лабораторий». Параллельно он продолжал развивать методы классификации специальностей, вводя систему рабочих характеристик на заводе, а также — вероятно впервые — выступил как педагог, прочитав цикл лекций по системе технических и организационных норм в местном политехническом училище.
Лаборатория №9. Завод «Электросила №5» (позднее — тормозной завод), 1920 г. А. К. Гастев — технический руководитель предприятия; он анализировал работу автомата как «самой совершенной машины», развивал методику обучения работе как на станках, так и с ручным инструментом. Но главное, здесь произошёл чрезвычайно важный для контекста данного исследования момент. Именно здесь Алексей Капитонович определенно решил, что «подход в методике должен обязательно идти через систему определённых инструментально-мускульных операций», крайне важных и перспективных с точки зрения упражнения и тренировки современного рабочего состава. Итак, организационно-технические идеи А. К. Гастева впервые объединились с биологическими, психофизиологическими подходами. При заводе Алексей Капитонович создал технико-нормировочное бюро, но расширил его задачи — именно здесь были предприняты первые попытки проведения психофизиологических изысканий.
В этот же период А. К. Гастев создаёт ЦИТ, который он сам назвал своим «последним художественным произведением»! Последующие четыре «лаборатории» — это труд Алексея Капитоновича уже исключительно как учёного и организатора научной работы, лидера научной школы.
Лаборатория №10. Педагогическая лаборатория ЦИТ, 1921–1922 гг. Период становления Института, его структуры и базовых методик; период, «когда при ужасающей бедности небольшая кучка товарищей-сотрудников обладала одним интереснейшим качеством — молодым огнём искания».
Далее чёткая датировка исчезает, так как оставшиеся 3 лаборатории — это поле деятельности А. К. Гастева непосредственно в момент написания им цитируемой нами книги.
Лаборатория №11. Для Алексея Капитоновича — это сам могучий ЦИТ с развернувшимся рядом лабораторий, где ему, не имея прецедентов, удалось «создать фабрику исследования по образцу той индустрии, которая перед глазами автора промчалась в прошлое десятилетие», то есть организовать научную работу на принципах организации работы промышленного предприятия, ввести систему её стандартизации.
Лаборатория №12. Социально-инженерная лаборатория ЦИТ, где А. К. Гастев пытался «практически и теоретически сблизить проблему инженерной работы с проблемой социальной», решая, как технико-конструктивные, так и социально-биологические задачи.
Лаборатория №13. ЦИТ и промышленные предприятия. Теперь Алексей Капитонович утверждал, что «современная индустрия идет к системе лабораторной работы». Это значит, что методы постоянного научного анализа («лабораторного метода») должны быть внедрены в сами производственные и управленческие процессы заводов и фабрик.
Вернёмся на несколько шагов назад и попытаемся разобраться, как же случилось так, что из череды весьма условных жизненных «лабораторий» вдруг получился целый институт.
1.2. Профсоюзы, металлисты и научная организация труда
Из глубин трудового народа несем жажду
обновления проклятой работы и превращения её в подлинный мир производственного мятежа и силы.
«ЦИТ 5 лет. 1920 — 1925»
Этапное развитие А. К. Гастева как учёного сочеталось с профсоюзной работой, которая занимала совершенно особенную часть его жизни. В 1907–1910 гг. Алексей Капитонович избирается членом правления «Петербургского союза металлистов», а после Октябрьской революции, в 1917–1918 гг. становится членом исполнительной комиссии, казначеем, а затем входит в состав Центрального комитета Всероссийского союза рабочих-металлистов. В 1917–1918 гг. А. К. Гастев — один из редакторов журнала «Металлист», издаваемого профессиональным союзом.
Именно в профсоюзах зародилась русская, советская наука организации труда. Алексей Капитонович писал: «Ещё на заре открытого рабочего движения в нашей профессиональной среде обнаружился интерес к организации производства. Он, правда не выносился на обсуждение в собраниях, но литературное отражение его можно видеть хотя бы в статьях „Металлиста“ в 1908–1909 годах в Петрограде».
В первой четверти ХХ в. базировавшийся в Санкт-Петербурге союз рабочих металлообрабатывающих предприятий (или попросту металлистов) играл ведущую роль в российском профессиональном движении, причём не только в своей отрасли, но и в целом. Лидерство обеспечивали масштабность и инновационность деятельности, готовность и амбициозность оказывать всероссийское влияние, вовсе не замыкаясь в кругу только местных интересов. Удивительно, как в сугубо прикладных, житейских задачах профсоюзной работы родились фундаментальные аспекты научной организации труда.
В профсоюзах вопросы НОТ появились как «производное их борьбы за высокую заработную плату». Первым этапом в этом процессе стал сформировавшийся ещё до революции компромисс между собственниками-управленцами и работниками: был принят принцип гарантированного количества работы взамен на гарантию заработка. Принцип требовал наличия чётко сформированных и принятых всеми участниками процесса тарифов. Очевидно, что для разных групп рабочих (по специальностям, опыту, стажу и проч.) тарифы должны были различаться. Так возник вопрос квалификации, то есть разделения трудящихся по различным профессиональным группам, как впрочем и определение видов и характеристик таких групп. Параллельно, потребовалось нормирование труда, как с точки зрения его гарантированного объёма для разных рабочих групп, так и с позиции определения конкретных сумм гарантированной оплаты.
Таким образом, одним из ключевых направлений деятельности профессиональных союзов в тот момент времени было нормирование труда и создание тарифов. Тарифные вопросы неизбежно переходили в производственно-организационные; здесь нельзя не согласиться с самим Алексеем Капитоновичем, который и усматривал в этих процессах зарождение НОТ.
Разберём указанные выше процессы более детально.
В 1910-е г. на некоторых петербургских заводах активно внедрялись методы Ф. Тейлора (строгая операционная специализация, точный учёт работы и отдельных операций и т.д.); система управления отличалась гибкостью, открытостью к экспериментам и новациям; рабочие получали более высокую заработную плату. В таких условиях и собственники-управленцы, и работники стремились к улучшениям, не всегда, но довольно часто конструктивно действуя совместно, находя компромиссы. Ещё до войны «рабочая масса», постепенно сливающаяся в профессиональные союзы, выдвинула понятие «нормы выработки», критичное с позиции, прежде всего, справедливой оплаты труда. Начиная же с 1914 г. нормирование стало «бесспорной частью организации труда» в связи с тотальным введением массового производства.
После февральской революции 1917 г. («ещё при Керенском») профсоюзы подходят к необходимости решения организационных вопросов предприятий, формированию системы сдельной оплаты, норм выработки, профессионального подбора рабочих, к проблемам административно-технических функций, инструкторства и учёта работы. Определенным развитием идей нормирования стал коллективный тарифный договор, в том числе включавший не только гарантированную оплату гарантированного объёма работы, но и оплачиваемые отпуска; тарифы предусматривалось определять в специальной расценочной комиссии.
«В начале в тарифах работников интересовала исключительно только номенклатура профессий. С течением времени голая номенклатура оказалась недостаточной, её пришлось дополнять и развивать так называемой квалификацией. Квалификация профессий постепенно усложнялась, вводились все новые и новые формы для характеристики профессий, и в конце концов, оказалось необходимым создание особого типа работников, совершенно новых технических специалистов, которые могли бы давать как технические, так и социальные характеристики различных профессий». Для каждой профессии количество указанных характеристик колебалось от 10 до 30.
Сам А. К. Гастев говорил об этом так: «Когда начали строить тариф, начали заключать коллективные договоры, то сейчас же, автоматически за вопросом чисто экономическим (тариф, ставка, оплата) автоматически стали вопросы технической характеристики рабочих, характеристики работы, характеристики инструмента, а затем фатально встала необходимость биологической характеристики работника, напряжения, которое он испытывает во время работы, и, наконец, фатально встал вопрос об организации предприятия в целом». В контексте этого исследования, в этой фразе надо особо подчеркнуть пассаж про биологические характеристики рабочего, свидетельствующий о том, что биологическое направление научно-изыскательной работы ЦИТ было задумано и запланировано изначально, ещё на этапе формирования идеи института.
Ещё одно подтверждение содержится в обзоре первых трёх лет работы ЦИТ: «невозможно было классифицировать профессии только от случая к случаю, а необходимо разработать особый аналитический метод, дающий возможность установить точное неопровергаемое качество для профессиональной характеристики. Вот тогда-то и оказалось, что необходима организация особого учреждения, которое могло бы построить такой классификационный метода. Он тогда намечался по трем линиям: технической — всё, что касается инструмента и самой работы, биологической — всё, что касается состояний и действий работника, и наконец, социально-экономической — всё, что касается вопросов рынка труда и общей экономической политики».
Но вернёмся к профсоюзу металлистов, который фактически занимался «тейлоризацией производства». Примечательно, что впервые инициативы по НОТ появились не со стороны владельцев и организаторов производства, но по инициативе металлистов. Вместе с тем, в этот период со стороны иных рабочих организаций наблюдается или сдержанное, или даже резко отрицательное отношение к научной системе организации производства. «Только у металлистов с первого же момента тарифной работы, ещё в 1917 году, обнаружилась тенденция к реформированию производственной организации в предприятиях <…> серьёзная агитация за нормы выработки в 1917 году с особенной резкостью выдвинула проблему организации производства и научной постановки живого труда».
20–28 июня 1917 г. состоялась Третья Всероссийская конференция профсоюзов, а в её рамках — вторая Всероссийская конференция металлистов. Здесь был сформирован временный всероссийский Центральный комитет ЦК, в который вошли: А. Г. Шляпников (будущий первый народный комиссар труда), А. К. Гастев, И. Волков, В. Г. Чиркин, В. Рубцов, М. П. Владимиров, А. З. Гольцман, А. С. Лабутин, Н. Д. Филиппов. Бюро ЦК возглавил А. Г. Шляпников, его заместителями стали В. Чиркин и А. З. Гольцман, секретарём — А. К. Гастев, казначеем — М. П. Владимиров. Примечательно, что в состав Центрального комитета вошли четыре меньшевика, в том числе Александр Сергеевич Лабутин (будущий сотрудник ЦИТ), избранный как опытный и заслуженный профессиональный работник.
Деятельность ЦК развивалась по двум направлениям: регулирования и контроля производства; тарифно-нормировочной работе.
Лето 1917 г. Центральный комитет металлистов преимущественно посвятил переговорам с петербургским обществом фабрикантов о заключении общего тарифного соглашения. В конце концов, к вящей радости профсоюзов, оно было подписано. Для создания единого тарифа при союзе металлистов были созданы центральная расценочная комиссия и тарифный отдел — структуры, фактически ведавшие, в том числе, созданием методологий квалификации, нормирования и тарификации.
Разработка тарифов нашла колоссальный отклик в рабочей среде: «На местах всюду проделывается грандиозная организационная работа: из самой глубины рабочей массы являются в союзы представители цехов, в общей лестнице профессий находят свое место, вносят в тариф определенные особенности; самый затхлый, самый отсталый цех, самый отсталый рабочий в тарифной работе осознал свое технико-производственное и социальное значение. На отдельных предприятиях работа по выработке тарифа создавала целые социальные лаборатории». В качестве примера такой «социальной лаборатории» А. К. Гастев приводит рабочую группу при заводском комитета Путиловского завода.
Начался 1918 год. Грохот революции, голод, болезни, закипающая Гражданская война.
«Промышленность, брошенная старыми хозяевами и распылённая по тысячам отдельных изолированных рабочих коллективов, доживала свои последние дни». На заводах и фабриках «разруха самого аппарата управления <…>, разложение работающего коллектива, гниение заводского организма», падение — или правильнее сказать отсутствие — производительности труда. Хозяйственные задачи правительства сводились, преимущественно, к поддержке военной промышленности и использованию оставшихся скудных ресурсов для «войны и спасения от гибели городского населения».
В январе в Петрограде (в рамках Всероссийского съезда) собирается Учредительный съезд Всероссийского союза металлистов, где избирается уже постоянный ЦК, в состав которого входят только большевики. Вместе с тем, А. К. Гастев избран во временное Рабочее Бюро, которое также составляют председатель Н. И. Иванов, его заместители М. П. Владимиров и В. В. Косиор, казначей И. Морозов.
В повестке в основном организационные вопросы, но также есть и тарифная политика. Вместе с тем, рабочее движение оказывается в определённом кризисе. Профсоюзные организации, немаловажную роль сыгравшие в революционных событиях, вдруг остались не у дел: от борьбы надо было переходить к системному строительству, восстановлению хозяйства. В новых условиях профсоюзы часто не могли определить своё место в деятельности организаций и учреждений, ведавших народным хозяйством. Оказалось совершенно неясным, как провести границу между госучреждениями, организующими производство, и профсоюзами. Впрочем иногда сама мысль об этой границе была кощунством.
Свое место «в историческом процессе завоевания пролетариатом власти над народным хозяйством» профессиональные союзы нашли целенаправленно и систематически занявшись нормированием труда, в котором они увидели основное средство борьбы с разрухой в промышленной жизни.
На съезде А. К. Гастев делает доклад о демобилизации промышленности, акцентируя аспекты научной организации труда: «Начиная громадное переустройство нашей промышленности с её технической административной стороны, мы должны проводить систему Тейлора, в полном её объёме. В настоящее время мы можем с социалистической стороны справиться с вредом системы Тейлора; что же касается её чисто технической стороны, — тщательная регистрация работы и регламентация, — мы должны взять её бесповоротно <…> Мы сторонники научной, технической и административной организации предприятий». Гастев критикует методы Тейлора «за систему выжимания пота, за социальные его стороны, за то, что он делает отбор лучших рабочих сил, делает их модельными типами, образцовыми типами». Однако это не пустое политизированное критиканство. Алексей Капитонович предлагает очень конструктивный подход: в противовес «тейлоризму» устанавливать нормы производительности. Он называет американского учёного «гееной капитала <…> в которой были скрыты и ангел и демон» и призывает «беспощадно убить в Тейлоре всё отрицательное, но всё, что в нем есть положительного, мы должны взять безоговорочно».
Это первое свидетельство публичного представления А. К. Гастевым своего концептуального отношения к развитию методологий НОТ.
В развитие идей, прозвучавших на съезде, А. К. Гастев, А. З. Гольцман, В. Ф. Оборин, Н. Д. Филиппов формируют концептуальный документ, названный «Платформой рабочего индустриализма» и содержащий «производственные задачи рабочих союзов». В нём излагались взгляды этого методического и идейного «ядра» союза металлистов на пути индустриального развития и организации рабочего класса, звучала идея широкого участия рабочих масс в технической и административной организации предприятий, но главное — заявлялось создание научных структур для изучения вопросов организации труда, причём непосредственно на заводах и фабриках: «в организацию предприятий мы будем вносить производственную гласность, достигаемую созданием диаграммных контор, особых заводско-технических школ, бюро изысканий и показательных мастерских». Соответствующие структуры должны были заниматься вопросами тарифов, норм выработки, обеспечения взаимосвязанных одинаково высоких заработной платы и производительности труда.
Примечательно, что «квалифицированная производительность» и нормы идейно возводились в ранг некого эталона, отклонение от которых — причём как в меньшую, так и в большую (!) стороны — рассматривалось как «общественно-моральное разложение». Вводились понятия «производственного поведения пролетариата» (также подлежащего строгому нормированию наряду с рабочим отдыхом и трудовым темпом) и «социального нормирования» быта, рабочего интеллекта и «новой могущественной этики». Отмечалось, что основу социальному нормированию положила именно тарифная работа. Именно здесь впервые официально обозначены психофизиологические аспекты будущей науки организации труда.
Декларацию огласили на заседании Московской профессиональной конференции 16 марта 1918 г. от имени трёх её авторов — А. К. Гастева, А. З. Гольцмана и В. Ф. Оборина. В заключении выдвигалось требование профсоюзам вести работу по социальному нормированию, организации управления предприятиями и «регулирующим усилиям».
Подчеркнём, что по утверждению современников, впервые вопрос о нормировании труда в России поставили участники профессионального союза металлистов А. К. Гастев, А. З. Гольцман и В. Ф. Оборин.
Итак, направляемые Центральным комитетом, в том числе А. К. Гастевым, профсоюзы металлистов берутся за нормирование, «экспериментальный учёт производства» на заводах.
Вслед за этим в Совете Народных Комиссаров (Совнаркоме) проходит знаменитая встреча В. И. Ленина и представителей профсоюзов, на которой обсуждается проблематика НОТ и, фактически единственная на тот момент методология Ф. Тейлора.
Отношение к НОТ сложное, неоднозначное; «тейлоризм» безжалостно критикуют. Это наглядно подтверждают слова В. И. Ленина: «Учиться работать — эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объёме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора <…> соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учёта и контроля и т. д. Советская республика во что бы то ни стало должна перенять всё ценное из завоеваний науки и техники в этой области. Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление её». Владимир Ильич предлагает дать НОТ «определенные приспособления к той социально-экономической среде, которая образовалась в эпоху советской власти». Очень важно отметить, что «тейлоризм» — именно с физиологической точки зрения — критиковали не только большевики. Французский учёный Лян говорил: «Ценность физиологических данных, на которых основывает Тэйлор свои теории ничтожна <…> Трудность проблемы утомления заключается в том, что необходимо согласовать организацию заводов с законами человеческой физиологии. Тэйлор же обходит эту трудность, выдвигая ряд рассуждений — философию — и слишком этим злоупотребляя. Он даёт результаты, но не даёт достаточных для них доказательств; он формулирует закон, не обставляя его предварительными опытами, которые бы его подтверждали». По результатам встречи профсоюзы обосновывают необходимость взаимосвязи методов НОТ со способами расчёта оплаты труда и нормирования.
Из сказанного выше надо отметить принципиальное сходство отношения к развитию методологии НОТ и к «тейлоризму» у В. И. Ленина и А. К. Гастева.
Критично важно то, что в изучаемый период времени учение Тейлора, фактически, безальтернативно. Нет ни иных развитых методологий, ни дальнейшего, действительно научного прогресса. Несовершенство «тейлоризма», с одной стороны, и осознание необходимости научного подхода к организации труда, с другой, создают серьёзное противоречие. Как впоследствии сообщал заместитель директора и заведующий отделом изысканий Института К. Х. Кекчеев: «о самой возможности научно подходить к трудовым проблемам слыхали лишь немногие лица», была известна лишь система Тейлора, «да и то в расплывчатых, туманных очертаниях». На этом фоне и В. И. Ленин, и А. К. Гастев предложили путь научного развития.
И тут Центральный комитет металлистов «выдвинул мысль о создании института труда. Идея этого института явилась выражением того запроса об углублении нормировочной работы, которого требовала союзная действительность <…> Предложение члена ЦК металлистов т. М. П. Владимирова было зафиксировано в особой резолюции».
Таким образом, в профсоюзных организациях (прежде всего в союзе металлистов) в 1910-х гг. велась активная работа по созданию системы тарифов, которая, в свою очередь требовала разрешения вопросов нормирования и квалификации труда. Существовал явный и весьма выраженный социальный запрос на практическое решение указанных вопросов. Была развёрнута активная организационная работа (создание расценочных комиссий, впоследствии эволюционировавших до технико-нормировочных бюро). Однако камнем преткновения оказалось отсутствие обоснованных методологий в области тарификации, нормирования и квалификации. Подчеркнём, за исключением базовых наработок Ф. Тейлора и его ближайших учеников, никаких других методов и способов просто не существовало. Очевидной стала потребность научного подхода, необходимость накопления новых научных знаний, а на их основе разработки новых же методологий. По свидетельству А. К. Гастева вербализация этой потребности состоялась в выступлении заместителя председателя Рабочего бюро Центрального комитета Всероссийского союза металлистов Михаила Петровича Владимирова в 1918 г. Сугубо практические тарифные вопросы перешли в производственно-организационные, а затем — и в научные.
Вот как ёмко описал эти процессы другой активный участник ЦК союза металлистов Абрам Зиновьевич Гольцман: «Грубое распределение по тарифным разрядам <…> заменяется <…> научной системой изучения рабочих процессов и характера работы и производства. На основе этого изучения со временем вырастет новая стройная наука, которая должна будет, с одной стороны, обучать рабочих наиболее экономно для своего здоровья и наиболее производительно выполнять возложенные на них работы, а с другой стороны, указывать вступающим в жизнь молодым людям наиболее подходящие к их физическому и умственному укладу профессии <…> На ряду с чисто практической работой колоссальной важности, наш союз заложил первые камни той величественной теории, которую несёт с собой торжествующий пролетариат и имя которой — наука об организации труда». В контексте нашего исследования крайне важно подчеркнуть, что здесь говорится не просто об организационно-технической деятельности, но о «физическом и умственном укладе профессии» и производительном труде на фоне «экономного» отношения к здоровью.
Впрочем от вербализации до реализации прошло немало времени и довольно много событий.
1.3. Институционализация научной организации труда в профессиональных союзах
ЦИТ — дитя, родной сын профессиональных союзов.
«Организация труда», 1924
В 1918 г. Центральный комитет Союза металлистов впервые поставил вопрос о создании особого института труда, который занялся бы исследованием проблем организации. «И только гражданская война с её особым боевым пульсом не дала возможности развернуть это дело тогда».
Вместо института формальное структурирование научной организации труда началось при предприятиях. В апреле 1918 г. Всероссийский Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) принимает резолюцию об организации бюро нормирования на заводах. Теперь это уже не просто расценочная комиссия, а «чисто деловой производственный орган», в котором совместно работают инженеры, техники и рабочие. В мае эти структуры преобразуют в технико-нормировочное бюро. В них начинают появляться и накапливаться специалисты по квалификации и нормированию, впервые начинает регулярно применяться объективный метод исследования — хронометраж трудовых процессов и операций. Летом 1918 г. создаётся центральное бюро нормирования для дифференциации работы центральной тарифной комиссии.
В бюро «постоянно кипела большая теоретическая работа по изысканию новых более усовершенствованных способов оздоровления промышленности». Примечательно, что это были вполне научные структуры, так как им вменялись задачи:
— организации экспериментальных лабораторий для производства изысканий и опытов при работах массового производства;
— установления норм выработок по операциям;
— вычисление нормального выпуска завода и его частей;
— исчисление сдельных расценок;
— разграничение функций административно технического персонала.
И всё это для «практического проведения принципа нормировок труда в предприятии». Бюро (отделы) нормирования имели унифицированную структуру, включающую: подотделы тарификации, квалификации, нормирования выработки и юридический. На этом фоне явной проблемой было отсутствие единых методик научно-методической работы.
ЦК союза металлистов вело активную работу, взаимодействовало с заводами и предприятиями, обследовало их путем организации новых нормировочных бюро, издавало «Тарифный справочник».
Увы, попытки ввести всероссийский единый тариф оказались неуспешными, прежде всего в силу войны и общей социально-политической ситуации. Выход нашли в создании региональных единых тарифов и коллективных договоров на их основе. Первый таковой был подготовлен и заключен в Донбассе, второй, почти одновременно, на Урале.
На фоне увеличения масштабов деятельности ЦК союза металлистов всё более чётко обозначалась необходимость централизованного развития единой методологии создания практических инструкций по составлению норм и учету производства, по системам заработных плат, принципам премирования.
Промежуточным решением во второй половине 1918 г. стало создание на базе Центральной тарифной комиссии ЦК союза металлистов Всероссийского совета нормирования труда в металлообрабатывающей промышленности.
Направления деятельности совета по своей структуре во многом совпадали с нормировочными бюро и включали квалификацию профессий, нормированию работы, организацию производства, нормирование потребления, а также — «организацию кадра инструкторов». Кроме того, совет вёл и научную работу, производя «всевозможные опыты и экспертизы и статистические исследования». В 1919 г. бюро совета выпустило инструкцию по производственному обследованию. Вместе с тем, ресурсы и научные возможности совета были ограничены, так как физически он состоял всего из 5 человек. Вновь зазвучала «идея создания учреждения, которое научно разрабатывало бы все эти системы нормирования и заработных плат», а также реализовало бы «стык» между профсоюзами и хозяйственными регулирующими органами.
В 1919 г. отделы нормирования занимаются вопросами «проведения начал премирования», частичной натурализации заработной платы, повышения платы за увеличенную производительность и «разрешением ряда частных вопросов тарифа». Проводятся специальные тарифные конференции, разбирающие проблемы регулирования профессионального состава расценочных комиссий, деятельности в области нормирования, тарифа ответственных работников, прожиточного минимума, обучения по вопросам нормирования, новых форм организации труда, учёта и отчётности. Крайне важно отметить, что решением второй тарифной конференции вводится унифицированная структура отдела нормирования труда для местных отделений профсоюза, включающая бюро квалификации, бюро нормирования, бюро контрольно-инструкторское, коллегию отдела под председательством заведующего.
Тарифная работа эволюционирует «от расценочных комиссий, занятых только вопросам тарифной разбивки на разряды, через осложнение административно-технического аппарата предприятий новыми органами (нормировочное Бюро и пр.) к полной реорганизации всей системы труда на заводах, к научной постановке вопросов организации труда — таков путь в этой области, где вопросы организации труда так тесно переплетаются с вопросами организации производства».
А что же Гастев?
С началом Гражданской войны он переезжает на юг, работает в управлениях завода «Наваль» (Николаев), во «Всеобщей компании электричества» (Харьков). Именно в Харькове Гастев знакомится с Виктором Осиповичем Перцовым — будущим цитовцем, а в тот момент времени сотрудником Народного комиссариата просвещения Украины. Помимо профессиональных задач Гастева и Перцова объединили интересы в искусстве. В частности, они оба знакомы с поэтом Велимиром Хлебниковым, благодаря которому Перцов «начал осваиваться в футуризме» (что и предопределило в конечном итоге его творческую судьбу). А. К. Гастев в это время «уже расставался с поэзией и немного стыдился своей литературной славы», но интересоваться творчеством иных не перестал, он «очень высоко ставил Хлебникова, симпатизировал футуристам, футуристы были за Октябрьскую революцию».
Рабочий-организатор или поэт? В 1919 г. Алексей Капитонович делает попытку совместить две сущности. Он работает на заводе, в том числе, занимается вопросами квалификации рабочих-металлистов, а одновременно возглавляет отдел искусств и входит в коллегию народного комиссариата просвещения Украины в Харькове, затем в Киеве. Секретарем этого отдела и работает В. О. Перцов. Параллельно А. К. Гастев входит в редакционную коллегию Луганской газеты «Донецко-Криворожский коммунист».
История не знает сослагательного наклонения, но иногда так хочется, хотя бы на минуту, не следовать стереотипу. Если бы летом 1919 г. план Московского похода Вооружённых Сил Юга России под командованием А. И. Деникина по какой-либо причине сорвался, а войска белых остались бы в Таврии или вовсе были бы рассеяны, то Центральный институт труда появился бы не в Москве, а в русском городе Харькове. Ведь именно здесь, в 1919 г. А. К. Гастев сформулировал и предложил концепцию «школы социально-инженерных наук».
Под «социальной инженерией» Алексей Капитонович полагал науку «о таких конструкциях и расчётах предприятий, в которых наряду с чисто технологическими моментами выступают моменты расчета поведения производителя».
Школа должна была стать образовательным и научным учреждением при народном комиссариате просвещения, которое смогло бы «сблизить проблему технической и социальной организации предприятия». В газете «Известия Харьковского совета рабочих и крестьянских депутатов» (выпуск от 2 апреля 1919 г.) А. К. Гастев опубликовал статью «Школа социально-инженерных наук» с детальным описанием структуры и организационно-производственных процессов будущего учреждения.
В частности, им предлагалась следующая структура:
1. Общие образовательные курсы, состоящие из четырёх отделений: производственного, хозяйственного, государственного, «журнального».
2. Бюро изысканий социально-инженерных наук; в составе которого учёный комитет с «известной учёной автономией».
3. Образцовые «прикомандированные определённые заводы и государственные учреждения» для практических семинариев и показательных экскурсий.
С точки зрения организации работы во главу угла были поставлены стандартизация и строгое нормирование всех процессов и учебных материалов. По выражению Алексея Капитоновича «организационно-творящий бес должен чувствоваться в каждой бытовой мелочи школьной жизни».
Идея была не только поддержана южными бюро ВЦСПС и профсоюза металлистов, а также народным комиссариатом просвещения, но начала реализовываться на практике, в частности был организован подбор бригад работников. Однако удачное наступление войск А. И. Деникина уничтожило эти планы. Процитируем Гастева (курсив — его): «Эта школа в несколько другой структуре была реализована потом в виде Центрального института труда в Москве».
В 1920 г. А. К. Гастев возвращается в Москву и начинает работу на заводе «Электросила №5» на должности технического руководителя. Именно здесь он создаёт технико-нормировочное бюро, развернувшее организационно-техническое и психофизиологическое обследование предприятия. По воспоминаниям В. О. Перцова в этот момент Гастев «был еретиком. Он носился со своими планами новой организации работ, которые казались вдвойне фантастическими на фоне непосредственной вооруженной борьбы за территорию. Гастев исходи из того, что новый собственник производства — класс производителей — должен дать и новую постановку вопроса о формах и методах этого производства».
Страна лежит в руинах… Война, нарастающий голод, вши, тиф, безработица… «Разруха достигла своего максимума и приходилось думать не о научной организации труда, а о том, как оживить и восстановить транспорт, пустить в ход мёртвые заводы и наладить нормальную жизнь в стране». Политики, хозяйственники окутаны тысячами насущных практических вопросов, но стране в целом нужны системные решения. И таковым А. К. Гастев считает именно научный подход. Спустя два года «набросанные первые контуры Института Труда» надо претворить в жизнь.
Удивительно упорство Алексея Капитоновича. Он вовсе не идеалист и прекрасно понимает общий контекст: «Мы переживаем небывалую разруху, мы имеем в наличности трудовую апатию, грозящую отравить, задушить все инициативное, живое». Тем не менее, в тяжелейших условиях он не опускается до уровня мелочного решения сиюминутных вопросов, но смотрит на проблему стратегически: суетой и «затыканием дыр» промышленность и экономику страны не поднять, требуется системный научный подход. В качестве реальной силы, которая действительно может помочь, Гастев видит не заводы или наркоматы, а профессиональные союзы; тем более, он сам сотрудничает с ВПЦСП.
Тем временем за счёт опыта, методик и ресурсов профсоюза металлистов системная и весьма результативная тарифная работа велась в целом в ВЦСПС. Эффективность её подтверждается фактом того, что в ноябре 1920 г. тарифный отдел народного комиссариата труда (НКТ) был ликвидирован и полностью передан в ВЦСПС. За наркоматом сохранилась лишь формальная функция подписания основных тарифов. Таким образом, вся ответственность за нормирование заработной платы была возложена на ВЦСПС.
Много лет спустя А. К. Гастев скажет: «кажется странным, что такое учреждение, ЦИТ, существует при профсоюзах, а не при хозяйственных организациях. Но здесь нет ничего странного ни принципиально, ни исторически. Принципиально — профессиональные союзы и являются именно органами труда, организацией живых людей, выполняющих производственные функции. Но нам кажется, что ещё важнее этот вопрос исторически. Когда нужно было Октябрьскую революцию переводить с рельсов восстания на рельсы производства, то эту функцию осуществляли в полном объёме именно профсоюзы, вплоть до того, что они же, собственно говоря, комплектовали и хозяйственные органы, вплоть до того, что ВСНХ был организован фактически представителями профсоюзов».
Итак, в институционализации научной организации труда в профсоюзе металлистов (при непосредственном личном участии А. К. Гастева как члена и идеолога ЦК) выделяются три основные опорные точки:
1. Нормировочные бюро. ЦК союза металлистов создавал на заводах нормировочные отделы научного характера, но решающие практическую задачу; отделы имели чёткую единообразную структуру, работа всех подотделов была взаимосвязана; отделы проводили обследования и описания работающих предприятий.
2. Социально-инженерная школа. Концепция научно-образовательного учреждения, включающая развитую научную часть (с учёным советом) и курсы подготовки рабочей силы, руководителей и журналистов. Практическая реализация была прервана в самом начале, однако значение этапа состоит именно в идейном оформлении структуры.
3. Технико-нормировочное бюро при московском заводе «Электросила №5». Эволюционировавшее нормировочное бюро, ведущее не только организационно-технические, но и примитивные психофизиологические изыскания.
Таков исторический фундамент Центрального института труда.
1.4. Институт труда
ЦИТ в одно и то же время есть
научная конструкция и
высшая художественная легенда.
А. К. Гастев, 1924
В 1920 году Алексей Капитонович Гастев «выносил к этому моменту свой замысел института труда и сквозь огромное сопротивление времени прорвался к реальной работе по переделке рабочего человека».
Научное завоевание мира Гастев начал с 16 правил производственного поведения работника «Как надо работать». Этот свод указаний содержал довольно элементарные положения о планировании, организации, гигиене, режиме труда. Однако правила эти были системны, конкретны, а главное действительно могли влиять «на продуктивность всякого труда». В них можно увидеть основу многих современных руководств и инструкций по тайм-менеджменту и самоорганизации.
Впервые публично правила были представлены аудитории I Всероссийской конференции по НОТ, затем они были дополнены «целой программой организации самых простых рабочих операций, исследование которых нужно провести с огромным научным напряжением, чтобы получить в результате определенного рода практический вывод» и опубликованы в виде брошюры. Она несколько раз переиздавались в течение 1920-х гг., во второй половине ХХ века и в настоящее время. Именно 16 правил, отдельно от основного текста, публиковались в виде плакатов и иной наглядной агитации; один из таких плакатов находился даже в приёмной В. И. Ленина.
Свод правил принёс А. К. Гастеву огромную популярность, критично важную на раннем этапе становления Института. На фоне огромного количества пустопорожних рассуждений и абстрактных разговоров на тему научной организации труда, Алексей Капитонович смог предложить путь и простой, но — главное — конкретный, пригодный для практической реализации материал. Тем самым приковать внимание к своим более масштабным действиям и идеям.
Летом 1920 г. А. К. Гастев персонально обращается во Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВСЦПС) с предложением «поставить при Союзе дело изучения рациональной организации труда». Институт должен «подвергнуть детальному изучению самый элементарный мир трудовых движений и из него вывести конструктивный, технический, биологический и даже социальный подходы для нашей большой практической работы». И снова подчеркнём — «биологический» подход!
Идея соответствовала моменту: централизованная работа по тарификации в ВЦСПС достигла значительного масштаба и накала. Для её прогресса по-прежнему не хватало методологии, более того, таковой просто не существовало: «ни одна страна в мире не может дать хотя бы сырого эмпирического материала в этой области».
20 (или 24) августа 1920 г. Президиум ВЦСПС постановляет основать Институт Труда, «внося революционизирующие начала в область методов и организации подготовки рабочей силы, организации труда и производства».
15 сентября 1920 г. проходит первое совещание по организации «научного института труда». В нём участвуют сотрудники ВЦСПС Гастев, Гольцман, Сивков, Балинт, Гралуин, Бержвицкий, Ноа, Кеммер, Строев, Волков, Берзин, Зверев.
На повестке доклад А. К. Гастева. Он напоминает аудитории, что «вопрос о Научном Институте по рационализации Труда возник ещё до революции, в особенности вопрос этот стал теперь», подчёркивает — «главным инициаторами этой идеи могут и должны являться Производственные союзы». А дальше Алексей Капитонович ёмко рисует образ будущего учреждения: «Институт должен быть одновременно и учёным и учебным заведением. К работе в Институт должны быть привлечения в первую очередь инженеры занятые в производстве, врачи и педагоги, союзные деятели с Техническим стажем и также представители нового искусства».
Эта цитата безапелляционно доказывает, что все последующие действия по развитию Института — появление технических и биологических лабораторий, междисциплинарный ансамбль научных подразделений, формирование педагогической методики, работа с общественностью, издательская деятельность и даже театр — не были случайными или хаотичными. В разуме Гастева образ Института изначально был абсолютно цельным.
Предложение о создании Института принимается единогласно.
К 16 сентября уже были готовы «Предварительные положения об Институте Труда при ВЦСПС», далее также утвержденные Президиумом.
Ровно через месяц, 16 октября 1920 г. организационная комиссия Института Труда собирается во второй раз. Председательствует Гастев, участвуют Бабин, Гвоздев, Балинт и секретарь Аншельс. На этот раз обсуждаются конкретные вопросы: обеспечение кадрового состава, налаживание консультационной работы на предприятиях. С организационной точки зрения решают создать «эмбрион Института Труда» — техническое бюро и организационную комиссию. Это комиссию немедленно формируют (в составе А. К. Гастев, Б. В. Бабин, секретарь ВЦСПС Николай Николаевич Евреинов (1892–1939)) и поручают ей сформировать «продуманный» план работы, организовать эту самую работу, заняться привлечением кадров, создать совет консультантов Института, для чего связаться с иными учреждениями, а также организовать и расширить деятельность технического бюро.
По состоянию на 19 октября 1920 г. сформирована первая структура; Институт труда включает 4 отдела:
— квалификации;
— номенклатуры;
— нормирования;
— библиографии.
А также техническое бюро, согласно утверждению самого Гастева «явившееся фактическим Бюро Изысканий» — то есть первым подразделением Института с организационно-научными задачами.
Схожесть со структурой нормировочных бюро очевидна, также, как и функциональная преемственность с профильными структурами самого ВЦСПС. Наиболее явное отличие состоит лишь в появлении отдела библиографии с задачами систематизации знаний по НОТ из всех доступных источников.
Примечательно, что отделы интенсивно работают с первого же дня, а утверждение о преемственности подчёркивает результативность их работы (явно достигнутая «не с нуля»). К концу октября отдел номенклатуры уже разработал классификацию должностей рабочих и служащих производственных союзов по нескольким специальностям; отдел квалификации — подготовил квалификации для нескольких производств; библиографии — составил список статей и книг из иностранной прессы по НОТ. В целом Институт приступил к организации лабораторной работы на заводах.
В это время в Институте всего 5 постоянных сотрудников, 4 консультанта и 3 технических сотрудника. К работе дополнительно привлечены: Сивков (заведующий бюро квалификации ВЦСПС), Граулин, Ноа (инженер-механик), Вержбицкий, Волков и Берзин (оба из ЦК профсоюза металлистов).
Отсутствие кадров — основная проблема. Институт создан, годами вызревавшая идея реализовалась, а работать некому… В поисках новых сотрудников Гастев даже организует командировку в Харьков и на юг России, видимо стараясь найти тех, кто не так давно поддержал его идею социально-инженерной школы.
Впрочем не менее серьёзная проблема — это отсутствие материально-технического обеспечения, да что там… отсутствие еды (в качестве пайков в ВЦСПС выдают урюк и изюм). У немногочисленных сотрудников нет обуви, тёплой одежды, квартир. В откровенном письме в президиум ВЦСПС в октябре 1920 г. Гастев пишет: «У меня есть сотрудник, исполняющий ценнейшую работу, который ходит буквально без подмёток, не один из сотрудников не имеет комнаты»; из-за отсутствия хотя бы минимального обеспечения уходят ценнейшие сотрудники, едва привлечённые к работе в новом учреждении. Для самого Института нет ни отдельного помещения, ни средств передвижения. Алексей Капитонович довольно резко требует поддержки: «иначе Институт Труда будет держаться на двух-трёх сотрудниках и из серьёзно задуманного учреждения может получиться невинная теплица». Нет достоверных сведений, как именно разрешились вопросы обеспечения, но вот здание для Института была найдено, впрочем об этом позже…
В первые же недели работы определяются две линии деятельности Института: административно-организационная и научная. В самом начале ноября подводятся неутешительные результаты. По первой линии от ВЦСПС почти нет поддержки, а научная работа, в свою очередь, тормозится из-за отсутствия ресурсов. Хотя изыскания по систематизации номенклатуры, квалификации, производственному учёту и технической нормировке уже ведутся. Принимается решение обратиться в Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) за материально-техническим обеспечением, а «работу по существу», то есть научную — до появления сотрудников нужной квалификации — «сузить» и ограничить «одним накапливанием и систематизированием материалов, а также и консультациями».
На этом фоне планы велики — надо заняться сбором научных материалов, создать социальный музей, пригласить людей, учредить должность постоянного консультанта при Институте… А. К. Гастев выступает с инициативой по изданию своего журнала, чтобы освещать вопросы организации труда, систематизировать материал, накапливающийся в Институте, публиковать консультационные справки. Принимается решение обратиться в ВЦСПС за разрешением создать бюро печати и издавать ежемесячный «Бюллетень Института Труда» объёмом 3 печатных листа, тиражом 20000 экземпляров. В план работ будущей новой структуры сразу ставят оригинальные монографии и учёные исследования, переиздание иных сочинений, перевод и издательство иностранной литературы, издание справочников и руководств, технических словарей. Первый номер журнала хотят выпустить уже 1 января 1921 г., и это не взирая на общую неустроенность и откровенную разруху!
К 6 ноября 1920 г., когда очередной раз собирается организационная комиссия, основной кадровый состав Института труда ВЦСПС составляют:
— заведующий А. К. Гастев;
— его заместители — учёный секретарь Борис Вячеславович Бабин, Мечислав Викентьевич Пиолунковский (директор и организатор завода «Искромет»);
— единоличные сотрудники отделов: нормирования — Стефанов, квалификации — К. А. Гвоздев;
— управляющий делами В. Н. Пучков;
— А. А. Балинт, позже ведающий изданием научного журнала;
— сотрудники организационной комиссии — инженер А. Л. Феста и Леонов;
— секретарь Аншельс.
В организационную комиссию, помимо Феста и Леонова, входят Гастев, Бабин и Пиолунковский, а отдел номенклатуры включает целых двоих сотрудников — Бабина и Аншельс.
Позднее Гастев скажет, что первоначальный штатный состав Института включал троих сотрудников, в том числе — секретаря машинистку (Аншельс). Если предположить, что самого себя он не включил в этот состав, то двумя иными сотрудниками видимо были Б. В. Бабин и А. А. Балинт.
Ключевой факт: к началу ноября 1920 г. в Институте труда ВЦСПС назначен первый руководитель научной работой — учёный секретарь Борис Вячеславович Бабин (Бабин-Корень), одновременно возглавлявший и техническое бюро учреждения.
Борис Вячеславович Бабин родился 19 июня 1886 г. в г. Ардаган Карсской области Кавказа, в дворянской офицерской семье. Окончил Варшавскую гимназию. Дважды поступал и дважды исключался из высших учебных заведений за революционную деятельность. Будучи «вечным студентом», Б. В. Бабин подрабатывал репетиторством, в том числе — у братьев Евгения и Осипа Мандельштамов; с известным поэтом Борис Вячеславович сохранил дружеские отношения и в последующие годы.
В 1906 г. Б. В. Бабин вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров), с 1909 г. состоял в Петербургском её комитете. Борис Вячеславович — боевик и революционер, а также литератор; в начале 1910-х гг. он использует подпись «Корень» для брошюр по философии и теоретическим вопросам революции. Впоследствии этот псевдоним станет практически второй частью его фамилии.
В 1911 г. Б. В. Бабин впервые арестован и сослан в Архангельскую область; из ссылки сбежал, был вновь арестован и сослан в Туруханский край. В 1913 г., после амнистии начался относительно спокойный период его жизни. Борис Вячеславович женился, в следующем году у него родился сын Игорь. Теперь он ведёт исключительно мирную политическую борьбу, а в июле 1917 года избирается городским головой г. Александровска-Грушевского (ныне — г. Шахты, Ростовской области) и председателем исполнительного комитета Совета Черкасского округа Области Войска Донского, участвует в работе III съезда партии социалистов-революционеров. В Гражданской войне Б. В. Бабин принимает сторону Белого движения, собственно поэтому и оказываясь на Дону. Здесь он ведёт политическую и литературную работу, в 1918 г. избирается членом комитета Учредительного собрания в г. Екатеринодаре. Также Б. В. Бабин работает в редколлегии газеты «Родная земля».
На фоне развития событий Гражданской войны Б. В. Бабин с супругой Бертой Александровной всё больше жалеет о своём выборе, в том числе из-за явного экстремизма эсеров, их осознанного разрыва с большевиками и последующей ликвидации многопартийности. Наконец, накопившиеся разноглася вынуждают сделать непростой выбор — в сентябре 1920 г. семья переезжает в Москву.
Увы, в 1921 г., всего через несколько месяцев после начала столь активной работы в Институте труда, Б. В. Бабин-Корень арестован по причине принадлежности к эсерам и деятельности на Дону. В мае 1922 г. он освобождён и сразу же возвращается на работу к Гастеву. Однако его мытарства только начинались. Спустя всего несколько месяцев Борис Вячеславович арестован повторно, после голодовки и разбирательств освобождён, опять работает в Институте труда, входит в состав Учёного совета, занимает должность учёного секретаря. В 1923 г. снова арест; спустя 2 года Б. В. Бабин-Корень на несколько месяцев выходит на свободу, но очень быстро и очень надолго опять оказывается в заключении. Больше в Институт труда Борис Вячеславович не вернулся.
В период работы в Институте труда ВЦСПС Б. В. Бабин-Корень написал несколько трудов с анализом и систематизацией зарубежного опыта по подготовке и управлению рабочей силой, также самостоятельно перевёл и снабдил информативными предисловиями целый ряд фундаментальных монографий по НОТ европейских и американских авторов. Примечательно, что типография Института выпускала книги Бориса Вячеславовича и в период его пребывания в заключении.
В конце 1920 г., «опираясь на волю ВЦСПС», А. К. Гастев вёл фактическое развёртывание Института Труда ВЦСПС.
Впрочем пышное слово «развёртывание» мало соответствовало реальности. Первые месяцы работы Института — это, в основном, «поиски и наладки людского и материального аппарата». За исключением политической и юридической поддержки ВЦСПС мало чем мог помочь в практических вопросах: «вот тебе комната, стол, стул, чернила и кипа бумаги, начинай с этого, а там посмотрим, что из этого выйдет». Реальное развёртывание ЦИТ началось вовсе не с науки, а с решения мириада хозяйственных и кадровых проблем.
«Для Института не было не только дома, но не было даже и одной комнаты. Нужно было начинать сразу на белой доске и по-робинзоновски разрешать все вопросы, начиная с карандашей и кончая планом работы, рассчитанным на всю Россию». Впрочем помещение ВЦСПС всё-таки выделил. В то время Союз располагался во Втором доме Союзов, в здании бывшей гостиницы «Элит» по адресу Петровские линии, 2/18. В одной из комнат в два окна и поместился Институт.
«Эта комната, отведённая ему на первых порах, была немного больше обычной тюремной одиночки: 9—10 шагов в длину и шага 4 в ширину. В этой комнате, плохо отапливаемой, с плохой бумагой, плохими чернилами, плохим пером начал свою работу по постановке научной организации труда Алексей Капитонович Гастев. Много было труда, взаимного непонимания, тесно было будущему директору ЦИТ’а в этой маленькой комнатушке, но размах работы из этой комнатки повел живую мысль, живую энергию и изыскания».
Через некоторое время Институт разросся до целых двух комнат — под номерами 404 и 406, а к февралю следующего года «благодаря несчастному случаю» получил ещё одну. Гастев вспоминал: «Весь первый год ЦИТ существовал без помещения, если не называть помещением то убогое пристанище, которое волею судеб нам было отведено в гостинице „Элит“»; «хозяйственное оборудование Института было равно нулю. Каждый ключ стоил огромных путешествий, каждый стол требовал докладов и мытарств».
Конечно же, Алексей Капитонович занимался не только дверями и столами, без практических результатов в области НОТ не было бы признания и дальнейшего развития. Как уже говорилось выше, при заводе «Электросила №5» (в дальнейшем — Московский тормозной завод), где Гастев работает техническим руководителям, создается технико-нормировочное бюро как первая опытная станция Института. В её составе: заведующий, инженер-механик, врач (!) и технический делопроизводитель. В основные задачи этой структуры входят:
— сбор и систематизация материалов по технико-административной реорганизации предприятия, по технико-нормировочной и текущей, в том числе хозяйственно-экономической работе;
— проведение психофизиологических наблюдений и опытов;
— педагогическая практика;
— организация и проведение при участии как персонала завода, так и Института труда, систематических наблюдений и опытов технического, психо-технического и педагогического характера;
— организация производственного музея;
— сбор инициативных предложений по организации труда.
Итак, именно при заводе «Электросила №5» Институт труда начинает первые исследования в области психофизиологии и психотехники.
Всего за несколько месяцев проделана значительная работа. Составляется перечень учреждений и предприятий, а также отдельных учёных, занимающихся проблематикой НОТ; начинается соответствующая переписка. Проведена классификация профессий, выработаны примерные таблицы квалификаций в металлообрабатывающей промышленности, собраны и упорядочены все существующие материалы профсоюзов по нормированию труда. Систематизируется литература; постоянно ведется поиск сотрудников.
Стремительно нарастает критичность кадрового вопроса. В изучаемый период времени НОТ быстро становится признанной и даже, пожалуй, модной темой. Всё большее количество специалистов и обывателей «узнают» это словосочетание. Однако реально разбирающихся в проблематике людей — единицы; лишь отдельные личности были готовы строить работу целого учреждения с нуля.
А. К. Гастев сетовал: «Оказалось, что интересующихся вопросами организации труда в Москве было безумное множество. Среди них патентованные профессора, многолетней практики инженеры, учёные экономисты, врачи, психологи, политики, громадное количество рабочих. Но среди них оказалось до ужаса мало людей, которые согласились бы в этих тяжких условиях проделать черновую работу». Вот как здесь не вспомнить язвительного А. П. Чехова: «Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберёшься — чёртова пропасть… Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтёшь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень — в философа попадёшь; срывается на Кузнецком вывеска — мыслителя убивает».
Гастеву нужны «люди исключительные», он буквально как песчинки перебирает кандидатов. У инженеров и экономистов он видит большой разрыв между теорией и практикой. Многие обладают обширными, но общими знаниями, совершенно не распространявшимися на уровень конкретных процессов и задач промышленного предприятия.
Среди специалистов по психофизиологии Гастев видит две группы. Первая — «с традициями девяностых и девятисотых годов, выросшая под знаком чисто негативного подхода к вопросам труда», специализирующаяся, в лучшем случае, на охране труда. Вторая группа была «представлена новыми поколениями» и «давала позитивную постановку психофизиологической стороны научной организации труда». Первых Алексей Капитонович отмёл, как не подходящих к современной эпохе или требующих пересмотра научных подходов. А вот вторых счёл интересными тем, что они соединяли «в своей научной трактовке психофизиологические методы вместе с чисто техническими». Это в полной мере соответствовало идее Института.
Междисциплинарный характер деятельности сразу стал особым контекстом для подбора и удержания кадров: «самостоятельные оригинальные работники должны, кроме, того отличаться особыми качествами <…> Каждый работник должен был знать хорошо свой предмет, должен быть лабораторным экспериментатором, иметь особый прикладной ум и, наконец, не бояться настоящей реальной и заводской практики. Кроме того, от некоторых сотрудников нужно было ждать двойной компетенции: они должны были быть образованными механиками и в то же время биологами».
Уникально, что с первых же шагов в Институте наметился переход к трансдисциплинарной научной работе, то есть к условиям, когда границы между специальностями и дисциплинами стираются. Спустя несколько лет А. К. Гастев придёт к тому, что необходимые для Института кадры нужно растить самому, ведь столь нужный учреждению исследователь трудовых процессов должен быть «проникнут практическим реформизмом, постоянным волевым напряжением. От него требуются солидные познания в области биологии и техники, соединённые с заводским практическим стажем. Таких людей немного. Их нужно создавать».
Тем временем, новой проблемой становится лояльность новых сотрудников. Многие, даже подходящие по компетенциям и подходам, не готовы работать в фактически нищенских условиях первых месяцев существования Института труда ВЦСПС.
В конце концов А. К. Гастев всё же создаёт объединение компетентных и небезразличных людей, «спаянных преданностью и верой в дело». Коллектив сформирован — это «странная группа сотрудников, где рядом с мальчиком работал старик 60 лет, но все были объединены исканием метода», трудясь в «мрачнейшем и сыром подвале». Однако коллектив этот штучный («небольшое число ценных и в то же время преданных работников»), что в будущем проявится различными проблемами, в частности, потерями целых научных направлений из-за ухода всего лишь одного сотрудника.
К февралю 1921 г. для Института собран общий аппарат управления, создано Экономическое Бюро, которое оказывает консультации по выработке единого тарифа и ведет работу по определению «трудовых измерителей». Начато формирование Технического, Психо-физиологического и Педагогического бюро. В перспективе, для каждого из них планируется создать «лабораторные учреждения», то есть научные структурные подразделения.
Тем временем, проблематика научной организации труда привлекает все большее внимание. Восстановление и значительное развитие производства осознается как ключевая государственная стратегия. Вероятно, именно жёсткой зависимостью качества вооруженных сил от качества промышленности и можно объяснить тот факт, что инициатором созыва первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации труда и производства стал именно председатель Революционного военного совета и народный комиссар по военным делам РСФСР Л. Д. Троцкий (1879–1940).
Конференция, состоявшаяся в Москве 20–27 января 1921 года, собрала 313 участников — инженеров, техников, психофизиологов, социологов, врачей и иных специалистов. Состоялось 7 заседаний Пленума и 13 заседаний по 5 секциям. О медико-биологическом направлении в работе конференции мы поговорим далее, здесь же сфокусируемся на проблемах институционализации НОТ.
Примечательно, что А. К. Гастев участвует в конференции как представитель ВЦСПС, его должность руководителя Института труда в материалах мероприятия не фигурирует.
Внешние наблюдатели отмечали наличие среди докладчиков конференции две группы: «инженеры» и «врачи». Первые находились в узких рамках «тейлоризма», основанного исключительно на изучении машины, на выработке нормы для таковой и предъявления требований к рабочему, не считаясь с его индивидуальными способностями и с физическим строением его организма. Все доклады «инженеров» сопровождались цифровым и статистическим материалом, опытами, доказательствами. «Врачи» строили доклады «на отвлечённо-научных и философских данных, мало связанных с самой жизнью и работой человека». Несмотря на это, было замечено, что изучение «психологических и физиологических сторон человека гораздо сложнее и важнее, чем „тейлоризм“ в узких рамках своих идей».
Можно сказать, что на конференции обозначился запрос на систематическое и методологически выверенное изучение психофизиологии труда.
Однако с точки зрения институционализации НОТ важно отметить, что на конференции остро обсуждался вопрос лидерства. На пятой секции конференции «Мероприятия по объединению работ по научной организации и практического осуществления их» началось «перетягивание одеяла», несколько докладчиков высказались с проектами и призывами к созданию непременно централизованных учреждений по НОТ.
Лев Борисович Грановский (врач-гигиенист, выпускник Харьковского университета; с 1919 г. — сотрудник секции профгигиены и заведующий музеем труда НКТ, консультант по статистике Московского губернского отдела труда; с 1920 г. — сотрудник отдела труда Москвы и Московской губернии; 1878–1954) выносит проект Института экспериментального изучения живого труда. Системно и тщательно он анализирует историю и текущую мировую ситуацию в области НОТ, характеризует деятельность соответствующих научных учреждений. Констатирует кадровую проблему («нет подготовленных специалистов, нет опыта, нет необходимых инструментов и приборов, нет материальных возможностей работать») на фоне стремительного растущего интереса («В обеих столицах, в ряде провинциальных промышленных и университетских центров почти одновременно и независимо один от другого возникли многочисленные кружки, ищущие способов подойти к проблемам изучения живого труда»).
Барьером Л. Б. Грановский считает «отсутствие авторитетного руководящего центра, отсутствие компетентных людей и разработанных методов, полное отсутствие реальных возможностей поставить на местах задачу экспериментального изучения живого труда и рационализации трудовых процессов на должную научную почву». Отсюда следует очевидный вывод о необходимости «объединенными усилиями русских техников, врачей, статистиков и экономистов создать руководящий центр, который овладел бы всеми необходимыми данными: литературой, методологией, техникой и направил бы работу по правильному научному руслу». Такой новый институт должен «сочетать методы централизованного лабораторного изучения живой рабочей силы с изучением её в условиях повседневного приложения труда на фабриках, заводах и мастерских, взаимно обменивая и формулируя задания обоих методов. Выводы, получаемые индивидуально опытным путем лабораторного и клинического анализа и эксперимента должны быть дополняемы проверкою их в массовых наблюдениях и массовом масштабе».
Л. Б. Грановский предполагает, что институт должен представлять собой комплекс «учреждений, лабораторий и мастерских для медико-биологического, технологического и статистического изучения проблемы живого труда и законов его производительности». Докладчика трудно оспорить. Он эрудирован в предметной области, чётко обозначает и характеризует проблемы, предлогает конкретное решение, профессионально формулирует принципы и направления научной работы. Фактически Л. Б. Грановский — прямой и самый мощный конкурент А. К. Гастева и Института Труда ВЦСПС. Тем более, что вскоре его проект реализован на практике в виде Государственного института изучения живого труда при Народном Комиссариате Труда СССР (НКТ СССР).
На доводы и предложения Грановского прямым образом Гастев не возражает. Он излагает, как всегда несколько художественно, собственный методологический подход: «Мы должны принять весь исторический производственный опыт и посмотреть на рабочие массы с инженерной точки зрения, мы как бы должны об’инженерить и эмоциональную обработку масс. Мы должны испытать сопротивляемость масс, их психологическую каллорийность, словом инструментировать наш подход к массовой психологии. Чтобы иметь возможность быть смелыми в таких подходах, необходимо создать научно-боевой центр по организации труда <…> Надо на человека посмотреть как на обыкновенную машину, которую нужно во время амортизировать. Амортизировать с известным коэффициентом и не питать иллюзий, что мы можем дать полную амортизацию работника».
Л. Б. Грановский ставит на первое место научные исследования в лабораториях, которые затем должны проверяться и уточняться в условиях реальных предприятий. Предложение полностью обоснованное и разумное, но довольно абстрактное. На этом фоне козырь А.К, Гастева в конкретизации: «Организация этого центра представляется мне прикрепленной к определенному промышленному учреждению. Мы не должны быть в безвоздушном пространстве. В настоящее время наука везде мобилизована. Мы должны сейчас создать этот центр только при такой промышленной отрасли, которая выживает. В этот предварительный период, пока не обозначилось выживание, мы должны держаться при ВЦСПС, но как только обозначиться, что в России выживает определенная отрасль промышленности надо в ней мобилизовать эти изыскательные силы».
Очень важно отметить, что Алексей Капитонович вовсе не настаивает на исключительности отдельного взятого учреждения, прежде всего вверенного ему Института: «Было бы в высшей степени неосмотрительно сейчас этот опыт концентрировать в одном месте, нужно не допустить стихийности в этих научных изысканиях. Должны явиться особенные центральные учреждения, которые должны мобилизовать существующие учреждения, но дать им свободу. Надо им дать определенные задания и эти задания должны быть выполняемы этими учреждениями в определенный срок». Фактически Гастев предлагает создать сеть довольно автономных научных учреждений в области НОТ с централизованной методологической и информационной координацией.
Он также намечает направления, точнее линии научных исследований: технико-скоростная, хозяйственно-экономическая, психическая, педагогическая. Именно в последней линии появляется принципиальное отличие от концепции Грановского; Алексей Капитонович предлагает развивать научно обоснованную подготовку кадров, причем как непосредственных рабочих, так и практических специалистов по НОТ для работы на реальных предприятиях: «выработать породу людей, которые сразу бы, в незнакомой им профессии, при первом взгляде на вид и характер её основных трудовых приемов и процессов спроектировали бы схему всех других процессов, установили какие коррективы можно и нужно сделать», эти люди должны «иметь опыт, чтобы реформировать предприятие на ходу».
Далее следует очень мощный ход. Л. Б. Грановский рассуждает грамотно, но в теории, а у А. К. Гастева уже есть пусть и простые, но практические и полезные наработки, которыми он охотно делится. Вот как описывает этот эпизод К. Х. Кекчеев: «Как конкретно приняться за дело, конференция себе не представляла <…> После нескольких дней дискуссии на отвлеченные темы, участники конференции, изголодавшиеся по конкретным указаниям, жадно записывали простые правила „Как надо работать“». Практические материалы Алексея Капитоновича позволяют ему удерживать лидерство.
В докладе журналиста С. С. Раецкого (1883–1925) также звучит предложение о создании централизованного научного учреждения, условно именуемого «Государственный институт социальной механики и психо-физиологии труда». В прениях А. К. Гастев поддерживает и эту идею, но вновь предлагает опираться при создании и развитии подобных структур на профессиональные союзы и, прежде всего, ВЦСПС.
И в собственном докладе, и в прениях аргументация А. К. Гастева чрезвычайно сильна, прежде всего своей конкретностью, акцентированием подготовки кадров, практическим опытом. В итоге пятая секция конференции «Мероприятия по объединению работ по научной организации и практического осуществления их» подавляющим большинством голосов принимает резолюцию с всесторонней поддержкой Института Труда ВЦСПС, предлагая признать его «единственным полномочным консультантом по всем вопросам научной организации труда перед правительством». В такой конфигурации Институт «объединяет всю научную работу, производящуюся соответствующими аналогичными учреждениями, даёт им от лица организованного труда задания, оставляя в то же время полную свободу для изыскательной инициативы».
Однако пленум конференции резолюцию секции не утвердил, не посчитав себя полномочным принимать решение о создании центрального органа в области НОТ на уровне страны. В итоговые материалы конференции попало лишь «пожелание» создать при Совете труда и обороны (СТО) специальный государственный орган по разработке, руководству и проведению в жизнь всех мероприятий по научной постановке вопроса организации труда и производства. Детальное обсуждение такой структуры было решено провести на следующей конференции, для чего было дано соответствующее поручение организационной тройке.
В последовавшие за конференцией месяцы разгорается интенсивная переписка между Институтом Труда, Высшим советом народного хозяйства, НКТ СССР и Институтом экспериментального изучения живого труда. Перипетии этого процесса безусловно представляют определенный интерес, но к основной теме нашего исследования прямого отношения не имеют. Главное — итог борьбы.
К лету позиции А. К. Гастева явным образом укрепились, о чем свидетельствует и состоявшаяся 3 июня 1921 г. его личная встреча с В. И. Лениным.
Причиной её стал вопрос финансирования Института. Ранее Гастев запросил у правительственных структур колоссальную сумму на покупку за рубежом оборудования: «Эпоха военного коммунизма не приучила нас к тому, чтобы знать реальный вес золота и реальную величину государственного золотого запаса, и поэтому я тогда размахнулся на оборудование ЦИТ’а суммой в ½ миллиона золотых рублей». На удивление было получено некоторое первичное одобрение, затребованную сумму удалость «провести через Наркомвнешторг», но дальше начались задержки.
Придя 3 июня 1921 г. к 13.00 в приемную Совнаркома Алексей Капитонович увидел на стене памятку «Как надо работать», что не могло не придать ему уверенности.
А. К. Гастев и В. И. Ленин были знакомы ещё с бурных лет революционной борьбы, потому и беседа их началась немного по-свойски, но Владимир Ильич быстро перешел к теме НОТ: «он [Ленин] принес книги и сказал: „вот, всё некогда, а обязательно, обязательно“… и начал с воодушевлением рассказывать о том, как многое необходимо было бы сделать в области организации труда, как тщательно надо изучать капиталистический опыт. Владимир Ильич припомнил наши встречи, которые предшествовали настоящему разговору и указывал, что вопросы организации труда, это есть самое главное, которое нужно теперь проводить, а потом начал говорить, что дело надо обставить хорошо, что условия для работы надо создать приличные, что оборудовать нужно так, как это нужно для Советской трудовой республики».
Заговорили о деньгах. Запрошенная сумма в 500 тысяч руб. золотом действительно была совершенно нереалистична, и Ленин сразу заявил о невозможности её выделения. Тем не менее полностью в финансировании он не отказывает и даже пишет короткое письмо заместителю народного комиссара финансов СССР А. О. Альскому (1892–1936) с просьбой поискать возможности и сделать закупку в Германии: «Такое учреждение мы всё-же таки, и при трудном положении, поддержать должны».
Воспоминания о встрече с В. И. Лениным Алексей Капитонович опубликовал в 1924 г. в журнале «Организация труда», там же он поместил фотокопию письма. Это была последняя очная встреча Ленина и Гастева, лишь об их официальной переписке в последующие годы Алексей Капитонович сообщал: «потрясающе грузная возня мысли, которая происходила в мозгу Ленина, нами чувствовалась не только по общей информации — мы её реально ощущали в тех справочных запросах, которые ЦИТ часто получал из управления делами и секретариата Совнаркома».
Запрос снова пошел по инстанциям. Сумма была уменьшена до 100, потом до 20 тысяч (что было прокомментировано в резолюции Ленина: «дело хорошее, а все-таки сейчас больше не можем»). Однако в итоге было выделено только 8 тысяч рублей золотом, но даже эта сумма реализовывалась в виде конкретных закупок крайне медленно, процесс растянулся на весь 1922 год.
В ряде трудов, посвященных А. К. Гастеву и ЦИТ, можно найти иронию или даже критику В. И. Ленина и правительства большевиков из-за сильного сокращения указанной суммы. К сожалению, авторы этих публикаций совершенно не учитывали контекст.
По итогам 1920 г. объём промышленного производства страны составил всего 12% от уровня 1913 г., а выпуск чугуна и стали — жалкие 2,5%. Всего за год было произведено товаров только на 150 миллионов рублей золотом. Одновременно внешняя торговля упала с довоенного уровня в 2,9 миллиардов рублей до жалких 30 миллионов. Подступал голод — валовый сбор зерна упал на 37%. На этом фоне А. К. Гастев на создание Института запросил 500 тысяч рублей золотом. Это действительно было абсолютно фантастическая и нереальная сумма. Однако сам факт одобрения идеи, выделение бюджета и дальнейшей политической поддержки — на таком кошмарном фоне — говорит об истинном отношении В. И. Ленина к НОТ. Для правительства большевиков научный подход к организации труда был стратегическим путём развития.
Ещё раз подчеркнём: в пылу Гражданской войны, восстаний в Кронштадте и Западной Сибири, на фоне голода и эпидемий Гастев предлагает, а Ленин поддерживает и, по мере возможностей, финансирует создание научного, более того, фактически экспериментального института.
К вопросам оснащения Института вернемся чуть позже, так как тем временем, борьба за лидерство в НОТ разрешилась.
Постановлением Совета Труда и Обороны от 24 августа 1921 г. за подписью В. И. Ленина Институт Труда определен как центральное учреждение Республики в области НОТ: «Признавая инициативу ВЦСПС по созданию исследовательского и практического центра научной организации труда в производстве заслуживающей особого внимания верховных органов Республики СТО постановил: I. Признать создаваемый при ВЦСПС Институт Труда центральным учреждением в Республике разрабатывающим, демонстрирующим и пропагандирующим принципы научной организации труда и объединяющим деятельность всех других учреждений в Республике, изучающих труд».
Примечательно, что этим же постановлением представитель Института официально вводился в Государственный плановый комитет (Госплан с правом совещательного голоса); это давало возможность выступать с законодательными предложениями (точных сведений нет, но можно предположить, что таким представителем был С. Г. Струмилин).
За месяц до этого Президиум ВЦСПС утвердил положение об управлении Институтом труда (постановление от 18.07.1921 г.), согласно которому учреждение организуется на началах особого управления, подчиняется непосредственно Президиуму ВЦСПС и финансируется за счет Союза. Теперь разрабатывается положение об Институте, которое последовательно утверждается президиумом самого учреждения (15.09.1921 г.) и секретариатом ВЦСПС (08.10.1921, протокол №32). Теперь чётко определены цель, задачи, научные направления учреждения. Институт труда, как исследовательский и практический центр научной организации труда в производстве, имеет целью изучение, разработку и проведение в жизнь методов рационализации труда, средств труда и аппарата управления. Для научных экспериментов, демонстрации, пропаганды и проведения принципов рациональной организации труда учреждение наделено правами:
— осуществлять «хозяйственную деятельность и эксплуатацию опытно-показательных предприятий» (на основе «экономической выгодности и технической рациональности»), вступая в договорные отношения;
— создавать в учреждениях и предприятиях опытные станции;
— создавать учебно-показательные учреждения для подготовки организаторов, мастеров, инструкторов и педагогов по рациональной организации труда;
— устраивать научно-исследовательские и опытно-показательные учреждения, лаборатории, мастерские и проч.;
— организовывать постоянные и временные, передвижные выставки, музеи, библиотеки;
— выступать с законодательными инициативами, согласовывая соответствующие предложения в ВЦСПС и подавая их затем через Госплан на утверждение СТО.
Определены следующие направления научной работы:
— принципы машинной технологии;
— рабоче-трудовые приёмы;
— трудовые нормы;
— нормы трудового согласования;
— психо-физиология труда;
— гигиена и санитария труда.
Отметим, что в перечне научных направлений медико-биологическая составляющая очень значительна. Помимо непосредственных областей (психо-физиология, гигиена и санитария труда), биологические задачи в значительном объёме входят в направления «рабоче-трудовые приёмы» и «трудовые нормы».
Системный и, говоря современным языком, практико-ориентированный подход А. К. Гастева победил: Институт труда ВЦСПС преобразован в Центральный институт труда (ЦИТ) и наделен соответствующими полномочиями.
1.5. «Дворец на Петровке»
Здание Центрального Института Труда
постепенно становилось научным фойэ для всех работников по научной организации труда, были ли они академиками или же практиками.
А. К. Гастев, 1922 г.
История Центрального института труда неразрывно связана со зданием, которое он занимал на протяжении десятилетий.
Как сказано выше, свою работу Институт начал в двух скромных комнатах в помещении ВЦСПС. Здесь удалось провести определённую организационную и подготовительную работу, но разворачивать научные лаборатории и учебные подразделения физически было негде.
В феврале 1921 г. А. К. Гастев докладывает президиуму, а затем и пленуму ВЦСПС о проделанной работе. Оценка — положительная, 10 февраля президиум принимает решение обратиться в Совет труда и обороны с особым представлением и запросом поддержки для продолжения организационных работ и непосредственного выполнения трудовых задач Института.
Дальнейшее полномасштабное развёртывание теперь действительно во многом зависит от помещения, на поиски которого Институт тратит значительную часть своих активных сил. Но вот «дороги к приобретению помещения для Института» найдены. В двухстах метрах от здания ВЦСПС, на пересечении Петровки и Рахмановского переулка возвышается недостроенное здание государственной сберегательной кассы — монументальный огромный дом с полукруглым портиком в неоклассическом стиле, «врезающийся громоздкой глыбой в несколько идиллическую Петровку».
В 1902 г. его начал строить архитектор Илларион Александрович Иванов-Шиц (1865–1937), которым, среди прочего, созданы здания Морозовской и Солдатенковской (ныне Боткинской) больниц, родильных приютов на Стромынке и Миусской площади. Постройка затянулась, в 1912 г. работы были возобновлены, но вновь не доведены до завершения.
Весной 1921 г. Институт труда попрощался с комнатами в «Элит», «ставшими для ЦИТ’а историческими» и переехал в «огромный, недостроенный, пустой дворец на Петровке».
И вновь материально-технические заботы превалировали — новое здание «хаотическое, полуразрушенное» надо было устраивать в чрезвычайно тяжёлых экономических условиях.
Заведующий бюро учёта ЦИТ Лев Вольфович Гольцблят вспоминал: «Необходимо было закончить работу по уборке огромного количества мусора, внутренней штукатурки, остеклению крыш и окон. Но самой огромной энергии потребовала борьба с затоплением здания подводными ключами, связанными с речкой Неглинкой. В связи с этим нужно было устанавливать семь моторов, откачивающих воду, переделывать водопроводную и топливную установку и устанавливать непрерывные дежурства при этом постоянно грозившем наводнении. Затем предстояли и постепенно были выполнены работы по внутренней отделке, установке перегородок, постройки собственным мастерскими мебели, как канцелярской, так и лабораторной <…> здание сразу оторвало от нас огромные силы, и заставило приспосабливаться к нему как в смысле ремонта и ухода, так и разработки того плана, который осуществляется в настоящее время. Но в то же время здание сыграло для нас огромную стимулирующую роль, — оно нас как бы воодушевляло на тот размах, который обозначился в настоящее время и постоянно толкало к такой постановке дела, которая была бы действительно не на год, не на два, а на целые десятилетия. Кстати, чем успешнее шла работа по ремонту здания, тем яростнее становились попытки его отнять».
Действительно, очень быстро оказалось, что здание не было юридически закреплено за ВЦСПС. Тем не менее, внутренним решением ВЦСПС фиксирует размещение Института Труда в здании на Петровке (постановление Президиума от 14 июня 1921 г.). Претендентов на здание было много, в частности народный комиссариат труда хотел в здании на Петровке организовать Биржу Труда. Последовала череда дрязг и выяснений, которые Гастев тактично именовал «очередной одиссеей». Лишь в конце года Совнарком принял окончательное решение закрепить здание по адресу ул. Петровка, 24 за Институтом труда ВЦСПС (помимо основного здания, к Институту также отошли надворные флигели и службы, общая площадь помещений составила 4581 м2). Соответствующее решение было официально утверждено декретом Совнаркома от 26 декабря 1921.
Не взирая на юридические неурядицы, коллектив Института сразу взялся за наведение порядка и благоустройство здания, тем самым физически фиксируя своё право на новый дом. Сам А. К. Гастев так описывал первые месяцы в новом здании на Петровке, 24: «Громадный дом <…> не только не был окочен постройкой, но он не имел громадного количества стекол, входных дверей и элементарного удобства и уюта. Мы расположились в этом доме бивуаком. В течение нескольких дней мы сгруппировали остатки каких-то шкафов, сделали из них подобие стен и в этих импровизированных комнатах начали развёртывание ЦИТ’а. При этих ужасных материальных условиях, в которые мы были поставлены, каждое вставленное стекло, каждая сделанная дверь, стена или полка были событием. Надо сказать, что претендентов на это здание было довольно много, но большинство их отступалось, когда при входе внутрь они видели, что это только шикарный сарай. Капитал энергии, который мы вложили в это здание, уже он один стоит того, чтобы наше право на существование было неоспоримо».
Летом и осенью 1921 г. силами сотрудников Института труда были сделаны входные двери, оштукатурена часть внутренних стен, застеклена часть окон и крыши (чтобы сделать здание пригодным на зиму), запущено центральное отопление («благодаря самоотверженной работе товарищей, проведших дни и ночи в кочегарке и подвалах Института»), проведена инвентаризация («введено зоркое наблюдение за правильной эксплуатацией каждого куска дерева, каждой стружки металла»).
Итак, здание закреплено за Институтом Труда ВЦСПС, обеспечена его базовая пригодность, время подумать о развитии.
«Двухэтажный новый корпус предполагается приспособить для музея-выставки, кино-зала, публичных лабораторий и библиотеки; в надворном флигеле должны развернуться закрытые исследовательские лаборатории и управляющий аппарат Института». В здании обстраивают помещения для научных лабораторий и учебных курсов. Ведётся большая внутренняя перестройка — «превращение одноэтажного здания в двухэтажное путем установки внутреннего перекрытия, а также переустройств подвального помещения, которые мы превращаем в большие учебные мастерские <…> На очереди огромная работа по оборудованию подвального помещения под курсы для инструкторов производства и приспособление надворных зданий под рабочие цеха». В результате «ЦИТ будет представлять из себя оригинальный монумент, низ которого будет наполнен мастерскими и заводами: первый этаж — музеем и демонстрационными залами, а верх — библиотеками и лабораториями».
Как было сказано выше, Институту было отведено не только собственно здание государственной сберегательной кассы, но и постройки в его дворе, часть которых оборудовалась под коммунальное жилье.
В мемуарах дочери одного из ведущих сотрудников Института А. П. Бружеса сохранились интересные воспоминания о нелёгкой бытовой жизни советских учёных 1920-х годов: «На углу Петровки и Рахмановского стоит и сейчас большой дом с серыми колоннами. Тогда это был ЦИТ — Центральный институт труда <…> Во дворе был дом, принадлежавший институту, и мы занимали три комнаты в коммунальной квартире в бельэтаже. Эта роскошь — три комнаты, две смежных и маленькая за кухней, бывшая комната для прислуги <…> Кроме нас в квартире было ещё две семьи, и мама нахлебалась коммуналки во всей полноте <…> На Петровке, где мы жили с мамой и папой, была ванная комната с дровяной колонкой, и между семьями распределялись дни недели для мытья и стирки. Нашим днем был четверг».
В первые годы существования Института, в условиях «робинзонады» по обустройству здания оснащение научных лабораторий стало особым процессом. Его отличительной чертой был весьма основательный и, не смотря на тяжелейшее материально-техническое положение, инновационный подход.
Оснащение для научных лабораторий обеспечивали тремя путями: покупали за границей, самостоятельно конструировали, получали от третьих лиц.
Закупка оборудования за рубежом велась на выделенные при поддержке В. И. Ленина средства. А. К. Гастев даже лично ездил в Германию для решения вопросов поставок и взаимодействия с представительством народного комиссариата внешней торговли в Берлине. Результатом этого стало установление «заграницей своего постоянного эксперта» по приёмке аппаратуры и специальной литературы до их поставок в Россию, тем самым «удалось избежать слепого приобретения различной технической макулатуры, столь распространенной в Европе».
В оснащение лабораторий, согласно заявкам на закупку, входили: хронограф, хроноскоп, кимографы, «измеритель неточностей», пирометр Вильнера, аппарат Бринелля, вольтметры, амперметры, плитки Иогансона (концевые меры длины), мостик Кольрауша, рейсмусовый стол, планиметры, капсулы для регистрации сокращений мышц, цистоскоп, стробоскоп, аппарат для анализа газообмена, газовые часы, камертон, отметчики, струнный гальванометр, эстезиометр, электромагнитные отметчики, телеграфные ключи, эргограф, весы, аппарат для измерения силы удара и нажима.
Это весьма впечатляющий список, включающий оборудование, как для технических, так и для физиологических исследований. Более того, в нём значатся довольно общеупотребительные, к тому времени, физиологическими лабораториями приборы (кимографы), относительно редкие (комплект оборудования для анализа газообмена), наконец — вовсе уникальные, число которых и в России, и в мире исчислялось единицами (струнный гальванометр для регистрации электрокардиограммы (ЭКГ)).
Согласованные В. И. Лениным выделение финансовых средств и закупка оборудования тянулись месяцами. Гастев не мог безучастно ждать: «Мы решили не только сделать здание Институте жилым помещением, но не дожидаясь никаких заграничных оборудований строить на голом месте наши лаборатории и мастерские»; «в ожидании заграничных благ перешли на так называемую робинзонаду. Мы начали собирать все то, что было из какого-нибудь случайного оборудования, и создавали аппаратуру на месте».
Были развёрнуты собственные мастерские для оснащения лабораторий. В условиях тотального дефицита «огромнейшее количество аппаратов и приспособлений» конструировалось из дерева, «только совершенно незаменимые части и точно измерительные приборы» — из металла. При этом за основу брались рисунки и чертежи из специальных журналов. К началу 1922 г. усилиями сотрудников Института «из того материала, который мы могли находить путем неимоверных усилий в Москве, а не редко и в других городах» монтировались учебные и лабораторные помещения. Были оснащены три лаборатории (трудовых движений, физио-техническая и педагогическая) и две мастерские (ремонтно-механическая и деревообделочная) — «в Институте уже загудели станки».
Параллельно продолжаются работы по благоустройству здания. Заменено разбитое градом остекление купола и крыши, залит асфальтом тротуар вокруг здания, отремонтированы гараж и флигель, система отопления. В нижнем этаже размещены типография и книжный склад. А в нижнем зале установлены 10 перегородок под стеклом и 2 высоких до потолка без стекла. Оборудованы скамейками и столами две учебные аудитории на 350 человек. В помещения станочного и монтажного отделений учебных курсов проведен ток высокого напряжения. Отремонтированы помещения библиотеки, типографии, канцелярии, отделов.
Лишь в конце 1922 г. и лишь частями из Германии стало поступать оборудование для психотехнической и кино-фото лаборатории.
К. Х. Кекчеев так вспоминал об этом периоде: «Развитие Института началось с создания исследовательского аппарата <…> Приборы для исследований приходилось делать в наспех оборудованных, мастерских и только получение в 22-м году из-за границы заказанных там приборов несколько вывело Институт из той обстановки робинзонады, в которой он находился в первые два года своего существования».
По мере возможностей, помогали с оснащением и материалами заводы «Искромет» и «Электросила №5». Также, некоторое оборудование (приборы и станки) были переданы из «бывшего» Института экспериментального изучения живого труда народного комиссариата труда.
К концу 1921 г. в Институте действовали 4 лаборатории. На этом фоне оборудование из-за рубежа частями стало поступать в конце 1922 г. В 1923 г. функционировали уже 7 лабораторий со специальным оборудованием.
В подкупольном помещении — так называемой ротонде — развёрнута библиотека .
В 1924 г. весь Институт «превращается в огромную мастерскую, наполненную верстаками, тисками, станками и лабораториями. Курсы превращаются в завод, и в самом ЦИТ’е возникает новое предприятие с совершенно новым уклоном, где главное внимание будет обращено на творческую активизацию самого работника».
Забегая вперёд, расскажем немного о дальнейшей судьбе «дворца на Петровке».
В 1927 г. выстроен дополнительный (на тот момент третий) этаж. Он располагался «над помещением Аналитико-Методического Бюро и над той стороной здания, которая расположена ко двору». Проект предусматривал «устройство выхода из этого этажа на вышку (плоская крыша)». Новый этаж венчала «плоская крыша с деревянным настилом над ней, которая будет использована в качестве площадки для гимнастики. На той части площадки, которая изготовлена уже, ведут уже теперь гимнастические упражнения обучаемых строительных курсов».
В 1928–1929 гг. в главном зале на уровне третьего этажа (над слесарно-нажимным и токарным цехами) сооружена конструкция в виде моста — эстакада. На ней располагался сложный комплекс регистрирующей аппараты для научного синтетического эксперимента (см. главу 12).
В 1929–1931 гг. велась переписка ЦИТ, Совета труда и обороны, народных комиссариатов труда, финансов, Центрального управления социального страхования (Цустраха) о постройке нового здания Института и жилого корпуса при нём.
На фоне всё более масштабного развёртывания работ «по изучению организационно-производственного поведения и биологического состояния работника» А. К. Гастев сетовал, что 45 «методических бригад», трудовая клиника в составе амбулатории, био-инженерной, биохимической, газообменной, динамометрической лабораторий, лабораторий функциональной диагностики, производственного контроля, отборочного бюро и бюро клинического анализа работают в жуткой тесноте. «Наличное здание <…> имеет тот недостаток, что совершенно не имеет при себе свободного участка для проведения разного рода экспериментальных работ». В связи с этим был предпринят «ряд мер по использованию площадок, лестниц, проходов и воздушных пространств путём постройки эстакад». Также введено «уплотнение работы»: научные лаборатории работали в две, а курсы велись в четыре смены. В здании на Петровке, 24 обнаружилось отсутствие возможности «обеспечить массе курсантов нормальный культурный отдых и развернуть в должном масштабе культурную и общественно-политическую работу среди них и среди сотрудников».
Коллегия народного комиссариата труда 31 декабря 1929 г. (протокол №42) признала необходимой постройку нового здания в связи с тем, что «десять лет непрерывной и тяжёлой работы во временном помещении, в котором даже лестницы заняты для работ, — эти десять лет достаточны для того, чтобы ЦИТ имел специальное здание, отвечающее всем тем задачам, которые осуществляет». Бюджет строительства составлял порядка 3 миллионов рублей, из которых 150 тысяч бралось профинансировать акционерное общество «Установка». Однако далее между наркоматами развернулась письменная баталия. Обсуждался бюджет, варианты как постройки нового здания в районе Канатчиковой дачи, так и разнообразной реконструкции старого. Несколько месяцев наркомат финансов занимал крайне жёсткую отрицательную позицию по всем вопросам. В конце концов наркомат труда принял решение достроить полуэтаж. Едва начались работы, как финансисты вдруг предложили свой «проект расширения здания ЦИТ на Петровке». Наркомат труда сердито ответил: «вот теперь то уже нельзя расширять здание, если не затемнять верхний свет через крышу (единственный для зала ЦИТ-а). Других возможностей расширения нет, так как у ЦИТ-а нет свободной усадебной земли». На этом фоне Совет труда и обороны дал разрешение на постройку «дома Ц. И. Т.» в 1930–1931 году (постановление СТО от 03.07.1930 №66). Однако здание так и не было построено. Зато у «дворца на Петровке» появился ещё один этаж.
Интересно, что в 1936 г. Академия наук СССР вдруг предприняла попытку получить здание на Петровке, 24 для устройства в нём «полиграфической базы». В своём обращении в народный комиссариат тяжёлой промышленности Академия указывала на ликвидацию ЦИТ и соответствующее освобождение здания (может быть именно сюда уходят корни слухов о якобы «уничтожении» и «ликвидации» Института в конце 1930-х гг., которые из обывательских пересуд дошли до научной литературы). Наркомат решительно отказал, уведомив, что ЦИТ непоколебимо работает.
С 1940 г. до конца 1990-х гг. в здании располагалось ведущее научно-исследовательское учреждение страны в области самолётостроения, потомок и правопреемник ЦИТ — Национальный институт авиационных технологий (НИАТ). За полстолетия в здании были развёрнуты многочисленные лаборатории, конструкторские бюро и рабочие помещения, мастерские. Славная история этого учреждения выходит за рамки нашего исследования.
На первом этаже здания в течение нескольких десятилетий располагался памятник сотрудникам НИАТ, снайперам-инструкторам, Героям Советского союза Наталье Венедиктовне Ковшовой (1920–1942) и Марии Семёновне Поливановой (1922–1942), геройски погибшим 14 августа 1942 г. в Новгородской области. По личным воспоминаниям сотрудника НИАТ Николая Ивановича Серёгина памятник был выполнен в виде барельефа и композиционно напоминал изображение на почтовой марке СССР, выпущенной в честь подвига в 1944 г.
В 1999 г. здание было захвачено коммерческим банком. В ходе грандиозной перестройки и пафосного ремонта были уничтожены: памятник Героям Советского союза Н. В. Ковшовой и М. С. Поливановой, библиотека в подкупольном помещении (ротонде), а также — хранящийся с 1920-х годов бесценный архив ЦИТ…
В 2020 г. Правительство города Москвы выкупило здание по адресу улица Петровка, 24 у коммерческих структур и передало его Научно-практическому клиническому центру диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы. Во «дворце на Петровке» снова воцарилась наука о жизни.
Иллюстрации к главе 1
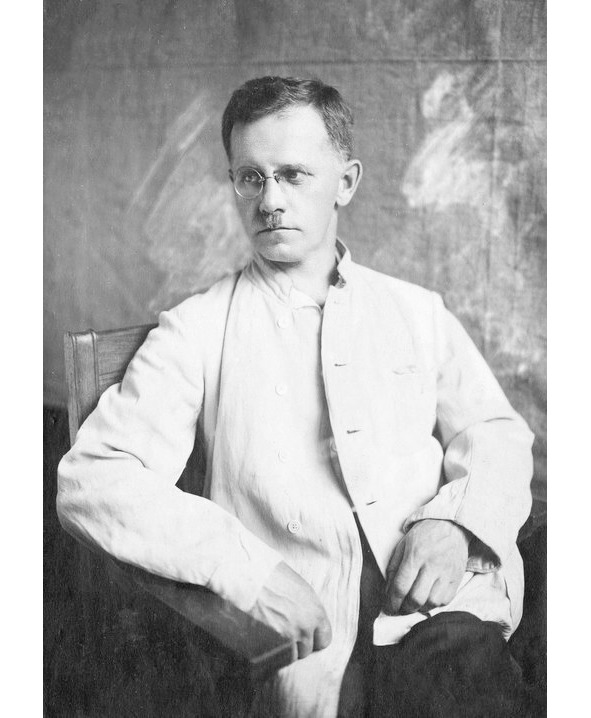
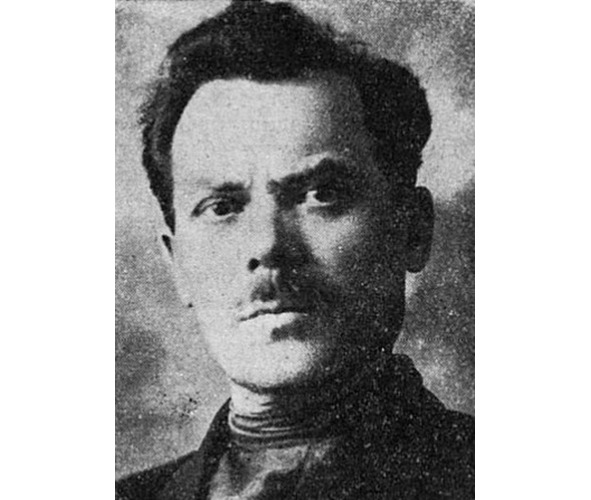
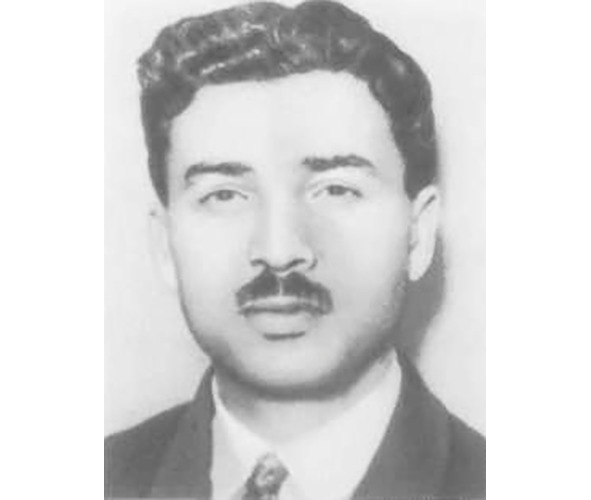
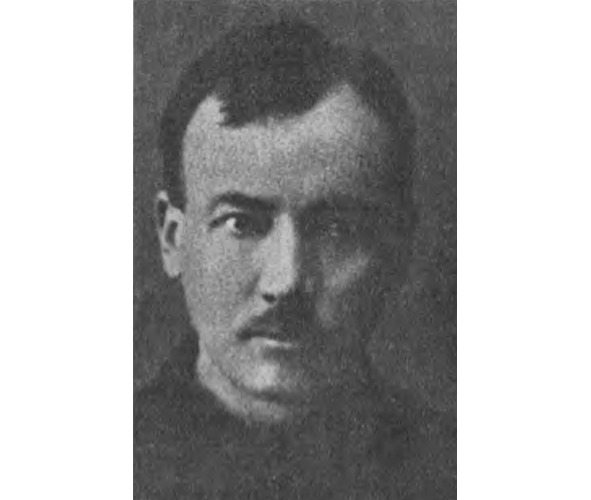
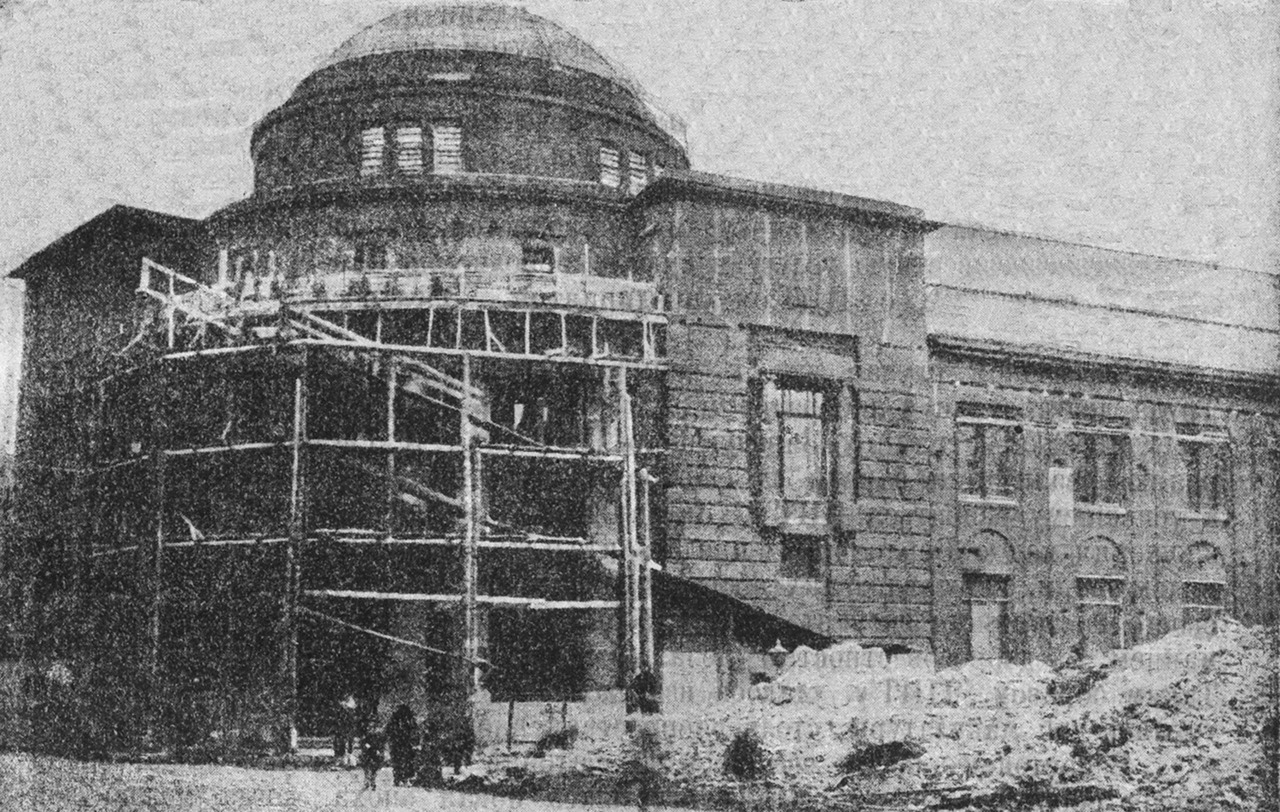
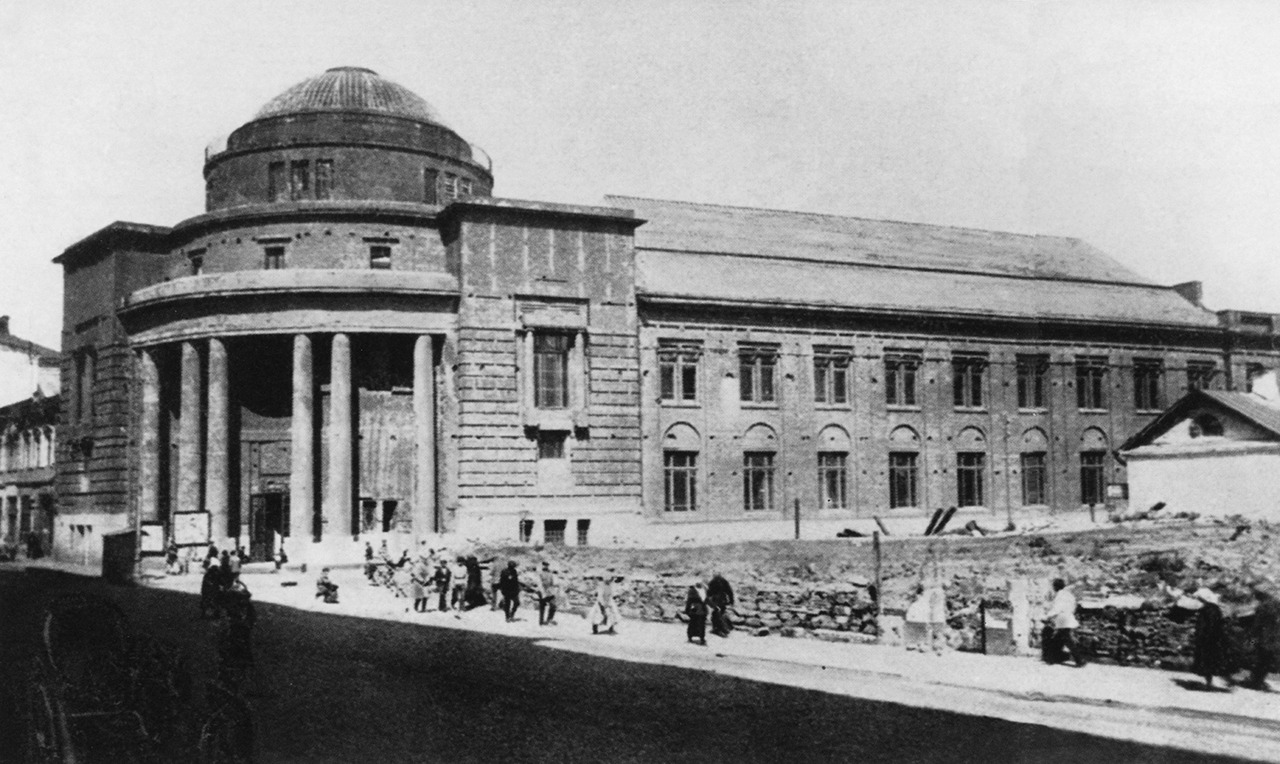

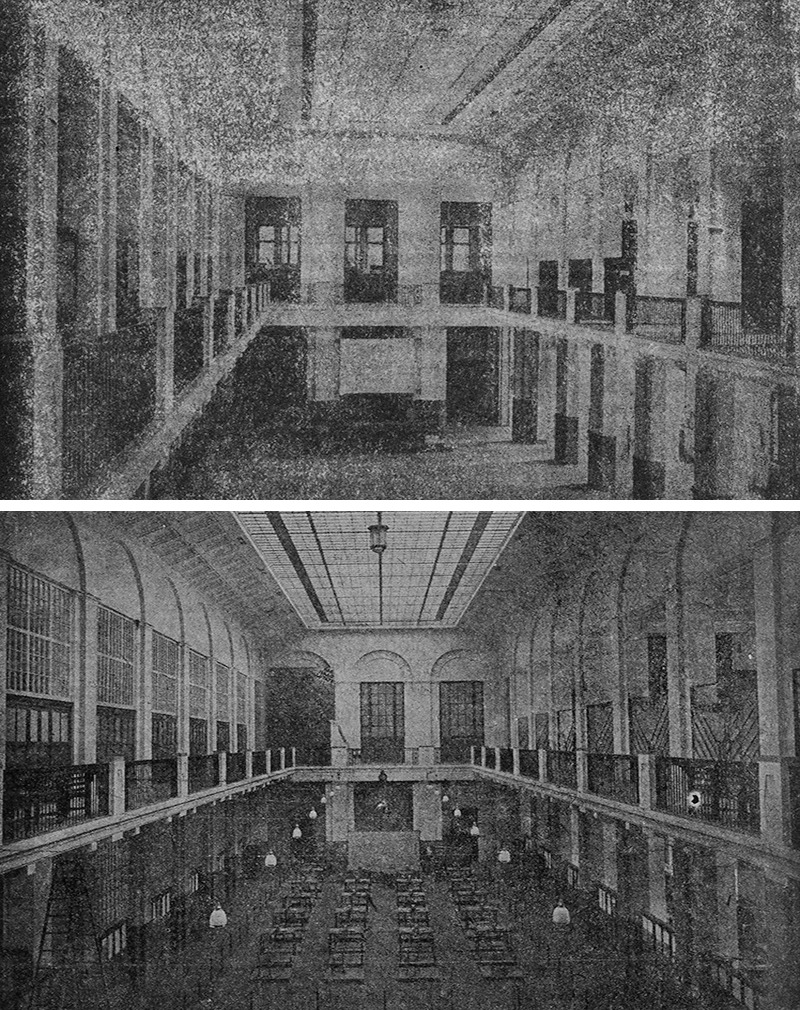
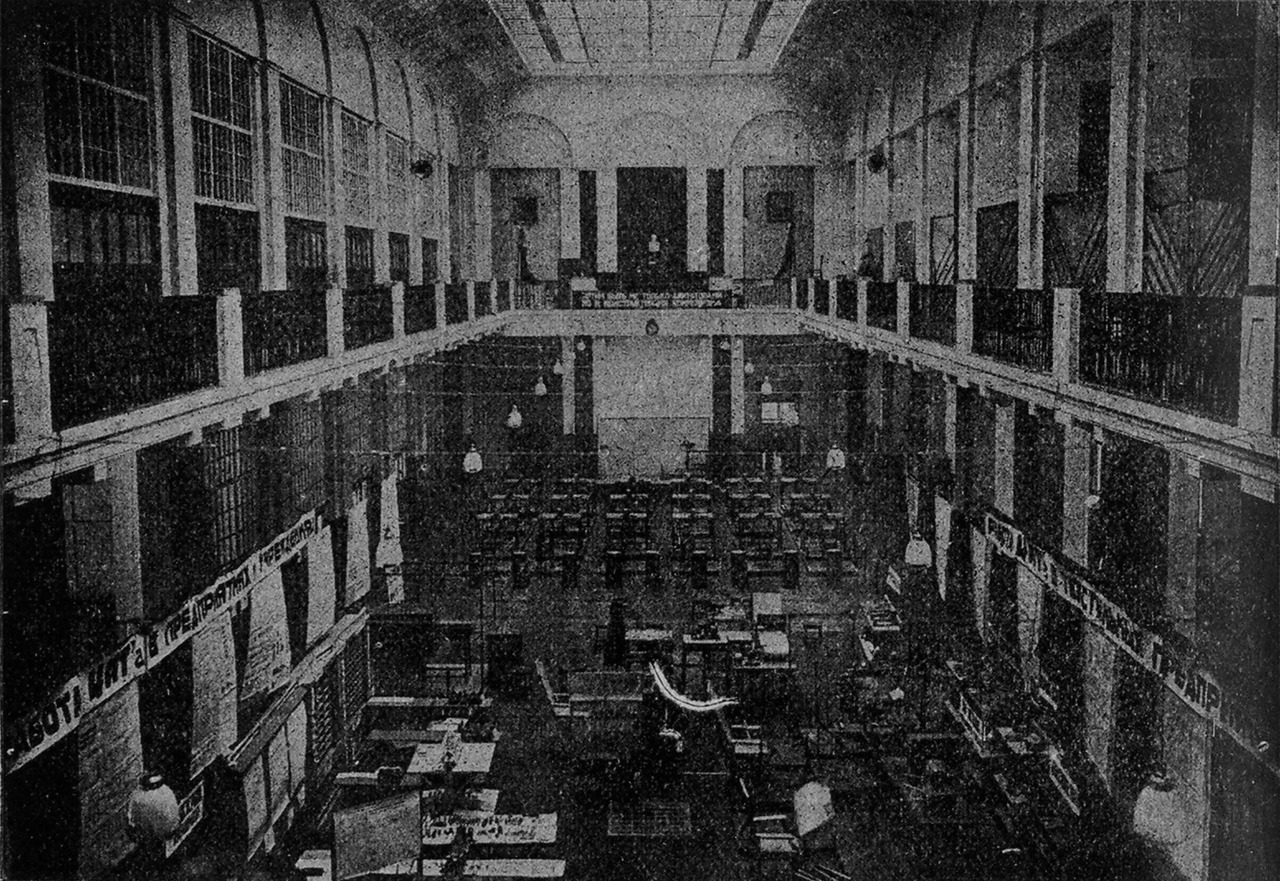
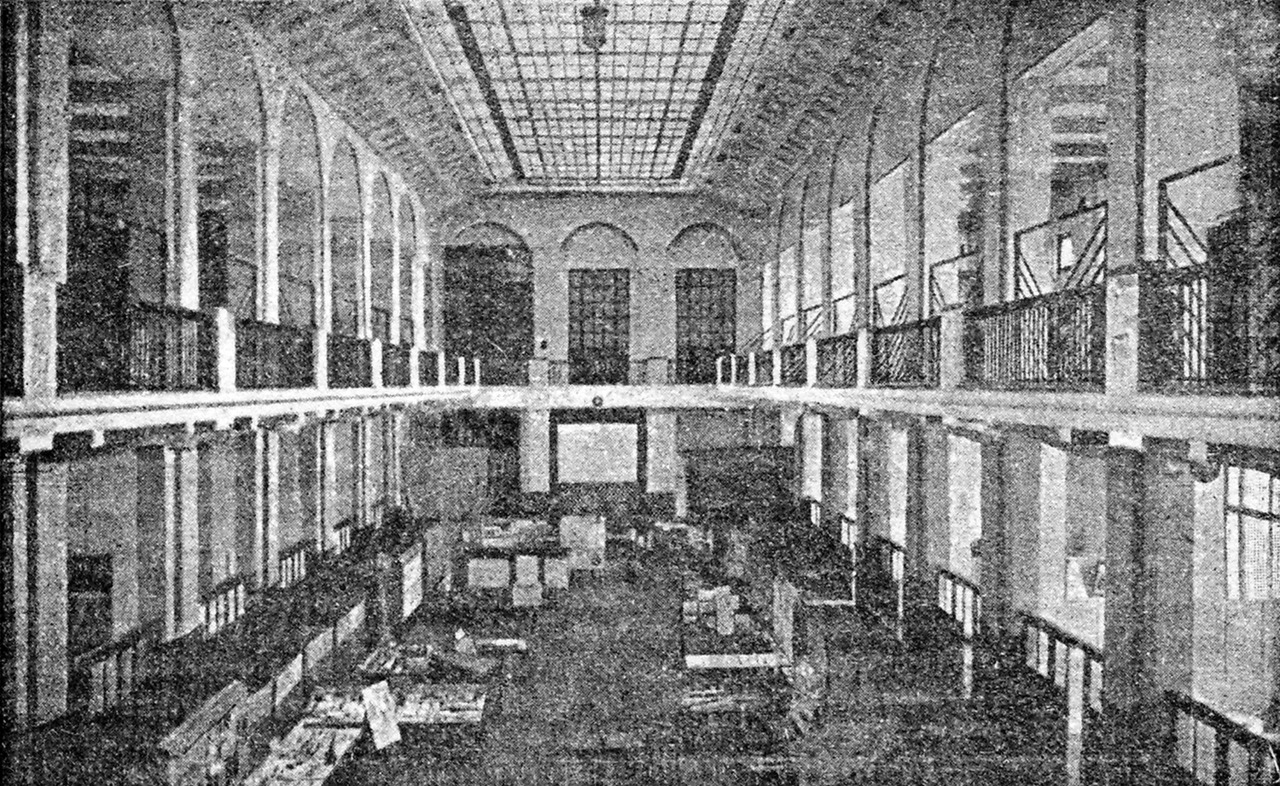

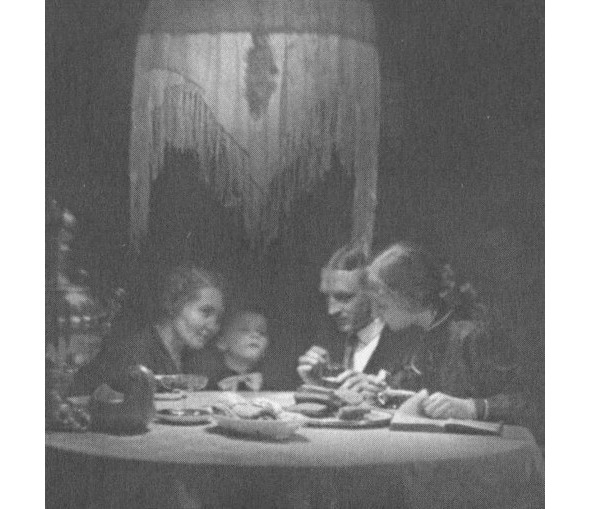

ГЛАВА 2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА
2.1. Общее развитие учреждения и научных подразделений
Стены колоссальной постройки,
за которую мы взялись в обстановке руин,
стремительно идут кверху и через год мы,
вероятно, уже будем устанавливать шпиль
с непобедимым знаменем.
А. К. Гастев, 1922 г.
Центральный институт труда — «универсальное научно-исследовательское и практически-воздействующее учреждение по вопросам организации труда» — новый тип научного учреждения. Ему вменялась «выработка и внедрение в жизнь максимально-продуктивных, обработочнотрудовых и организационно-производственных принципов», для чего «должен быть развит научно-исследовательский аппарат, соединяющий в себе прикладничество с учетом методов точных наук математики, технологии и биологии». И вновь необходимо подчеркнуть однозначное указание биологических наук как ключевых в контексте проблематики НОТ. Также новизна состояла в том, что вся научно-исследовательская (точнее, как говорили сотрудники ЦИТ «научно-изыскательная») деятельность должна была опираться на реальную практику индустриальных предприятий.
Ранее исследования по организации труда проводились в дискретных условиях: либо академическая лаборатория, слабо имитирующая условия производства, либо бюро изысканий при предприятии, сложившееся как «своеобразная антитеза академическим учреждениям». В первом случае исследования были сильно оторваны от реалий промышленности, во втором, наоборот, страдали от недостатка системности, методологии, воспроизводимости результатов. В ЦИТ была реализована принципиально новая концепция — комплекс научно-изыскательных работ осуществлялся на базе специально созданной инфраструктуры, включавшей:
— совокупность лабораторий различной направленности (технической, биологической, педагогической);
— развернутые непосредственно в ЦИТ работающие цеха (слесарный, монтажный, кузнечный и т.д.), в которых трудятся и одновременно обучаются курсанты;
— опытные станции в предприятиях и учреждениях.
Дискретность была устранена. Экспериментально-лабораторные работы проводились в условиях реальной трудовой деятельности курсантов. Опытные станции могли внедрять результаты исследований, но также они собирали данные о работе изучаемых учреждений и передавали их в лаборатории для совокупного анализа вместе с результатами оригинальных изысканий.
Сложилась своеобразная триада: научные лаборатории — собственная производственная база — реально работающие предприятия. Она-то и позволила реализовать принципиально новый тип научного учреждения.
Первоначально научная работа в Институте труда, начавшаяся «в одной жалкой комнате, в которой не было никакого оборудования», представляла собой продолжение деятельности:
— профильных подразделений ВЦСПС по нормированию, квалификации и тарификации;
— технико-нормировочного бюро (фактически — лаборатории) при заводе «Электросила №5» (Тормозного завода).
Первое направление было достаточно очевидным и прикладным, как простое продолжение разработок профсоюзов аналитического и методического характера. Однако достаточно быстро оно значительно видоизменилось. По словам самого А. К. Гастева развитие тарифно-нормировочной работы ВЦСПС привело к появлению психологии труда, так как «разбивка рабочих на различного рода категории заставила подробно расклассифицировать те принципы, которые были положены в основу тарифов и в основу производственной квалификации рабочих». Возникла необходимость научного определения экономической, технической и биологической характеристики каждой профессии.
Гастев решительно подчёркивал отличие психологии труда от психотехники. Первая дисциплина родилась не в теоретической, а в «практической жизненной глубине». А вот психотехнику он рассматривал как сугубо теоретическую дисциплину, причём «школьнический психологический подход психотехников не вяжется с тем производственно-психологическим подходом, который был у союзов в их тарифной квалификационной работе». Но это всё же вторично. Главное, что исходная тарифно-нормировочная изыскательная деятельность эволюционировала до научного определения экономической, технической, физиологической и психологической характеристик профессий. Теперь идея квалификации развивается в форме изучения технико-обработочного процесса и составления различных психограмм и биограмм (то есть психологических и биологических характеристик) работника.
Второе направление стало началом создания новой сущности — педагогической методики ЦИТ. Сперва, «вокруг» опытной станции на указанном выше заводе сложилась группа рабочих-инструкторов: Петелин, Иванов, Маликов, Фромзон, Ухарский. Они принимали активное участие в обследованиях предприятия и даже инициативно составили при лаборатории «своеобразный семинарий» — «писали свои наблюдения, производили тщательные наблюдения рабочих приёмов на заводе, писали на эти тему сочинения», а Петелин даже опубликовал «книжечку, в которую вклеил методику ЦИТ’а (правда, торопливо и очень неточно)». Семинарий работал 2–3 часа в неделю. Гастев хотел привлечь этих энтузиастов на работу в Институт, но те отказались, преимущественно по материальным причинам.
Зато в Институт труда пришли «товарищи по заводской и союзной работе» Алексея Капитоновича из Петрограда — рабочие завода акционерного общества «Я. М. Айваз» Александр Сергеевич Лабутин (соратник Гастева по профсоюзной работе), Пётр Андреевич Жильцов (впоследствии заведующий слесарным цехом), Василий Михайлович Желтенков (впоследствии заместитель руководителя курсов инструкторов производства) и ещё несколько «петроградских металлистов», со временем ставших «сердцем Цитовского „подвала“». К числу последних, вероятно, относились Дмитрий Константинович Глухов, Михаил Дмитриевич Ухолов и Павел Максимович Форжа, возглавившие станочный, монтажный и кузнечный цеха Института соответственно.
«Вот тогда-то мы и решили в залитом водой тёмном подвале развернуть курсы по нашей методике по слесарно-кузнечным операциям»; и здесь тоже развернулась «робинозонада»: в крайне бедной обстановке «приходилось вместо наковален приспосабливать <…> буфера, для вагранки приспосабливать <…> переносное горно». Первым руководителем курсов, то есть педагогического направления деятельности ЦИТ, стал Александр Сергеевич Лабутин.
Для поступающих на курсы организовали психофизиологическое исследование с научной задачей определения пригодности к профессии.
Таким образом, эволюция тарифно-нормировочной работы и развитие педагогической методики поставили научные задачи в области психофизиологии, что собственно и стало началом изысканий Института по биологической линии.
Первые месяцы научная работа Института труда включала общую подготовку к исследованиям с разработкой программы работ и их методологии, реферирование и перевод специальной литературы, изготовление научного инструментария; также была подготовлена научная статья «Психотехника и профессиональный отбор», отпечатаны анкеты для соответствующих тестирований.
К началу 1921 г. структура Института включала общий аппарат управления, экономическое, техническое, психо-физиологическое и педагогическое бюро.
Руководство учреждением осуществлял заведующий, которого, как и его заместителя, назначал президиум ВЦСПС. Управленческий аппарат ЦИТ состоял из совета, президиума и организационного бюро (учёного совета).
Высшим руководящим органом Института по идейно-политической линии был Совет, сформированный из представителей крупнейших профессиональных организаций, хозяйственных органов и верховных политических организаций, а также сотрудников ЦИТ. Первый состав Совета отличался особой представительностью. Его председателем был руководитель ВЦСПС Михаил Павлович Томский (1880–1936), в состав входили М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев, представители четырех профессиональных союзов, члены президиума ВЦСПС, народного комиссариата труда, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства, председатель Госплана, представители Всероссийского центрального исполнительного комитета, Главэлектро, Главметалла, Автопромторга, ВЦИК. Надо подчеркнуть, что в первый состав Совета входил и П. М. Керженцев — крупный специалист по НОТ и будущий ярый оппонент Гастева. От лица Института в Совет входили сам Алексей Капитонович и К. Х. Кекчеев.
Спустя несколько лет появилась ещё одна структура. Во второй половине 1920-х гг. Параллельное функционирование двух организаций — ЦИТ и «Установки» — на фоне как расширения работ, охвата новых отраслей промышленности, так и конфликтов, и конкуренции с иными учреждениями в области НОТ (подробно см. далее) явным образом требовали большего политического влияния в управленческих вопросах. Поэтому, 22 марта 1928 г. принято решение о создании расширенного Совета ЦИТ «из представителей партийных, профессиональных и советских организаций» под председательством М. П. Томского. Президиум ВЦСПС поддержал инициативу «в целях лучшей увязки ЦИТ’а с советской общественностью» и рекомендовал сформировать совет в количестве 75 человек, из которых не менее половины должны были составлять «ударники добровольцы» с заводов и фабрик Москвы. Несколько месяцев продолжались формирование состава расширенного совета, при этом количество его участников снизилось до 40. Впрочем 27 июля 1928 г. Президиумом ВЦСПС был утвержден окончательный его состав из 59 человек (семеро из них образовывали Бюро совета). Расширенный (большой) совет собирался ежеквартально, рассматривал отчёт о деятельности ЦИТ и выносил решения, которые становились основой для работы президиума ЦИТ.
В состав президиума ЦИТ входили 5 лиц (позже — 10): председатель — заведующий Институтом, его заместитель, председатель учёного совета ЦИТ и два участника, «кооптируемые» президиумом, а также — секретарь (Циммерлинг, затем — Надежда Александровна Булава).
«Вся практически-руководящая работа по созданию Института сосредоточена в президиуме», в его составе А. К. Гастев вёл общую распорядительную и представительскую работу, Мечислав Викентьевич Пиолунковский — организационно-административную работу, а общий надзор за научной работой осуществляет член президиума Института, экономист и статистик С. Г. Струмилин, функционально сменивший в этом вопросе Б. В. Бабина.
Станислав Густавович Струмилин родился 29 (17) января 1877 г. в Подольской губернии. Окончил Петроградский политехникум. В 1896 г. окончил реальное училище, а в 1899 г. вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Вёл подпольную революционную работу, прошёл аресты, ссылки и побеги; делегат нескольких съездов РСДРП за рубежом. С 1908 г. учился на экономическом отделении политехнического института в Санкт-Петербурге; был исключен по политическим причинам, затем восстановлен, получил диплом в 1914 г. Параллельно работал счётчиком, статистиком в разных руководящих учреждениях. В 1914 г. мобилизован в армию, служил до 1916 г. В 1916–1917 гг. руководил отделом статистики Особого совещания по топливу в Петрограде, член Петроградской районной и общегородской думы, член экономического отдела Петроградского Совета рабочих депутатов. С 1918 г. — заведующий статистики Народного комиссариата труда и ВЦСПС. Параллельно вёл преподавательскую работу, будучи профессором кафедры теории и техники статистики и эконмической статистики Московского университета. С 1921 г. — член Президиума Госплана СССР, в состав которого введён по личному указанию В. И. Ленина. В дальнейшем председатель секции учёта и распределения, заместитель председателя Госплана СССР. Как было сказано выше, в ВЦСПС С. Г. Струмилин возглавлял отдел статистики. Обладая колоссальным практическим опытом Станислав Густавович постоянно вёл исследовательскую работу, регулярно публиковал научные труды (например, в 1920 г. у него 6 публикаций, в 1921 г. — 17, в 1922 г. — 12), читал лекции. Такой академический склад ума не позволил ему «пройти мимо» впервые создаваемого Института труда. Кроме того, в послереволюционный период научные интересы С. Г. Струмилина включали организацию статистики труда, методологию тарификации и обеспечения производительности труда применительно к государственным нуждам, проблемы регулирования и планирования труда.
Станислав Густавович Струмилин подключился к организационным работам по созданию Института на самых ранних этапах, вошёл в состав президиума. Как увидим далее, он активно занялся становлением и руководством научной работой молодого учреждения, организовал и возглавил учёный совет (комитет изысканий) Института, искал оптимальную структуру научных подразделений.
При президиуме ЦИТ функционировало организационное бюро (оргбюро), занимавшееся развитием общей структуры Института, а также выполнявшее функции учёного совета учреждения. Первоначально в его состав входили Базаров, И. М. Безпрозванный, Жуков (руководитель педагогического отдела), К. Х. Кекчеев, Корнилов, В. О. Перцов, Б. Н. Северный, Чарновский, М. Н. Шатерников (профессор, известный физиолог, ученик И. М. Сеченова). Помимо перечисленных лиц в состав президиума и оргбюро в 1921 г., на разных этапах работы, входили Б. В. Бабин (учёный секретарь), Д. Н. Хлебников (учёный библиограф, руководитель социально-экономического отдела), В. Н. Пучков и Д. А. Хлобынин (оба — управляющие делами), Шпиковский.
В 1922 оргбюро ликвидируется, тем самым учёный совет обособляется. Появляется особое положение для обеспечения его работы, согласно которому совет осуществляет планирование и согласование «всей исследовательско-кабинетной, исследовательско-лабораторной работы, верховный надзор за работами на опытных предприятиях», а также осуществляет приём работ, отчетности, приём исследовательских заказов от внешних организаций. Учёный совет состоит из 12 человек; в его состав входят, в том числе, руководители отделов института с совещательными голосами и заведующий ЦИТ с правом решающего голоса. Председатель учёного совета, избираемый самим советом, осуществляет общее руководство научной деятельностью института. Также совет назначает руководителей научных подразделений ЦИТ, соответствующие решения утверждает президиум Института.
К 1922 г., как указывал А. К. Гастев, в ЦИТ сформировались две группы сотрудников: «значительная группа работников уже сжившихся с Институтом; трудно даже представить, чтобы они могли работать в каком-либо другом учреждении неродственном Институту», вторая — «обычный советский контингент людей, чьи души квартируют в наших стенах».
Особой проблемой было совместительство в науке. Большая часть научных работников «фактически были гостями в стенах Института, а работу свою вели так сказать, домашним образом». Точно также и учёный совет был сформирован из людей «не принимавших непосредственного участия в работе» ЦИТ.
Благодаря политике по укреплению лояльности кадров в 1922 г. первый состав учёного совета, происходивший ещё из оргбюро президиума ЦИТ, рассыпался. У руля остался только председатель совета С. Г. Струмилин, сформировавший новый состав (в том числе, А. К. Гастев, К. Х. Кекчеев, М. В. Пиолунковский, И. Х. Ишлондский, Б. В. Бабин, И. Н. Шпильрейн) с полноценным представительством всех структур учреждения. 26 января 1923 г. учёный совет окончательно приобретает наименование «комитет изысканий» и теперь обязательно заседает минимум один раз в месяц. Параллельно, для «решения генеральных проблем ЦИТ’овской доктрины во всей их широте», создаётся «большой комитет изысканий» в расширенном составе из 34 человек: 20 — сотрудники Института, 14 — «персонально привлеченные видные деятели близких ЦИТ’у отраслей науки и производства». Первое заседание расширенного комитета состоялось 24 августа 1923 г., в дальнейшем обсуждения проводили по двум секциям: психофизиологической и технической.
Отдельно, создается «бюро изысканий», которое формируется на выборной основе, в том числе, из представителей технических и педагогическо-организационных подразделений; во главе бюро — инспектор отдела изысканий Крикор Хачатурович Кекчеев. Ключевые задачи этого подразделения «будничное координирование работ лаборатории» и ежедневный (!) внутренний контроль качества научной работы.
Для практической координации работ всех подразделений в структуре учреждения было предусмотрено распорядительное бюро (руководитель А. З. Гольцман).
Согласно публикации в первом номере журнала «Организация труда» в течение 1921 г. в ЦИТ формировалась структура, состоявшая из следующих аппаратов:
1. Административно-организационный:
1.1. Заведующий.
1.2. Секретариат.
1.3. Организационное бюро.
2. Учётно-рабочий:
2.1. Совет.
2.2. Учёный секретариат:
а). Учёные кабинеты:
— технический,
— хозяйственно-экономический,
— психо-физиологический,
— педагогический.
б). Изыскательные учреждения:
— техническая лаборатория,
— экономическое бюро,
— психо-физиологическая лаборатория,
— опытные школы и мастерские.
2.3. Опытные предприятия.
3. Корреспондентский:
3.1. Учреждения, специально изучающие труд.
3.2. ВУЗы, изучающие труд.
3.3. Профессиональные и трудовые школы.
3.4. Отдельные корреспонденты.
4. Воздействия:
4.1. Органы публичного воздействия:
— бюро печати;
— библиотека;
— музей;
— агит-бюро.
4.2. Органы практического воздействия:
— консультационное бюро;
— бюро реконструкций;
— школьное бюро.
5. Управления:
5.1. Управляющий делами.
5.2. Делопроизводство.
5.3. Хозяйственное управление.
5.4. Транспортное хозяйство.
5.5. Ремонтная мастерская.
Бюро реконструкции и консультационное бюро предназначены для непосредственной работы как с опытными станциями, так и, преимущественно, иными учреждениями и предприятиями. Фактически через эти подразделения осуществляется, говоря современным языком, коммерциализация консалтинговых и образовательных услуг Института.
В музее собраны экспонаты из Социального музея им. Погожева, Музея Труда народного комиссариата труда, также в нём накапливались собственные материалы Института, поступавшие из научных лабораторий. Позднее силами сотрудников музея организовывались выставка на Съезде Советов, экспозиция при ВЦСПС, экспонаты направлялись на выставку «Советская Россия» в Германии.
Обширна структура научно-исследовательской части. Она включала органы организационно-методического характера (ученые кабинеты), собственно исследовательские лаборатории (изыскательные учреждения) и базы на опытных предприятиях. Подчеркиваем наличие в структуре как учёного кабинета, так и изыскательного учреждения по биологическому направлению.
«Научно-изыскательные отделы в настоящее время развёртывают работу учёных кабинетов, возглавляющих каждый из отделов. В Институте монтируются и уже работают несколько лабораторий, из которых укажем на лабораторию по изучению трудовых движений, физио-техническую лабораторию, научно-техническую лабораторию и, наконец, педагогическую лабораторию».
Примечательно, что учёный секретариат представлял собой не просто верхнеуровневое наименование для совокупности структурных подразделений. Это было отдельное подразделение со своим персоналом и задачами, которое «принимает научные инициативы», осуществляет «постановку научного импорта и подбор научно-литературных средств», ведёт переводную работу, делает обзоры и компиляции, организует библиотеку и картотеку литературы, проводит консультации, ведёт большой архив материалов ЦИТ, картотеку отечественных и зарубежных учёных по НОТ. Фактически учёный секретариат выполнял функции организационно-координирующие, документоведения, методические, аналитические.
Обращает на себя внимание включение под эгидой Корреспондентского аппарата в структуру ЦИТ внешних, совершенно независимых учреждений. Безусловно, речь не шла об административном их подчинении, здесь акцентировалось значение Института труда именно как Центрального учреждения республики в аспекте методологии и координации работ в области НОТ.
В первые же годы Институт «развернул свой аппарат по четырем линиям: технической, социально-экономической, психо-физиологической и педагогической». Ещё раз необходимо подчеркнуть изначальное наличие психо-физиологической, то есть биологической линии в работе учреждения.
В целом задачи отделов делились на научно-исследовательские и консультационные. С точки зрения функций сгруппированных подразделений на верхнем уровне существовало следующее разделение:
1. Отделы, ведущую научно-исследовательскую и административно-организационную деятельность: отделы технический, психо-физиологический, социально-экономический, педагогический, учёный секретариат, управление, секретариат.
2. Отделы, «имеющие специальную цель публичного воздействия»: отделы консультаций, реконструкций, печати, библиотека, музей труда, научный кинотеатр, публичная психотехническая лаборатория.
Позднее А. К. Гастев внёс уточнения и отдельно выделил функцию налаживания научных коммуникаций:
1. Учебно-рабочий аппарат. Во главе находится Совет ЦИТ, который дает руководящую методику труда и работает над общим социологическим синтезом. Работы ведутся по четырем направлениям: техническому, экономическому, психо-физиологическому и педагогическому. «Мозг» каждого из направлений — «учёные кабинеты». Изыскательную работу выполняют техническая лаборатория, экономическое бюро, психо-физиологическая лаборатория, учебные школы и мастерская. Она завершается «серией опытных предприятий», то есть практическим внедрением.
2. Корреспондентский аппарат. Основная задача — «покрыть весь этот разбросанный и дифференцированный опыт своим универсализмом» через налаживание коммуникаций со всеми изучающими труд специальными учреждениями, учебными заведениями, а также отдельными специалистами и учёными.
3. Аппарат воздействия. Основная задача — практическая реконструкция организации труда «на научный лад». В составе аппарата учреждения публичного воздействия (бюро печати, агит-бюро, библиотека, музей) и практического действия (консультационное бюро, бюро реконструкции, школьное бюро).
Пункт первый наглядно иллюстрирует триаду, о которой говорилось выше. В третьем пункте особо надо подчеркнуть структурное и функциональное выделение «учреждений публичного воздействия». Говоря современным языком, это служба отношений с общественностью, работа которой в первые 10–15 лет деятельности ЦИТ была чрезвычайно масштабной и многокомпонентной. О многом говорит уже сам факт выделения «аппарата воздействия». Также очевидно наличие специальной стратегии, в том числе менявшейся в разные периоды развития учреждения; была выстроена системная работа со средствами массовой информации, осуществлялся мониторинг печати, не говоря уже о масштабной публикационной активности самого различного характера: от популярных брошюр и ежедневников (орга-календарей) до многолетних научных журналов. Складывается стойкое ощущение, что деятельности «PR-службы» ЦИТ заслуживает отдельного научного исследования. Однако вернемся к науке…
В целом структура ЦИТ всегда была очень динамична, часто подвергалась реконфигурациям в силу текущих обстоятельств, задач, производственных потребностей. Гастев решительно «тасовал» подразделения, исходя более из функций, нежели персональных предпочтений. Возможно именно такая динамичность, в том числе, обуславливала возможность быстрой мобилизации и концентрации сотрудников и всего учреждения при возникновении особо сложных и масштабных задач.
В середине 1921 г. учёные кабинеты и изыскательные учреждения объединяют в отделы, их четыре — технический (руководитель М. В. Пиолунковский), социально-экономический (Д. Н. Хлебников), психо-физиологический (Г. Х. Кекчеев), педагогический (Жуков). Каждый отдел рассматривается и как «научно-изыскательный кабинет», и как «административный центр» по выстраиванию соответствующей линии научно-практической работы ЦИТ. Примечательно, что в этот момент от сотрудников исходила инициатива назвать психо-физиологический отдел биологическим, однако «Институт пока воздерживается».
Во второй половине 1921 г. А. К. Гастев впервые публикует научную стратегию ЦИТ, так как его развёртывание «прошло стадию персонального подбора работников и намечает новый этап постановки лабораторной работы».
По замыслу Алексея Капитоновича изыскательная деятельность делится на два блока: лабораторные исследования и создание социальной инженерии. Лабораторная работа должна стать главным источником для получения «законченных методологических выводов». Подчёркивается строгое следование тематик и характера научных работ задачам («основным замыслам») ЦИТ.
А. К. Гастев определяет следующие направления по формальному структурированию научной работы: «постановка технической лаборатории, лаборатории по изучению трудовых движений, физиологической лаборатории, психотехнической лаборатории академического типа». Он сразу замыслил организовать работу лабораторий как единого комплекса (впоследствии назвав его «лабораторным ансамблем»), вместе с тем разделяет — что особо важно в контексте данного исследования — изыскания по биологической и технической линии.
Техническая лаборатория «исследует машинное и орудийное движения»; даёт методику машинных обработок, систематизирует все современные обработочные методы, создаёт и изобретает новые способы. В конечном итоге, «даёт нормаль обработочно-машинного движения, машино-орудийной работы».
По биологической линии в центре ставится лаборатория по изучению трудовых движений; она «выбрасывает очередные проблемы для эксперимента», а в конечном итоге «исследует и синтезирует чисто человеческие трудовые движения» и даёт «нормаль биологического трудового движения». Однако всё это происходит как часть цикла: физио-техническая и психотехническая лаборатории, в свою очередь, ведут аналитические исследования, результаты которых «возвращаются в лабораторию по изучению движений, и здесь уже, на основании аналитической работы, создается чисто синтетическим путём определенная нормаль трудовых движений».
Полный синтез и технической, и биологической линий происходит в педагогической лаборатории — собственно здесь и реализуется второй блок изыскательной работы Института. В этой лаборатории создаётся методика профессионального обучения на основе результатов всех научных изысканий иных структурных подразделений, формируются принципы и конкретные модели обучения определённой работе.
Институт активно взаимодействует с учреждениями и организациями, шаг за шагом утверждая свою значимость и влияние. В частности, в 1921 г. выстраивается взаимодействие с Кабинетом общественного строительства Центрального института инструкторов-организаторов народного просвещения
На фоне официального признания Института в качестве центрального учреждения Республики в 1921 г. происходит ряд «поглощений и слияний». Прежде всего, народный комиссариат труда передает в ведение ЦИТ Музей труда и библиотеку при нём; последняя, что очевидно, являлась крайне полезным приобретением. В течение нескольких месяцев велись переговоры с Экспериментальным институтом живого труда (ЭИЖТ) НКТ СССР. Наконец, удалось договориться о следующем: ЦИТ заключил договор с Институтом психологии, входящем в состав ЭИЖТ, о совместной научной работе. Параллельно в индивидуальном порядке на работу в ЦИТ были привлечены сотрудники ЭИЖТ: профессор Борис Николаевич Северный (1888–1938) — как руководитель создаваемого психотехнического отделения ЦИТ, а в качестве консультанта — профессор Георгий Иванович Челпанов (1862–1936, директор Института психологии). Примечательно, что вслед за профессором Челпановым в ЦИТ пришла целая научная группа (см. далее). Аналогичную схему работы ЦИТ хотел реализовать «по физиологической линии», однако успехом это не увенчалось.
Параллельно ЦИТ «входил в более тесные отношения с Отделом Психо-Физиологии Труда при Московском Психо-Неврологическом Институте и Лабораторией по изучению движений при кино-отделе. С этими учреждениями Институт настолько контактировал, что не только руководители их стали ответственными работниками Института, но лабораторный опыт привел к проектированию соответствующих мощных лабораторий Института». Не исключено, что одним из аргументов А. К. Гастева при фактическом переманивании ведущих сотрудников других учреждений было выделенное самим В. И. Лениным финансирование и возможность оборудовать лабораторию на современном технологически уровне. Во всяком случае факт включения потребностей новых структурных подразделений в заявку ЦИТ на новое оборудование Алексей Капитонович подчёркивал особо.
«Тесные отношения» привели к появлению в ЦИТ целого научного направления по изучению трудовых движений, а также к высокоэффективной работе в его стенах выдающихся учёных — К. Х. Кекчеева, Н. А. Бернштейна, Н. П. Тихонова и проч. Именно указанное направление составило в дальнейшем особую славу и специфический образ ЦИТ, став, во всяком случае среди прочих биологических исследований, наиболее узнаваемым и широко признанным общественностью (подробнее об этом будет рассказано далее).
В 1922 — начале 1923 гг. колоссальная нагрузка и уровень ответственности в Госплане ограничивали возможности для работы С. Г. Струмилина в Институте труда. Постепенно он отдаляется, меньше занимается административной частью, но трудится в комитете изысканий. Всё же в 1923 г. Станислав Густавович вовсе покидает и ЦИТ, и ВЦСПС, полностью фокусируясь на Госплане. Немаловажным фактором такой ситуации стал и стратегический вектор научной работы, заложенный А. К. Гастевым и крайне далёкий от экономических и статистических изысканий.
Подчеркнём факт качественного перехода в стратегии научной работы ЦИТ: в 1923 г. на посту руководителя научной работой С. Г. Струмилина — экономиста сменил врач Крикор Хачатурович Кекчеев, занявший пост заместителя заведующего ЦИТ.
А. К. Гастев заявляет, что благодаря созданию комплекса научных лабораторий и развитию прочей инфраструктуры «выросло собственное научно-руководящее учреждение». Научная работа становится постоянной и постепенно систематизируемой: «первый период работы Института, когда мы фиксировали отделы, был теоретической проэкцией наших организационных замыслов; в настоящее время эти замыслы, облекаясь в плоть и кровь, находят своё выражение в солидной лабораторной работе».
Тем не менее, во второй половине 1921–1922 гг. трансформации структуры ЦИТ продолжаются; учреждение проходит этап первичного становления, очевиден поиск оптимальных форм организации работы. В частности, в конце 1921 г. все биологическое направление собрано в психо-физиологический отдел под руководством Крикора Хачатуровича Кекчеева и секретаря доктора Г.Л. (Г.) Торбека.
В состав психо-физиологического отдела входят два подотдела:
1. Психологический — руководитель профессор Б. Н. Северный, консультанты профессора Г. И. Челпанов и В. М. Экземплярский, секретарь — Н. В. Петровский, ассистенты Н. И. Жинкин, А. А. Смирнов, С. В. Кравков, П. А. Шеварёв, Н. П. Ферстер, П. А. Рудик. Это самое крупное по штатной численности научное подразделение. В его составе ещё и «20 человек — практикантов-психотехников».
2. Психо-технический — руководитель И. Н. Шпильрейн, консультант доктор Майзель, сотрудник доктор Минц, непостоянный сотрудник — Дубровский.
Психологический подотдел сформирован в результате указанного выше «слияния», он полностью образован научными сотрудниками и участниками психологического семинария профессора Г. И. Челпанова. Такая дискретность быстро показала свою слабую сторону. В начале 1922 г. подотделы исчезают. Причиной этого стал методологический конфликт А. К. Гастева и Б. Н. Северного. Профессор придерживался «традиционного академизма», основанного на зарубежных методиках. Создание новых подходов он осуществлял сугубо дедуктивным путем, в то время, как ЦИТ шёл скорее индукцией, проводя кропотливый анализ сложившихся трудовых процессов. «Чистую психологию» Северного не удалось «приземлить» на конкретные процессы и работы. Подчеркнем, конфликт носил характер профессиональных разногласий, личной ссоры не было.
Это был первый случай в ЦИТ, когда результаты исследований по биологическому направлению не удалось сразу и очевидно внедрить в практику, что являлось безусловным требованием А. К. Гастева. Фундаментальная наука и накопление теоретических медико-биологических знаний его мало интересовали, изыскания должны были иметь внятное прикладное значение. Этот конфликт стал первым, но, увы, не единственным. Однако помимо методических разногласий был ещё один фактор. А. К. Гастев вёл политику укрепления лояльности сотрудников, в том числе интенсивно сокращая совместителей во имя «желания иметь всех сотрудников ЦИТ’а под одной крышей». Профессор Б. Н. Северный не стал переходит на полную ставку в ЦИТ. Вследствие этого ЦИТ «разорвал» взаимодействия с психотехническим отделением Психологического института и с «наследием» от Института Экспериментального изучения живого труда.
Теперь в составе психо-физиологического отдела появляются две лаборатории: физио-техническая (заведующий И. Х. Ишлондский) и трудовых движений (заведующий А. П. Бружес). В списке работников отдела ученый специалист И. Н. Шпильрейн (теперь уже не имеющий отдельного сектора, однако сохранивший определенный «кредит доверия»), научные сотрудники Г.Л. (Г.) Торбек, А. А. Толчинский, Б. И. Немеровский, вычислитель С. М. Михайлов.
Тут интересен факт наличия в составе научного подразделения специалиста по математическому анализу (вычислителя), особенно на фоне того, что в наше время лишь относительно недавно стало привычным для медико-биологических научных учреждений иметь в своём штате специалистов по биостатистике.
В общей структуре ЦИТ в качестве самостоятельных подразделений фигурируют учёный секретариат (учёный секретарь Бабин Б. В., учёный библиограф Хлебников Д. Н.), библиотека (заведующий Викторов А. Л.), музей (заведующий Косман Д. Л.).
Во втором полугодии 1922 г. психо-физиологический отдел исчезает, зато появляется «Учёная часть» в составе: семи лабораторий; конструкторской (единственный её сотрудник — главный конструктор Г. Н. Роганов); библиотеки; музея (заведующий Лев Иосифович Брагинский, также член президиума Института); персонально учёного секретаря (повышенного от научного сотрудника психотехника Торбека).
В 1923 г., наконец, формируется структурно-функциональная схема ЦИТ, ставшая опорной на длительный период времени. Она включается три линии работы:
1. Лабораторно-исследовательскую.
2. Учебно-методологическую.
3. Консультационную.
По первой линии организационно создается отдел изысканий («основа всей работы ЦИТ’а») для руководства «общей идеологической деятельностью» в науке. На момент создания отдела изысканий в его состав входят библиотека и лаборатории:
— №1 Фото-кино (зав. Тихонов Н. П.);
— №2 Техническая (зав. Бабий З. Н.);
— №3 Биомеханическая (зав. Бружес А. П., декабрь 1923 — февраль 1924);
— №4 Физио-техническая (зав. Ишлондский И. Х.);
— №5 Психо-техническая (зав. Толчинский А. А.);
— №6 Педагогическая (зам. зав. Петров Е. А.);
— №7 Социально-инженерная (зам. зав. Визгалин А. Г.).
В дальнейшем наименования, состав и задачи этих подразделений значительно варьируются, исходя из текущей ситуации. В частности, в декабре 1923 — феврале 1924 гг. к ним добавляются лаборатория №8 неврологическая, а также психофизиологическая амбулатория. Развитие биологических лабораторий подробно освещено в последующих главах; здесь отметим лишь, что в 1923 — начале 1924 гг. лидирующее положение в ЦИТ занимали биомеханическая и фото-кино лаборатории.
По второй линии создается учебный отдел, включающий установочное бюро (как методический и консультативный центр) и литерные курсы.
По третьей линии организуется консультационный отдел, включающий опытные станции (или так называемые орга-станции) на предприятиях, а также временные комиссии для решения отдельных задач.
Отдельно функционируют:
— отдел воздействия (имея в составе пресс-бюро, музей и ателье; в 1922–1923 гг. руководитель Лев Иосифович Брагинский);
— издательский отдел (бюро-печати) с собственной, постепенно создаваемой типографией; его возглавляет Виктор Осипович Перцов, с которым Гастев познакомился в Харькове, а затем совместно работал в Киеве.
С точки зрения развития общего менеджмента организацией важным моментом стало создание в 1923 г. бюро учёта с задачами контроля работы всех отделов в целом, отдельно — работы научных сотрудников и лабораторий, проверки явки на работу сотрудников, контроля исполнения заданий по Институту и мастерским, учёта посетителей, работников по НОТ. Интересно, что бюро получило и небольшую научную задачу по разработке проблем учёта в целом: «производились опыты над постановкой учёта работы отдельных сотрудников ЦИТ путем заполнения хроно-карт. Получен очень богатый материал». С мая 1923 г. бюро наладило выпуск внутреннего информационного бюллетеня «Учёт работы». Руководил бюро учёта Л. В. Гольцблят.
Леон Вольфович Гольцблят родился 7 мая 1899 г. в Варшаве, в семье служащих. Рано приступил к труду, работал посыльным, сучильщиком, техническим секретарём профессора. В 1917 г. окончил 4 класса вечерней школы, затем — высшие научные курсы; поступил на гуманистический факультет, где так или иначе учился 2 года. Ещё с 1915 г. Л. В. Гольцблят (партийная кличка «Левек») состоял в революционном молодёжном кружке «Будущность» социально-демократической направленности; референт, агитатор, пропагандист; дважды арестован за революционную деятельность. В 1917 г. сидел в «варшавской цитадели», в 1918 г. отправлен в лагерь, где пробыл до революции в Германии. В 1919 г. мобилизован в армию, был на фронте под Новоград-Волынском, поучаствовав в единственном злосчастном бою с Красной Армией. После этого, фактически, дезертировал и бежал в Россию. Жил в г. Харьков, где работал в городском и губернском комитете, затем в центральном комитете Коммунистического союза молодёжи Украины. В 1920 г. вступил в ВКП (б). В феврале 1921 г. отозван в Москву для работы в центральном комитете Российского коммунистического союза молодёжи (комсомола). Параллельно работе учился на экономическом отделении Первого МГУ. В конце 1922 г. вынужденно уехал в Германию на лечение. Такие поездки повторялись несколько раз в последующие 2 года.
В 1922 г. Л. В. Гольцблят поступил на курсы промышленных администраторов ЦИТ со специализацией по методам подготовки рабочей силы и инструктажу персонала. После их окончания остался в Институте, где с 15 апреля 1922 г. по 20 апреля 1930 г. он занимал должности заведующего Бюро Учёта, орга-секретаря, методического работника, наконец — заведующий курсами подготовки инструкторов-строителей в Москве и по всем базам АО «Установка». В первые же годы своей работы Леон Вольфович установил в ЦИТ систему учёта работы, а также подготовил «Обзор деятельности ЦИТ'а за 1923 год», в настоящее время ставший уникальным источником по ранней истории Института. Леон Вольфович автор нескольких статей и участник второй Всесоюзной конференции по НОТ. Он — ценный сотрудник ЦИТ, про которого А. К. Гастев говорил: «преданнейший работник, никогда не считавшийся с <…> нагрузкой, а дававший время в любой момент дня и ночи». Также, с 15 октября 1924 г. Л. В. Гольцблят работал в НК РКИ, состоя на ответственной должности секретаря Совета по научной организации труда (СОВНОТ), а в дальнейшем — на должности научного сотрудника методологического отдела (с 1 мая 1926 г. по 15 января 1927 г., уволился по причине закрытия отдела).
В научной части вёлся свой внутренний контроль качества. Здесь функционировала инспектура отдела изысканий, которая ведала разработкой программ исследований по Институту в целом и по каждой лаборатории отдельно, а также контролировала сроки и качество их выполнения. В инспектуре работали К. Х. Кекчеев и Н. А. Бернштейн.
В ноябре–декабре 1923 г. при отделе изысканий функционировала практическая комиссия для «создания смычки между теоретическими исследованиями лаборатории и практическими работами курсов инструкторов производства и консультационного отдела»; в неё входили А. З. Гольцман, К. Х. Кекчеев, Н. А. Бернштейн, А. С. Лабутин. Комиссия детально ознакомилась с деятельностью всех лабораторий, составила плана дальнейшей работы каждой из них для решения к концу года общей задачи, уточнила возможности практического применения лабораторных достижений. Также были даны рекомендации о подаче отдельных результатов исследований в научный сборник «Исследования ЦИТ». Деятельность комиссии была однократным эпизодом.
Уже не первый раз на страницах книги упоминается имя А. З. Гольцмана — соратника А. К. Гастева по работе в профсоюзе металлистов, специалиста по научной организации труда.
Абрам Зиновьевич Гольцман родился 24 декабря 1894 г. в г. Одесса, в семье грузчика. Окончил ремесленное училище, рано примкнул к социал-демократическим кружкам, вовлёкся в революционную деятельность. С 1911 по 1917 гг. его жизненная траектория характерна для многих революционеров: аресты, ссылки (в том числе, в Нарым, как и Гастев), побеги; в 1913 г. в родном городе он организовал профсоюз деревообделочников. После революции 1917 г. вступил в партию большевиков; как говорилось выше, входил в Центральный комитет профсоюза металлистов, был членом президиума и заведующим отделом нормирования ВЦСПС, с 1924 г. — член президиума Высшего совета народного хозяйства, с 1926 г. — член коллегии наркомата рабоче-крестьянской инспекции; на XIV–XVI съездах ВКП (б) избирался в состав, позже в Президиум Центральной контрольной комиссии партии. В 1922–1925 гг. А. З. Гольцман руководил Главным электротехническим управлением ВСНХ СССР. Этот выдающийся профсоюзный и хозяйственный деятель вместе с А. К. Гастевым и В. Ф. Обориным стоял у истоков НОТ в профсоюзном движении и научного подхода к нормированию труда; как было сказано выше, поддержал и активно участвовал в создании Института труда, в том числе будучи руководителем распорядительного бюро учреждения, организатором взаимодействия научных и консультационных его подразделений. В 1923 г. Абрам Зиновьевич входил в состав президиума Института труда. Он не только организатор, но и учёный — автор статей о тарифах и нормировании, организации труда, технической революции в контексте НОТ, ряд брошюр (в том числе, «Реорганизация человека»), многократно печатался в отраслевых средствах массовой информации. Отметим, что в архивах отложилась его неопубликованная монография «Человеческий труд и техника». Не смотря на заинтересованность в НОТ и активность на этапе создания ЦИТ, А. З. Гольцман постепенно уменьшал своё участие в деятельности Института и научную работу, что, впрочем, было закономерно обосновано гигантской трудовой нагрузкой в нескольких структурах параллельно.
При отделе изысканий состояла научная библиотека, в которой была собрана профессиональная литература на русском, английском, немецком, французском языках. По состоянию на 1 января 1923 г. в ней было 7151 томов, ровно через год — 8801, в дальнейшем — более 10000. Отдельно была сформирована библиотека для курсантов с выдачей книг по НОТ на дом. В один момент книжный фонд ЦИТ значительно пополнился за счёт передачи личной библиотеки руководителя курса «У» (учёта и калькуляции) А. И. Гуляева. Физически библиотека размещалась в обширном подкупольном помещении здания на Петровке — ротонде со стеклянным потолком.
Административные функции ЦИТ выполняли президиум, отдел управления делам (с бухгалтерией и хозяйственной частью, ремонтными мастерскими), распорядительный отдел, комендатура.
В первой половине 1920-х гг. общее количество штатных единиц ЦИТ колеблется в диапазоне 70–88. Обилие научных лабораторий сочетается с минимальным количеством их кадрового обеспечения. В каждой из них лишь 2 штатные единицы — заведующий и научный сотрудник. Эта ситуация отражает и относительно скромные финансовые возможности ЦИТ на раннем этапе его становления, и дефицит квалифицированных и лояльных кадров («бедность научных сил с биологической, технической и практической компетенцией»), о котором столь эмоционально сообщал Гастев: «К нам приходили чудаки, помешавшиеся на абсолютных трудовых измерителях, на немедленных генеральных и чудесных преобразованиях, на проектах декретов, на машинах, известным им, главным образом, по аналогии с пишущими машинами, словом, стоял такой гомон архи-революционного и сверх-левого доморощенного новаторства, что пришлось решить задачу так: самим заняться работой, а им не мешать кричать и куролесить, поскольку в этом не было явного нарушения общественной тишины и спокойствия».
Организационно-методологически и идеологически А. К. Гастев всё время проводил параллель между научной работой и работой промышленного предприятия. Научно-изыскательная деятельность ЦИТ должна была и велась по принципам организации завода. В начальном периоде такой подход носил более идейный характер, но по мере развития самого Института, а в особенности процессов стандартизации, ряд организационных подходов действительно оказались заимствованными.
Первым шагом Гастев проводит сортировку научных лабораторий по аналогии с цехами завода:
1. Заготовительному цеху соответствует Фото-кино лаборатория, основная методика которой представляет собой «фиксаж изучаемого объекта», фактически — сбор первичных данных.
2. Обработочному цеху — техническая, биомеханическая, физиотехническая, психотехническая лаборатории, выполняющие анализ данных.
3. Сборочному цеху — педагогическая и социально-инженерная лаборатории, осуществляющие синтез.
Сам Институт Гастев называет «учёно-изыскательным заводом», а учёный совет — «распределительным бюро».
В 1922 г. во все научные лаборатории, в том числе сугубо биологические, вводятся технические консультанты с целью «ввергать в обращение точно определенные рабочие приёмы». То есть каждое научное подразделение начинает представлять собой междисциплинарное (а иногда и трансдисциплинарное) объединение. Занятно, что «биологов» достаточно решительно — вполне в духе времени диктатуры пролетариата — обучали рабочим навыкам. Тому живое свидетельство это слова профессора А. А. Кулябко: «Пишущий эти строки припоминает, как велико было чувство утомления при первых упражнениях в рубке зубилом, пока ещё не были усвоены правильные приёмы в работе и не достигнута известная степень тренировки».
После периода интенсивных изысканий структура научных подразделений вновь претерпевает изменения. В целом они назрели: методические и профессиональные разногласия приводят к определенным кадровым потерям; академическое психотехническое направление исчезает, трансформировавшись в психологию труда; биомеханика стремительно теряет лидирующие позиции в научной повестке ЦИТ. Однако потери уравновешивались новыми возможностями. На работу в ЦИТ приходит профессор А. А. Кулябко — крупный специалист в области физиологии и функциональной диагностики. В недрах физио-технической (теперь все более часто называемой физиологической) лаборатории «вызревают» новые отдельные структуры по биохимическим и газообменным исследованиям.
В 1924 г. президиум ЦИТ утверждает новую структуру Изыскательного отдела; теперь в его составе три больших подразделения:
1. Энергетическая лаборатория (руководитель профессор М. О. Гуревич) с отделениями:
— биохимическим (доктор А. Ф. Гольдберг);
— неврологическим и невромеханическим (доктор Филимонов);
— активаторным (доктор Н. П. Рябушинская).
2. Сенсорная лаборатория — бывшая психотехническая (руководитель профессор А. А. Толчинский).
3. Диагностическая лаборатория — бывшая психо-физиологическая амбулатория (руководитель доктор Н. И. Озерецкий).
В последующие 3 года эти структурные подразделения ведут научно-практические изыскания по биологической линии, довольно стремительно наращивая свою значимость.
В 1925 г. в ЦИТ происходят значительные структурные преобразования общего характера. Зимой в состав акционерного общества «Установка» (см. 2.4) передаются учебный и консультативный отделы. В связи с этим несколько изменяется функция президиума ЦИТ; если раньше он был «административно-распорядительным» органом, то теперь рассматривается как «методико-распорядительный», отчасти заменяющий собой Комитет Изысканий и Установочное бюро.
В начале лета 1925 г. сообщается об изменении структуры изыскательного аппарата, в состав которого вводятся целых семь новых лабораторий: инструментально-мускульная, станочная, монтажная, скоростная, калибров (точности), двигательной культуры, психо-тренировок. На этом фоне продолжают работу сенсорная, энергетическая, социально-инженерная лаборатории. Сообщение о новой структуре в изученных материалах встречается однократно, и то в виде краткого сообщения в рубрике «Хроника ЦИТ» (более того, существующие биологические лаборатории в нём наименованы с ошибками). Последующей информации о работе и результатах этих новых структур нет. Возможно, имеет место излишне поспешная публикация некой предварительной концепции или идеи, на практике не реализованной.
В действительности же было воплощена следующая реструктуризация. В конце 1925 — 1926 гг. отдел изысканий переименовывается в отдел контроля (контроля подготовки рабочей силы), который должен «ведать контролем обработки рабочей силы как в процессе самой обработки, так и в конечной стадии этой обработки», причём такой контроль запланировано осуществлять по двум линиям — производственно-технической и биологической.
В структуре ЦИТ создаётся отдел установки (установки подготовки рабочей силы) под руководством члена президиума Института Николая Николаевича Иванова. Это в большей мере организационно-методологическая структура, курирующая вопросы разработки учебно-методического обеспечения курсов по разным программам и для разных специальностей; развития новых культурных установок; социальной инженерии.
Впервые научные лаборатории утрачивают единоначалие и разделяются между двумя самостоятельными структурами ЦИТ.
Также создаются два координационно-методических подразделения (отдел руководства базами с бюро связи, отдел руководства Ф. З. У.) для взаимодействия с внешними учреждениями по вопросам обучения. Под эгиду секретариата сводятся задачи планирования, экспертизы, систематизации научной работы, снабжения источниками, общественного воздействия.
К 1927 г. количество сотрудников ЦИТ возросло до 105 человек. В соответствии с новыми установками А. К. Гастева ЦИТ продолжает принципиальные функционально-структурные преобразования, прежде всего в части изыскательных подразделений. В качестве направлений работы ЦИТ установлены: металлообрабатывающая, текстильная, деревообделочная промышленность, строительство, военное дело, общетрудовое воспитание.
Руководящие структуры ЦИТ по-прежнему образуют Совет и президиум. Административно-хозяйственные задачи сосредоточены в управлении делами. В отдельную структуру выводится Секретариат. В свою очередь в его составе: плановый сектор, учёный сектор (учёт плановых и внеплановых заданий), сектор методического оформления, библиотека (с более чем 10 тысячами томов!), методический архив, учёный секретариат (с задачами переводов, реферирования и рецензирования научных трудов), издательство (в этот момент только на регулярной основе издаются «Установка рабочей силы», «Организация труда», «Бюллетень Совета Курсантов», «Деловая хроника ЦИТ»).
Основная структура ЦИТ теперь включает три отдела: установки, методического руководства подготовкой рабсилы, контроля.
В соответствии с новым подходом А. К. Гастева происходит функциональное разделение в науке: сбор первичных данных, их анализ, наконец синтез новых сущностей вменены в задачи разных структурных подразделений.
Основной научной структурой становится отдел контроля (заведующий — инженер Натан Маркович Бахрах), в составе которого:
1. Основные научные лаборатории:
— производственного контроля (вопросы качества продукции, производительности и контроль факторов обучения, контроль изделий курсантов, формирование квалификационной характеристики учащегося и квалификационных стандартов);
— биоинженерная для контроля организационного поведения рабочего на рабочем месте (появляется ближе к 1927 г.);
— психотехническая (контроль высших функций);
— энергетическая (позже разделяется на биохимическую (контроль утомляемости путем анализа метаболизма) и газообменную (контроль энергетического баланса организма);
— функциональной диагностики (контроль работы сердца и лёгких).
2. Амбулатория (медицинский и антропометрический контроль).
3. Бюро клинического анализа, в свою очередь состоящее из секторов:
— производственно-технического сектора (точностные и скоростные характеристики);
— причин брака (характеристика брака);
— биологического (характеристика биологических функций);
— связи с бывшими курсантами, работающими в производстве (изучения бывших курсантов ЦИТ в производстве и инструктажа их);
— общей статистики.
Бюро клинического анализа — принципиально новая структура, в задачи которого вменяется контроль режимов и результатов обучения курсантов, конструирование клинической системы биологического и производственного контроля курсов. Бюро занималось синтезом: оно «собирает данных всех лабораторий по изучению курсантов, устанавливает зависимость между различными показателями и делает на их основании выводы, которые явятся необходимым материалом для корректирования программ и методик обучения по различным цехам».
Согласно функциональном разделению сбор первичных данных осуществляется в лабораториях и амбулатории, обработка и предварительное обобщение — в бюро клинического анализа, соответствующие результаты передаются в отдел установки. В функции бюро клинического анализа также вменялась подготовка оперативно-методической документации, сводных материалов по объёму клинической работы по биологической линии.
В состав отдела установки входят:
— аналитико-методическое бюро — задачи анализа и синтеза, разработка учебных планов, программ и инструкционных карточек (заведующий К. И. Брагинский, ранее руководивший музеем);
— бюро методической экспертизы — программно-методическая экспертиза и экспертиза материалов бюро клинического анализа;
— социально-инженерная лаборатория — «экспериментирование методик», конструирование вещевых факторов обучения, разработка приспособлений для обучения, тренировочной аппаратуры и стандартизированных рабочих мест;
— техническое (конструкторское) бюро — конструирование программных заданий, конструирование и изготовление нужных приборов и технических средств для науки, обучения, производства и т.д.;
— бюро установочной документации — оформление материалов и методик по установленным стандартам, массовое изготовление и тиражирование документов, разработанных аналитико-методическим бюро.
Это подразделение обеспечивало внутренний контроль качества научной работы, верхнеуровневый синтез для окончательной трансформации научных результатов в прикладные методики, стандарты, педагогические средства и т. д.
Наконец, отдел методического руководства подготовкой рабсилы выполнял координирующие и информационные функции в сети официальных баз ЦИТ (на момент утверждения новой структуры таковых было 7 — две в Москве, в Ленинграде, Днепропетровске, Брянске, Минске, Ундоле) и более 250 фабрично-заводских училищ (ФЗУ).
В 1927 г. происходит очередной качественный переход: на посту руководителя научной работой ЦИТ К. Х. Кекчеева — врача сменяет инженер Натан Маркович Бахрах.
В функцию основного научного подразделения — отдела контроля — по-прежнему включены как технические, так и биологические аспекты. При этом надо подчеркнуть явную и всё более возрастающую организационную и идейную подчиненность биологических исследований инженерно-техническим задачам. Начать с того, что руководителем всех научных лабораторий теперь является инженер (Н. М. Бахрах). Задачи отдела, в формате производственного и биологического контроля, сформулированы максимально «технологично»: на первом плане — измерение, оценка, выявление причин брака и потерь, научное обоснование предложений по рационализации; на втором — отбор и подбор обучаемых, контроль производительности (скорости), утомляемости. Внутри ЦИТ отдел контроля идейно воспринимается как «лаборатория производственного контроля и ансамбль биологических лабораторий» — акценты очевидны.
Новая структура ЦИТ стала основой для реализации прорывного научного исследования — синтетического эксперимента (см. главу 12).
В целом указанная структура научных лабораторий сохранялась в ЦИТ до начала 1930-х гг. Вместе с тем, в 1928 г. амбулатория с задачами оценки профпригодности была дополнена отборочной комиссией для сортировки поступающих на курсы «на основе установленных медициной противопоказаний».
Также появилась новая динамометрическая лаборатория (руководитель тоже Н. М. Бахрах) с задачами изучения и измерения количества выполняемой человеком работы при разных типах движений в точки приложения усилий органов человека к тем или иным механизмам.
В контексте синтетического эксперимента ключевыми моментами стала трансформация биоинженерной лаборатории в лабораторию производственного поведения, а также появление бюро клинической документации для обработки и анализ всех результатов по отдельным видам клинического контроля (термин «клинический» имел в ЦИТ своеобразное значение, о котором также будет сказано в главе 11).
Кратко укажем, что функционально и методологически отдел контроля рассматривался ещё и как «трудовая клиника», осуществлявшая три вида контроля:
1. Производственно-технический: контроль результатов подготовки рабсилы (в конкретных обработках изделий), выявление технических требований к квалификации. Исполнитель — лаборатория производственного контроля.
2. Биологический: контроль измерений, происходящий в организме обучаемого в процессе обучения и выявляющий биологические требования к квалификации. Исполнитель — амбулатория, лаборатории функциональной диагностики, газообменная, биохимическая, психотехническая.
3. Организационно-производственный — контроль производственного поведения обучаемого. Исполнитель — био-инженерная лаборатория.
Получаемые результаты должны были анализироваться комплексно, обобщаться и использоваться для усовершенствования «установки и обработки» курсантов. Это объединение работы всех структур с выяснением взаимоотношений между техническими и биологическими результатами обработки выполняло бюро клинического анализа.
Систематизированные научные результаты применялись «для воздействия» на процессы обучения и контроля. Следует отметить наличие трёх «генеральных потоков контрольных данных»: прямого из процесса обработки через лаборатории в бюро клинического анализа; обратного внешнего из бюро к процессу обработки, обратного внутреннего — к отдельным контрольным единицам.
Идея «трудовой клиники» детально будет изучена далее (см. главу 11).
В начале 1930-х гг. структура ЦИТ вновь начала претерпевать изменения, связанные, преимущественно, со сворачиванием биологического направления и полным замещением его инженерно-технологическими изысканиями и работами. Однако эти аспекты уже не представляют детального интереса в рамках данного исследования.
В этот период число штатных единиц ЦИТ достигает 140.
В целом с 1930 г. основные разделы работы ЦИТ включают: подготовку кадров, организацию труда, организацию и техническую реконструкцию производства, проектировочные работы (проектирование рабочего состава, организации труда и учебно-установочных цехов), клинические работы по измерению производственных и трудовых процессов, производственный политехнизм. Ведётся внедрение «функционально-расчлененной организации труда», базирующейся на дифференциации и специализации работ, также разрабатываются квалификационные характеристики.
Биологическое направление ещё присутствует, но уже стремительно отходит на второй план: «Клинические работы проводятся ЦИТ’ом по измерению организационно-производственного поведения работника, а также по контролю работы организма работающего. В то же время клиника разрешает задачу сочетания показателей организационного и биологического порядка». На этом фоне ведущей формой работы становятся именно проектировочные работы на предприятиях, а контроль становится сугубо техническим и организационным.
В конце концов, к середине 1930-х гг. биологические лаборатории ЦИТ ликвидируются. Процессы и причины, которые привели к этому, подробно изучены далее…
Научные исследования — это, несомненно, ключевой компонент деятельности Центрального института труда в изучаемый период. Можно сказать, его ядро. Вместе с тем, колоссальный и весьма важный объём практической работы осуществлялся по консультативной и учебной линиям. Во многом именно последняя, за счёт масштабности и успешности, позволила Институту действительно подтвердить и удержать статус центрального учреждения по вопросам научной организации труда. На определённом этапе развития научная и практическая деятельность были разделены за счёт создания отдельного юридического лица.
Комментарий автора
Реконструкция эволюции структуры научных подразделений ЦИТ вызывает определенные сложности. С одной стороны, объективные делопроизводственные материалы есть, но увы, не для всех исторических периодов. С другой стороны, существовало не только структурное выделение подразделений, но также и функциональное (в том числе, по-видимому на некотором этапе до формального утверждения новых подразделений). Более того, имело место и «рабочее» структурирование: сотрудники использовали наименования подразделений по своему усмотрению, исходя из привычки, понятий об их предназначении и т. д. Более того, такие «рабочие» наименования иногда попадали и в официальные публикации. Яркий пример тому –использование обобщающего наименования «биологические» лаборатории вместо «психофизиологические». До определенного периода это название было, фактически, жаргонизмом сотрудников ЦИТ. Другой пример: Е. А. Петров в 1929 г. пишет об измерениях физической силы в физио-технической лаборатории, при том, что такого подразделения уже 5 лет как не существует, а соответствующие исследования ведёт динамометрическая лаборатория Н. М. Бахраха. Видимо, автор использует устоявшееся и привычное лично для него название. В 1925 г. в хронике ЦИТ сенсорную лабораторию называют психологической, а энергетическую физиологической. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев, с использованием корпуса взаимно проверяемых источников, эволюцию структуры научных подразделений ЦИТ удалось восстановить довольно достоверно.
2.2. Консультативная линия
Дать ЦИТ’овскую установку живому составу предприятия это значит заставить предприятие постоянно бороться за свое развитие и творчество.
А. К. Гастев, 1925 г.
Постоянной формой работы ЦИТ с предприятиями и учреждениями были консультации, в том числе с последующим представлением услуг по, так называемой, реконструкции (реорганизации) предприятий.
Соответствующие задачи решал консультационный отдел под руководством Александра Гурьевича Визгалина, затем В. Л. Колесникова, а после него — Ф. А. Кутейщикова. Впервые эта структура появилась в составе Института как консультационное бюро по вопросам технического нормирования труда в январе 1921 г. («именно здесь происходит ответственное практическое соприкосновение лабораторных изысканий с настоящей жизнью»). В августе 1922 г. бюро преобразовано собственно в консультационный отдел, что послужило началом уже систематической консультационной деятельности.
В целом процесс консалтинга включал обследование предприятия («собирание фактического материала по организации» и получение «положительного знания об организационных системах»), выработку предложений по улучшению, их непосредственное воплощение.
«Диагностика организационной работы» осуществлялась по стандартизированной методике с использованием анкетирования, хронометража, фотографирования рабочего дня и т. д. Фактически представляла собой описательное и аналитическое научное исследование. Реконструкция включала как обоснованные мероприятия по усовершенствованию производственных процессов, кадровой структуры, материально-технического обеспечения, рационализации рабочих мест, нормированию, так и целевую подготовку кадров (то есть обучение нужных сотрудников на курсах ЦИТ) и последующую их оптимальную расстановку.
При поступлении заказа на консультацию, в ЦИТ формировалась группа сотрудников, отправлявшихся для непосредственной работы на территории заказчика. Такое представительство ЦИТ на конкретном консультируемом предприятии могло быть реализовано в трёх эволюционирующих формах:
1. Опытная станция — группа сотрудников ЦИТ, которая только наблюдает, исследует и разрабатывает (но не реализует) методику улучшения; такая форма работы была распространена в 1920–1922 гг.; первая опытная станция появилась в 1920 г. на заводе «Электросила №5» (техническим руководителем которого в этот момент также был А. К. Гастев), далее — на заводе «Искромет» и в Центросоюзе.
2. Орга-станция — эта форма появилась в 1923 г., она предназначалась для активной реорганизационной работы. Группа сотрудников ЦИТ подготавливала проекты улучшения, собирала нужные данные, проводила пробные работы, но не обладала административной властью. То есть орга-станция, фактически, готовила полный материал по реорганизации предприятия, проводила практические мероприятия, но не имела возможности добиться полной реализации намеченного. Тем не менее, появление орга-станций обеспечило переход от простых консультаций к систематическому инструктажу персонала.
3. Орг-бюро или распределительное бюро — в этой форме, появившейся в 1924–1925 гг., была устранена проблема отсутствия руководящего влияния. Здесь сотрудники ЦИТ наделялись административной властью и даже входили в органы внутреннего управления, например, как внешние совместители.
Переход от обследования к консалтингу, а затем и к полноценному руководству предприятием для его улучшения очень наглядно объяснялся выражением из материалов ЦИТ: «Непосредственное проведение реорганизации носит волевой характер. Его главным объектом является психология личностей людских масс». Безусловно, что простая констатация фактов и предложений в подавляющем большинстве случаев не приводили к положительным изменениям и обесценивали работу ЦИТ. Поэтому со временем официальное включение, пусть и временное, сотрудников Института в руководящие структуры конкретных предприятий стало обязательным фактором достижения успеха реконструкции.
Примечательно, что концепция «узкой базы» (см. главу 3) применялась не только в научной, но и в консультативной работе ЦИТ. Соответствующая «доктрина» звучала так: «ограничение работы строго очерченной узкой базой, реорганизаторская работа на первых порах — только в пределах этой узкой базы; первым объектом работы избираются участки оперативно-деловые с повторяющимися актами и повышенным субъективным напряжением в работе; реорганизационные группы должны состоять из строго согласованных между собой сотрудников, их главным качеством должна быть способность реализовать сделанные выводы; работа над оперативно-исполнительскими участками дает ключ к работе распорядителей, а за ней и планирующей».
Со временем подход к организации и методике консультаций приобретал всё более научный характер: «механика процесса реконструкции» предприятий включала 3 метода: аналитический (разложение производства на отдельные операции, приёмы, движения и элементы движения), синтетический (на основе аналитического материала — связывание отдельных движений и приёмов производственного процесса в операции и комплексы операций), методы конструирования приспособлений (для формирования производственного поведения рабочей силы)».
Можно сказать, что во второй половине 1920-х гг. в ЦИТ началось формирование управления (менеджмента) как науки.
Была сформулирована оригинальная организационная методика ЦИТ из восьмичленной программы установки производства, дающей возможность «органического внедрения в предприятия, на базе перевоспитания его рабочего состава и конструирования его оборудования».
Крайне важно отметить, что весь консалтинг строился на работе ансамбля научных лабораторий ЦИТ, который совместными усилиями разрешал «каждый конкретный вопрос» для данного обследуемого предприятия (нормирования, оптимизации процессов, расстановки и квалификации персонала и проч.). «Техническая лаборатория дает спецификацию инструмента, которым наилучшим образом может быть выполнена работа; био-механическая лаборатория устанавливает форму и продолжительность трудовых движений; физиологическая лаборатория установит пределы для интенсивности труда и наиболее выгодные условия в смысле экономии работы; психотехническая подберет нужных и подходящих рабочих; педагогическая — научит их работать; социально-инженерная — придаст всему этому нужную организацию». Как следует из этого свидетельства очевидца, в 1920-е гг. консалтинг ЦИТ строился не просто на научной, а на психофизиологической основе.
Итак, консультационная и реорганизационная работа ЦИТ носила научный характер. Обследуемое предприятие или учреждение буквально «отдавалось вместе с его материальным оборудованием и людским инвентарем в полное лабораторно-экспериментальное испытание ЦИТ’у». Точнее сказать, каждое предприятие подвергалось системному анализу, результаты которого служили научным обоснованием предложений по улучшению.
А. К. Гастев требовал, чтобы на предприятиях научная работа велась «в унисон с исследовательской лабораторной работой», а кроме того именно на опытных предприятиях и орга-станциях должны были «делаться опыты проведения тех синтетических выводов, которые добыты или лабораторным или кабинетным путем».
С точки зрения направления научных изысканий на орга-станциях ЦИТ преимущественно проводились исследования организационно-технического характера. Осуществлялось детальное обследование предприятия, отдельных структурных подразделений — «организационной структуры, функций и штатов». Основными методами служили хронометраж и фотографирование рабочего дня и/или рабочего места. На основе собираемых таким образом объективных данных проводили классификацию работ и инструментов, разрабатывали практические предложения по реформированию и реорганизации предприятия, улучшению производственных процессов, нормированию, оптимизации документооборота, позднее — по расстановке, объёмах и характере необходимого обучения персонала.
Однако в ряде случаев на орга-станциях проводились и психофизиологические исследования.
Впервые они были проведены в 1921 г. на орга-станции при заводе «Электросила №5». Помимо этого, в 1922 г. такие же психотехнические и физиологические изыскания велись в учреждении «Центросоюз» (Всероссийский центральный союз потребительских обществ), на заводе «Искромет», предприятии «Хлебопродукт»; осуществлялись психотехнические, физиологические и биомеханические исследования сотрудников оптового склада Государственного треста фармацевтической промышленности (Фарматреста). Также планировалось выполнять соответствующие изыскания на радиотелеграфном заводе, во «Всеобуче» и «авиа-школе».
Крайне печально, но результаты изысканий по биологической линии, проводимых в условиях реальных заводов и учреждений, практически не сохранились. Видимо, они использовались в отчётной документации, предоставляемой заказчиком консультационным отделом Института, а также использовались для внутренней работы при формировании предложений по улучшению конкретного предприятия. Некие результаты, по-видимому, докладывались на конференциях опытных станций (например, в мае 1923 г.), однако, содержание этих выступлений не опубликовано.
Сам А. К. Гастев скупо сообщал, что психотехнические и физиологические исследования на орга- и опытных станциях включали исследование труда различных категорий рабочих в производственной обстановке, испытания лётчиков, составление профессиональных психограмм.
Фактически единственное более-менее детальное описание соответствующего исследования опубликовано в лекциях по физиологии труда К. Х. Кекчеева.
Летом 1924 г. на орга-станции при одном из заводов Государственного треста по строительству мельниц и зерновых элеваторов («Мельстроя») велись изыскания с целью улучшения работы трамбовщиков. Суть работы заключалась в том, что рабочий передвигался по форме, содержащей массу для изготовления искусственного жернова, и ударял по ней тяжелой трамбовкой (20 кг) с частотой 100 ударов в минуту. Собственно, трамбование продолжалось 30 секунд, затем следовали 1,5–3 минуты отдыха; изготовление одного жернова требовало 6–8 таких циклов. Работа отличалась утомительностью, рабочие часто болели и выходили из строя.
Физиологическое исследование на орга-станции вёл сотрудник ЦИТ доктор Н. К. Верещагин. Он «исследовал частоту пульса у трамбовщиков и нашёл, что после трамбования пульс у рабочих доходил, в среднем, до 150 ударов в минуту, при чём пульс делался плохо ощутимым и так называемым нитевидным. Дыхание становилось неровным, и наблюдалась одышка. Оказалось также, что отдыхи были настолько короткими, что учащение пульса к концу отдыха не исчезало, а оставалось выше, чем до работы. Давление крови поднималось процентов на 25–30 по сравнению с нормальным давлением. При медицинском осмотре оказалось, что рабочие страдают болезнями сердца, при чём эти болезни наблюдаются также и у тех рабочих, которые работали всего несколько месяцев».
Доктор рекомендовал снизить темп ударов до 70 в минуту. После этого обследование рабочих выполнено повторно. Обнаружилось, что производительность труда трамбовщиков возросла, сила каждого удара стала больше, а с физиологической точки зрения «вредное действие на сердце почти совершенно исчезло <…> утомление рабочих стало значительно меньше, а пульс, учащавшийся во время самого трамбования, к концу периода отдыха вновь становился нормальным. Кровяное же давление повышалось не на 25–30%, как это было раньше, а только на 8%».
Из текста следует, что физиологическое исследование на орга-станции включало общий медицинский осмотр, измерение частоты пульса и артериального давления до и после работы, в том числе в течение обычных коротких перерывов между трамбованиями. По результатам первичного обследования были сформированы рекомендации по изменению темпа трудовой операции, после чего проведено повторное (контрольное) обследование. Результативность внедрения предложений оценивали как с организационной точки зрения (производительность труда), так и с физиологической (изменения динамики показателей деятельности сердечно-сосудистой системы).
В период 1920–1924 гг. осуществлены работы по консультированию и реорганизации 46 предприятий и учреждений; по данным иного источника: в период с 1922 по 1927 гг. — 75 организаций.
Для сотрудников опытных и орга-станций, а также баз Института (в частности, в 1927 г. таковых было 8, из них 2 в Москве — «Петровская» и «Рогожская») проводились периодические конференции с целью заслушивания отчётов, обсуждения итогов работы, организационных вопросов и проблем размещения курсантов на предприятиях, общего проведения «доктрины ЦИТ»; почти что обязательным элементом таких конференций были экскурсии по Институту.
Очень обширной была география консультативных услуг. Помимо Москвы велась работа с предприятиями Московской области (с 1923 г.), а с 1924 г. — Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы. При этом запросы поступали из Тульской, Ивано-Вознесенской, Владимирской губернии, Татарстана, Приокского округа, Нижнего Новгорода, Грозного, что буквально подталкивало администрацию ЦИТ к определенным структурным решениям.
Консультации и реорганизации ЦИТ проводил в очень разных предприятиях: от Трёхгорной мануфактуры и завода «Металламп» до мастерских Таганской тюрьмы и ГУМа. Отметим, что в числе клиентов ЦИТ был и Городской отдел здравоохранения г. Москвы (Мосздрав).
В литературе освещена консультационная, учебная и организационно-методическая работа ЦИТ на целом ряде предприятий, в частности, уделено внимание таким гигантам, как Магнитогорский металлургический завод, Сталинградский тракторный завод.
Вместе с тем, воспользовавшись возможностью, нам бы хотелось уделить внимание взаимодействию ЦИТ с предприятиями угледобывающей и металлургической промышленности Донбасса. В литературе эта тема практически полностью забыта.
Фактически с момента своего создания ЦИТ наладил контакт с Институтом научной организации производства под руководством Павла Матвеевича Есманского (р. 1887) в г. Таганроге, это учреждение рассматривали как основное по НОТ на предприятиях Донбасса. Был заключён договор о сотрудничестве, проводился обмен визитами и участниками конференций, шёл обмен материалами, согласовывались совместные методические планы. Примечательно, что в одной из дискуссий с участием А. К. Гастева в ВЦСПС о лучших путях развития и функционирования таганрогского института присутствовал Ф. А. Сергеев (Артём) — основатель и глава Донецко-Криворожской советской республики. Персонал таганрогского института был сугубо инженерно-технический, работы велись соответственные; есть лишь однократное упоминание о психофизиологических исследованиях труда администраторов. Хотя реализация НОТ «в производствах Донбасса» и декларировалась, реально коллектив П. М. Есманского работал на различных предприятиях Таганрога, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа, в числе которых не были ни металлургических заводов, ни угледобывающих шахт — ключевых для Донецкого бассейна.
В 1923 г. ЦИТ систематически направлял литературу в города Юзовку (Сталино) и Бахмут, контактировал с инициативной группой по НОТ при «Донецком Техникуме» (причём именно эту группу отмечали, как наиболее активную и результативную среди прочих заинтересованных лиц).
В период 14 июня — 14 августа 1924 г. состоялась специальная командировка представителей ЦИТ и «Установки» на юг СССР для пропаганды методики Института, установления деловых связей, «приспособления южного аппарата ЦИТ’а и „Установки“ к новым задачам». Интересно, что для этого мероприятия удалось получить в народном комиссариате путей сообщения отдельный железнодорожный вагон. Его оснастили тренировочными аппаратами, книгами, выставочными витринами, фонарём с наборами диапозитивов, плакатами, то есть использовали как средство агитации. Интересно, что за аренду вагона цитовцы расплачивались лекциями и выступлениями для сотрудников железных дорог по пути следования. Непосредственно в Донбассе делегаты провели выяснения «работ, связанных с южной металлургией» и «значения работ ЦИТ’а в области угледобывающей промышленности». Они посетили предприятия Донецкого государственного каменноугольного треста («Донугля»), Юзовский металлургический завод (Юзово/Сталино, ныне г. Донецк, Донецкая Народная Республика), шахту Лидиевка (посёлок Рутченково), фабрично-заводские училища обоих населенных пунктов. Здесь цитовцы обнаружили высокий уровень механизации на фоне плохой организации труда: «несомненный рост производства, полное отсутствие методического руководства. Машина растёт количественно, но не качественно».
В целом в середине 1920-х гг. ЦИТ получал запросы на создание представительств в Донбассе, однако сотрудничество ограничивалось обучением рабочих-металлистов и приёмом многочисленных экскурсий. В частности, зимой 1924–1925 гг. в ЦИТ обучались 39 человек, командированных ЦК профсоюза горнорабочих, преимущественно из Донбасса. Помимо учёбы они принимали участие в научных исследованиях под руководством профессора А. А. Кулябко.
В 1925 г. в Ростове-на-Дону организовали Северно-Кавказское отделение ЦИТ, а при нём — совет инструкторов для руководства работой по введению методики в фабрично-заводских училищах Северного Кавказа и Донбасса.
Первые предметные переговоры о сотрудничестве ЦИТ с представителями горнодобывающей промышленности страны, в том числе «Донуглём», прошли в 1928 г. После ряда задержек, видимо субъективного характера, 3 июля 1929 г. «Донуголь» и «Установка» заключили специальный договор с целью разработки повышения качества и производительности труда в механизированных лавах путём разработки методов подготовки и установки рабочей силы на основе рационализации: основных трудовых приёмов на тяжёлых врубовых машинах, электрических свёрлах, конвейерах, скреперах и по креплению лав; организации комплектного труда всех рабочих лавы.
«Установка» создала при ЦИТ специальную горную аналитико-методическую бригаду в составе ответственного руководителя — члена президиума Института, технических работников, а со стороны «Донугля» — трёх инженеров, нескольких (по числу методик) рабочих для подготовки в качестве инструкторов при проведении эксперимента. В качестве консультантов привлекались сотрудники ЦИТ и «Установки», специалисты Главного горно-топливного и геолого-геодезического управления, самого «Донугля», «Горной Академии», «Донецкой Опытной станции НТУ». Бригада вела исследовательские, методические, экспериментальные, организационные и практические работы; на научной основе создавала методики, документацию и стандарты подготовки и расстановки рабочей силы. При шахте №1 Петровского рудника был создан установочный цех для практических изысканий, проверки и улучшения методик. Работы велись с лета 1929 до осени 1930 гг.
Далее, был заключён ещё один договор между ЦИТ/«Установкой» и шахтоуправлениями в г. Кадиевке (ныне г. Стаханов, Луганская Народная Республика) — Кадиевским, Первомайским, Голубовским.
Благодаря этому в Кадиевке организовано «горное отделение ЦИТ», занимавшееся организацией механизированного очистного процесса с равнением всех очистных работ на непрерывную (круглосуточную), с максимальной технически возможной производительностью, работу врубовой машины. Работы велись по направлениям: обеспечения исправности орудий труда; проектировки и сооружения подземных и надземных мастерских; развития системы технической оснастки работ; организации работ и функционального разделению труда; стандартизации; подготовки, инструктажа и установки рабочего состава.
В состав горного отделения входили проектно-методическое бюро, конструкторское бюро, мастерская портативных приспособлений.
Изыскания и реорганизация велись на шахтах имени Ильича, имени ОГПУ, «Мария», №22. Также, работы по техническому нормированию проводились ЦИТ/ «Установкой» на шахте «Артём» Северно-Кавказского треста каменноугольной промышленности, шахте №1 Красногвардейского рудоуправления Сталинского района.
Интересно, что подчинение методическому руководству и организационным указаниям ЦИТ как со стороны непосредственно шахт, так и обеспечивающих предприятий (в т.ч. научно-исследовательской станции в Варварополье) обеспечивалось централизованно, в приказном порядке.
Результаты работы горной аналитико-методической бригады и горного отделения ЦИТ были высоко оценены в 1931 г. Высшим советом народного хозяйства СССР. Специальное предписание сделало обязательной их публикацию, обязательное внедрение в Донбассе и дальнейшее масштабирование в угледобывающей и рудной промышленности по всей стране.
В 1931 г. ВСНХ СССР принял решение установить между ЦИТ и промышленными предприятиями ведущих отраслей промышленности системное взаимодействие, находящееся под особым контролем. Институту вменялись работы по проектированию рабочего состава и определению его квалификаций, развёртывание учебно-установочных цехов на предприятиях, методическое обеспечение и организация подготовки кадров и проч. Среди крупных объектов, которым вменялось в обязанность заключить с ЦИТ соответствующий договор, был Краматорский машиностроительный завод.
В 1935–1936 гг. в ЦИТ специально изучали и публиковали методические аспекты «стахановских» методов организации труда в угледобывающей промышленности. Отметим, что «стахановский» подход во многом базировался на принципах и концепциях самого ЦИТ в аспекте функционального разделения труда, инструктажа персонала, тщательной организации рабочего места.
В целом данная тема далеко не исчерпана, но она выходит за рамки текущей работы и явно ждёт своего исследователя.
2.3. «Новая индустриальная педагогика»
Коридоры, лесенки,
Веселые песенки,
В окнах алая заря,
Верстаки дубовые,
Напильнички новые,
Молодые слесаря…
Песенка курсантов ЦИТ
Важной линией работы ЦИТ была учебная. Именно масштабная образовательная и педагогическая деятельность обеспечила Институту государственное и общественное признание, финансовую стабильность и возможность развития.
При создании Института в его структуре сразу было сформировано школьное, а затем педагогическое бюро, следующим шагом разделившееся на педагогическую лабораторию (в составе изыскательных подразделений) и самостоятельный учебный отдел («пропитанный методикой, которая выношена в лабораториях и учтена практикой»).
В 1922 г. школьное бюро возглавлял инженер З. Н. Бабий. Затем обеими образовательными структурами руководил Евгений Александрович Петров (работал в ЦИТ в 1922–1929 гг., позже — в Академии авиационной промышленности).
Педагогическая лаборатория, в тесном взаимодействии с иными научными структурами ЦИТ, работала над созданием «системы обучения пролетариата трудовым операциям», развитием и стандартизацией методов трудовой тренировки, а также изобретала и конструировала разнообразные шаблоны, тренировочные инструменты и аппараты (в частности, для тренировки кистевого, локтевого, и плечевого удара с приспособлениями для «прививания точного, правильного удара», работы стамеской и т.д.). Со временем, в ней была создана методика обучения трудовым операциям, основанная на детальнейшем анализе операций, воспитании нервно-мышечной памяти, автоматизмов темпа и координации движений, на постепенном усложнении преподаваемого материала.
В лаборатории формировались педагогические инструкции, учебные модели и инструменты, затем передаваемые в учебный отдел для непосредственного применения. С 19 октября 1923 г. при лаборатории функционировал научно-методический «Семинарий по трудовым установкам», организованные по инициативе А. К. Гастева и рассматривавший вопросы формирования рабочей силы в разные времена и в разных организациях.
Многие сотрудники научных подразделений ЦИТ вели педагогическую деятельность по совместительству в иных учреждениях Москвы, в том числе и по вопросам научной организации труда. В частности, кафедру и кабинет по НОТ в Центральном Институте организаторов народного просвещения им. тов. Литкенса фактически организовал и возглавил сотрудник ЦИТ профессор А. А. Толчинский.
Учебный отдел непосредственно занимался обучением сотен и тысяч курсантов. В первые годы в составе отдела функционировало методическое бюро, взаимодействующее с педагогической лабораторией. Образовательная деятельность была структурирована по отдельным курсам, каждому из которых была присвоена определенная литера. В разные периоды обучение рабочих разных специальностей, служащих, руководителей, специалистов по НОТ велось на курсах:
— «А» — промышленных администраторов; вначале это были курсы подготовки руководителей — инструкторов-операторов («подготовлять кадры установщиков для наладчиков оперативных работ завода, фабрики <…>, имея в виду ускорение и уточнение обработки вещей. Эти наладчики будут создавать рациональные условия для работы и т.е. непосредственно показывать «как надо работать»; инструктор-оператор должен иметь «изощрённую наблюдательность, тонкий аналитический ум и конструктивные способности»), инструкторов-организаторов, инструкторов-планёров, которые должны были воспитывать «цельную уверенность в работе, непреклонную административную волю и особую хозяйственную изворотливость»; затем — это основной курс по подготовке рабочей силы (квалифицированных рабочих разных специальностей).
— «Б» — промышленных бухгалтеров («создать из бухгалтера не бездушного архивариуса, а активного организатора хозяйства»), затем — это основной курс для подготовки инструкторов-установщиков производственных операций в цехах, специалистов по контролю качества (контролёры, браковщики, нормировщики), руководителей, инструкторов.
— «В» — в 1923–1925 гг. подготовка установщиков производственного потока («всей массы обработок в цехах»); в 1928–1929 гг., подготовка «производителей аналитико-методических и клинических работ» в форме «небольших бригад» для обслуживания внутренних потребностей (фактически подготовка кадров для собственных научных подразделений ЦИТ), а также, чтобы «дать сотрудников внешним организациям, занимающимся вопросами рационализации и вопросами подготовки рабочей силы».
— «И» — инструкторов производства; первоначально так называли всех курсантов по рабочим специальностям, а не только руководителей, затем подготовку квалифицированной рабочей силы перенесли на курсы «А», здесь же остались именно инструкторы.
— «О» — общеобразовательные науки по НОТ, курсы для подготовки теоретических работников и преподавателей в области научной организации труда.
Особое внимание А. К. Гастев уделял подготовке руководителей младшего и среднего звена — разнообразных «установщиков» и инструкторов. Он стремился «создать шеренгу неумолимых упрямцев — организаторов, которые были бы изобретателями на базе данного оборудования, постепенно его улучшая, организуя, втягивая его в новые скоростные нормы, и уже тем самым создавая неумолимые предпосылки постоянного механизирования и машинизирования производства».
Отдельным аспектом образовательной деятельности были курсы повышения квалификации для сотрудников ЦИТ и акционерного общества «Установка». Судя по всему, такие мероприятия проводились нерегулярно, вероятно по мере некой необходимости. С 15 ноября 1926 по 19 января 1927 гг. состоялся один из таких курсов, включавший 44 доклада-лекции, в том числе по биологическому, биохимическому и энергетическому контролю, амбулаторному и психотехническому отбору, методиках работы бюро клинического анализа, а также, что особо интересно, по статистическому анализу данных. Очевидно — это курс повышения квалификации для сотрудников научных подразделений ЦИТ.
В 1923 г. в составе учебного отдела видели «четыре факультета»: инструкторов производства, учёта и калькуляции, общеобразовательных наук по НОТ, администраторов. А. К. Гастев даже полагал, что «вырисовывается конструкция будущего Университета Труда».
Основу учебных программ составляла методика организации трудовых установок; соответственно изучались рабочий инструмент, рабочее место, технические приспособления, приёмы работы, порядки обследования обработочных элементов, регламентирование времени обработочных элементов (хронометраж). Среди вспомогательных предметов были: рисование и черчение, техника измерений и вычислений, методика графических изображений, калькуляционный учёт, тактика и стратегия реорганизационного действия. Примечательно, что курсантов обучали и по биологическому направлению. В число вспомогательных предметов входила анатомия и физиология двигательного аппарата в покое и работе, в программу курсов «А» и «Б» — предмет «психофизиология труда», а в программу курса «О» — «биомеханика», «неврология движений», «психотехника», «физиология труда».
Кадровую основу учебного отдела составил «солидный контингент» старших инструкторов — бывших рабочих ленинградских заводов («где была наиболее широко в России поставлена научная организация труда, и где был сосредоточен весь цвет революционного пролетариата»).
Очень системно и очень скрупулёзно велась методическая работа. Для каждого курса создавался стандартизированный комплект методических материалов — так называемая «аналитическая карта», содержащая его продолжительность, скоростные и качественные характеристики, выполнение технических требований, брак, программно-методическое содержание курсов, квалификационные характеристики, требования и указания для инструкторского персонала, необходимый режим труда и отдыха.
Примечательно наличие методических указаний для преподавательского состава, в частности — инструкций, предписывающих «поведение, указывающие ему даже те слова и фразы, с какими он должен обращаться к ученику», а также инструкций для установщика с точными указаниями как разместить и подготовить оборудование (рабочие зоны, станки), какой выбрать инструмент, как подготовить материал и полуфабрикат.
Объём и план обучения определялся квалификационной характеристикой, разработанной для каждой специальности и включавшей рабочий тип, трудовые нормы, характер организационно-производственного поведения, необходимые знания. Характеристики создавались на основе детального анализа соответствующего производственного процесса, то есть в ходе предварительного научного, в том числе психофизиологического, исследования. Таким образом, в основу «рациональной трудовой педагогики» был положен «принцип инженерного расчёта квалификации». Это была педагогическая инновация.
Во время обучения вёлся непрерывный контроль, причём как самих курсантов, так и результативности применяемых учебно-методических материалов и подходов. По итогам контроля осуществлялось постоянное циклическое обновление программ, карточек и оборудования.
Обучение включало непосредственное освоение конкретных навыков (тренаж), а также культурную установку курсантов, включающую привитие трудового режима: чистоты и порядка на рабочем месте, его рационального планирования; трудовой дисциплина; упорядочивания режимов труда и отдыха; обязательной двукратной гимнастики — утренней «зарядной» («создать психологические и физиологические предрасположения для трудового дня»), вечерней «выпрямляющей» («напитать кровью особо уставшие или мало деятельные части организма»). Курсантам прививалась «трудовая культура» как достижение наибольшей производительности труда посредством особого распределения трудовых усилий и трудовых функций.
Длительность курсов в разные периоды и по разным программам составляла 2–3, 6, 9 и даже 24 месяца. В любом случае, она была принципиально меньше, чем все иные программы подготовки. Скорость и качество подготовки стали уникальными конкурентными преимуществами ЦИТ.
Интересно, что средний возраст курсантов ЦИТ составлял 22 с половиной года, при этом к категории от 14 до 19 лет относились 25,8%, а к категории более 40 лет — 0,5% обучающихся; 4% курсантов составляли женщины. Больше половины были беспартийными (64,8%). Подавляющее большинство учеников ЦИТ не имели образования, только 21,4% получили некий вариант среднего, а 0,8% высшего образования.
Обучение в ЦИТ, говоря современным языком, было строго практико-ориентированное, да к тому же ещё и симуляционное. В педагогических целях всё огромное здание на Петровке планомерно превращалось в промышленное предприятие, наполняясь верстаками, инструментами и станками. Прежде всего в подвальном помещении, ранее заваленным строительным хламом, был развёрнут монтажный цех. Затем появились слесарный и строительный цеха. К 1927 г. в здании были установлены 44 токарных и фрезерных станка, в том числе в главном зале ЦИТ. Но практическое обучение велось не только для рабочих специальностей. Для курсов промышленных бухгалтеров была выстроена «имитированная контора, в которой и совершаются определенные учётные операции».
В 1926 г. по «конструкторскому эскизу А. К. Гастева» была сконструирована «конвейерная система» для «тренировки качества и количества движений <…> для скоростной тренировки, также для скоростных испытаний, а также для тренировки внимания и скорости реакции». Отметим, что эта система использовалась не только для обучения, но и в научных исследованиях «био-инженерной клиники» (см. главу 11). В целом работа биологических лабораторий шла «под знаком непосредственной связи с методической работой ЦИТ’а по подготовке рабочей силы».
Для обучения конструировались и постоянно применялись различные тренажёры и специальные приспособления — о них положительно отзывались современники, их воспроизводили в учреждениях по НОТ (как в стране, так и за рубежом), немало известно об этих интереснейших устройствах современным историкам. Однако в контексте нашего исследования важно отметить специфический момент: уже к 1923 г. собранные из деревянных и медных деталей тренажёры для обучения опиловке имели автоматические счётчики, отмечавшие правильность движения инструмента. Со временем этот подход эволюционировал в целую систему автоматических регистраций поведения и физиологических реакций рабочего (см. главу 12).
В педагогических подходах А. К. Гастев реализовывал идею совершенствования работника путем тренировки, рассчитанного формирования трудовых умений, качеств и знаний с помощью специальных приспособлений, в максимально реалистичной обстановке — в учебно-установочных цехах. В основу подготовки рабочей силы был положен научный подход, то есть изучение и анализ различных производств, отдельных рабочих операций и важнейших приёмов труда. Каждую конкретную рабочую операцию разделяли на простые элементы, каждый из которых изучали и совершенствовали, затем создавали программу обучения. То есть и в педагогике ЦИТ следовал концепции «узкой базы».
Таким образом, вся методика обучения выстраивалась на основе научных исследований: изучение квалификации операций сменялось анализом определенных операций, а затем «построение этих операций по типу постепенных биологических и организационных установок с целью создать быстрое и экономное овладевание данным движением, данной рабочей операцией».
На ранних этапах педагогические наработки в ЦИТ упорядочивали в виде аналитико-тренировочного метода: «Мы подходим аналитически ко всякому производству, к каждой работе и отыскиваем основные составные части её операции т.-е. такие трудовые действия, которые производятся на данном рабочем месте определенным инструментом и определенными трудовыми приёмами. Каждая операция при последующем анализе её представляется сложным комплексом внутренних элементов. Вынося наиболее характерные и существенные из этих элементов за скобки, объединяя, с другой стороны, отдельные элементы разных операций в однородные группы, мы ставим целью в кратчайшие сроки пройти главные приёмы — как вводную тренировку, вводные упражнения; на основе этих последних, когда имеются на лицо основные предпосылки подход к различным операциям уже много облегчен, сводясь к ознакомлению со специфическими их оттенками». Метод явным образом противопоставлялся «модному „психотехническому подбору“», так как педагогические программы основывались на результатах научных исследованиях и фокусировались на «упражняемости». Тем не менее, зачислению на курсы предшествовало обязательное обследование в психофизиологической амбулатории ЦИТ (см. главу 9).
На основе указанного метода за годы работы в ЦИТ выработали оригинальную педагогическую методику, которая позиционировалась как основное достижение Института, позволившее организовать быструю, качественную и очень масштабную подготовку квалифицированной рабочей силы для страны. Да так оно и было.
Руководящими принципами педагогической методики ЦИТ стали воспитание максимума автоматизма в выполнении трудовых функций и развитие организационно-аналитических навыков.
Основные же положения методики следующие:
1. Объём подготовки выявляется путём анализа производственного процесса и излагается в квалификационной характеристике.
2. Точное «приноровление» подготовки к требованиям производства.
3. Практическое, трудовое обучение (тесная связь между теоретическими и практическими занятиями).
4. Обучение практическим навыкам строится по принципу тренировки. Программа разделена на 4 этапа: тренировка важнейших приёмов; изучение отдельных производственных операций; прохождение «комплексов операций», т.е. выполнение работы во всей её сложности, изготовление изделий в целом; самостоятельная работа без инструктора.
5. Максимальное техническое оснащение процесса обучения.
6. Строгий режим и чёткое расписание учебного процесса, каждого упражнения и т. д. с сигнализацией.
7. Систематический и объективный контроль работы обучаемых.
8. Создание условий для повышения работоспособности обучаемых.
9. Разработка подробных стандартизированных методических документов.
Особо следует отметить характерные отличия методики: научный подход, стандартизацию, технологичность, практико-ориентированность.
Очень наглядно и ярко описал суть педагогической методики ЦИТ С. Г. Струмилин: «Станочники… прежде всего должны были до тонкости изучить свой станок и назначение всех его частей до последнего винтика, с тем чтобы в случае нужды каждый станочник мог сам его наладить или переналадить без чужой помощи. А затем совместно с учителем изучались, разлагаясь на элементы, все рабочие движения и излишние исключались, а наиболее экономные в новом их сочетании закреплялись повторением. Анализ и синтез — азбука науки». Таким образом, курсант становился «умельцем на своём рабочем месте» за 2–3 недели, он овладевал не просто некими навыками, но «научным методом рационализации своего труда на любом рабочем месте».
Отличиями педагогической методики ЦИТ от зарубежных аналогов («бездушного фордизма» по выражению С. Г. Струмилина) современники полагали два аспекта:
1. Научный подход и «умножение вдумчивого и разумного труда», в процессе которого рабочий глубоко разбирается в операциях, процессах и инструментах, а в дальнейшем может их творчески улучшать и развивать.
2. Принципиально более развитое методическое, инфраструктурное и кадровое обеспечение. В качестве аргумента приводились результаты обследования 35 предприятий США, работающих по НОТ: «специальных инструкторов там нет <…> новые рабочие находятся под присмотром подмастерьев и старших мастеров <…> Специальное инструктирование ведётся не лекционным путем, а посредством ряда практических указаний во время самой работы. Разумеется, инструктор в состоянии дать каждому рабочему несколько указаний; все остальное время последний работает самостоятельно, полагаясь на собственную сообразительность и изворотливость»; причём методология даже такого простого инструктирования также отсутствовала.
Качественное преимущество и приоритет ЦИТ очевидны.
Начиная с 1923 г. Институт постоянно выполнял отдельные заказы по подготовке квалифицированной рабочей силы от Высшего совета народного хозяйства, Совета труда и обороны, народных комиссариатов по военным и морским делам, путей сообщения, земледелия, просвещения, тяжелой и лёгкой промышленности, рабоче-крестьянской инспекции, от профессиональных союзов и отдельных предприятий. Но апофеозом стал государственный заказ от народного комиссариата труда в 1925 г. на подготовку 10 тысяч рабочих для металлообрабатывающей промышленности. Это произошло в контексте выполнения решений XIV Партийной конференции (апрель 1925 г.), принявшей трёхлетний план развития металлургической промышленности с уровнем затрат на его реализацию в 350 миллионов рублей. В этот момент правительство под руководством И. В. Сталина окончательно утвердило концепцию строительства социализма в одной стране и поставило масштабные задачи по индустриализации и электрификации.
В апреле 1925 г. Всероссийское совещание по индустриально-техническому образованию принято резолюцию об обязательной реализации НОТ по методу ЦИТ в высших технических учебных заведениях и техникумах. Это стало крупным признанием педагогической методики ЦИТ и обеспечило широчайшее её внедрение.
В 1926 г. А. К. Гастев докладывал Пленуму ВЦСПС об эффективности обучения: «50–60% всей рабочей массы, которая прошла через наш метод, дала улучшение качества продукции уже в течение первого месяца»; зафиксировано «ускорение процессов при том же качестве», «скорость выполнения работы в среднем быстрее на 15—20% <…> По изделиям оказалось, что то, что прежде требовало 36-часовой работы, в настоящий момент требует 18 часов».
В 1927 г. была создана внутренняя система контроля качества аналитических, методических и учебных материалов, реализуемая специальным структурным подразделением — бюро методической экспертизы, появившимся за счёт слияние отделов руководства базами ЦИТ и руководства школами ФЗУ.
К 1928 г. учебно-методический комплекс ЦИТ включал не менее 16 отдельных программ — методик подготовки «с документационным и вещевым оформлением» для металло- и деревообрабатывающей, текстильной промышленности, строительства, военного дела.
Программы предусматривали «каждое отдельное упражнение ученика, всю аппаратуру и инструментарий, на которых эти упражнения проводятся, продолжительность каждого отдельного упражнения, продолжительность и частоту смены труда и отдыха при отдельных упражнениях; программы общей двигательной культуры, т.е. упражнений, повышающих общие двигательные и энергетические качества рабочего. Эти программы в значительной мере стандартизируют способы обучения».
Так называемые вещевые конструкции (то есть инфраструктура для обучения) включали: рабочие зоны с фиксированным местами стойки и отдыха, набором приспособлений; тренировочную и контрольную аппаратуру, стандартизированный и рационализированный инструмент, режимные приспособления для звуковой и световой сигнализации (для обратной связи).
Для контроля обучающихся сконструированы уникальные приборы, впоследствии ставшие основой для синтетического эксперимента (см. главу 12): «контрольная аппаратура, аналогичная тренировочной и рабочей, но обставленная целым рядом автоматических регистраций, записей, незаметных ученику, но по которым можно проверить, как он усвоил конструкцию движений, темп их, силу, меткость, координацию движения, какова его „организационная сноровка“, сколько он тратит на отдых, сколько на работу, как часто работу проверяет, как часто над работой раздумывает, словом как он ведёт себя на работе. Весь этот учёт делает автоматически специальная аппаратура, без участия (по крайней мере, непосредственного) особого наблюдателя».
«Документационное оформление» курсов включало: рабочие инструкционные карточки, карточки по уходу за рабочим местом, инструкции-плакаты, карточки технических требований, с инструкциями для измерительных инструментов, чертежи установочного оборудования, цеховые плакаты с типичными приёмами и операциями, хроно-карточки для учёта времени работы, информационные бюллетени.
Указанный комплекс позволял проводить обучение по 56–58 специальностям. К 1931 г. это число возросло до 200. Педагогическая методика ЦИТ, разработанная «при огромном напряжении сил в исканиях и борьбе», была одобрена самыми разными правительственными, общественными и профессиональными структурами, внедрена в более чем 1600 учебных учреждений, включая сотни школ фабрично-заводского ученичества и ряд баз «Установки».
Постановление Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР от 12 мая 1931 г. №287 обязывало «включить в программу втузов и техникумов специальный курс по организации труда методом ЦИТ при обязательном одновременном прохождении соответствующей производственной практики».
Таким образом, педагогическая методика ЦИТ основывалась на научном подходе и включала тщательно продуманную последовательность упражнений при обучении, применение специальных технических средств для создания необходимых навыков, строго рассчитанный режим обучения. Методика, «улучшая качество работы и увеличивая скорость работы», внесла «дисциплину и общую организацию в постановке всего фабрично-заводского ученичества».
Начиная примерно с 1923 г. в ЦИТ предпринимались попытки «педагогику поставить как рентабельное дело», для чего заключались соглашения на подготовку кадров с предприятиями. Однако обучение по весьма своеобразным канонам Института без реорганизации самого предприятия, где должны были бы работать выпускники, оказывалось практически бессмысленным. Фактически обе услуги — и консультационную, и образовательную — надо было предоставлять параллельно. Всё отчётливее проявлялась необходимость специального шага по структурированию соответствующей деятельности, тем более, что новая экономическая политика (НЭП) создала для этого очень удачный контекст.
2.4. Акционерное общество «Установка»
Всякое улучшение надо поощрять.
И не только добрыми делами, а и платой.
Лозунг ЦИТ, 1925 г.
За первые два года работы вокруг ЦИТ сложился круг постоянных заказчиков по подготовке кадров — как инструкторов, так и непосредственно рабочих. Постоянно росли количество и география обращений за консультациями по вопросам инструктажа и реорганизации. Тяжелейшие экономические условия 1920-х гг., скудное финансирование на фоне рост спроса на учебные и консультационные услуги буквально вынуждали руководство ЦИТ к принятию особых организационных решений. Впрочем таковым очень способствовала новая экономическая политика с её возможностями в области предпринимательства.
На заседании Совета ЦИТ 8 июня 1923 г. поставлен вопрос о привлечении финансовой поддержки со стороны обслуживаемых учреждений. Решение было принято незамедлительно: создать на акционерных началах деловое общество для консультаций и реорганизаций, обучению. В августе последовал официальный запрос в ВЦСПС. В октябре состоялось первое организационное собрание «общества по подготовке рабочей силы». После причитающихся бюрократических итераций положительное решение было получено: 8 июля 1924 г. Совет труда и обороны утвердил устав акционерного общества «Установка» по подготовке рабочей и организаторской силы и установке работ на предприятиях.
Интересно, что первоначально эту структуру «для налаживания коммуникаций с предприятиями и учреждениями по стране» предполагали назвать «Охраз» (организация общества хозяйственной разведки) или «Общество Хозразведки».
Первое официальное собрание акционеров акционерного общества «Установка» (АОУ) состоялось 30 (31) сентября 1924 г. Целью нового учреждения декларировалось «использование в практической жизни достижений Центрального Института Труда в области обучения трудовым приёмам и содействие распространению в С. С. С.Р. рациональных способов подготовки рабочей силы и повышение квалификации таковой», фактически же она состояла в коммерциализации услуг ЦИТ.
Учредителями АОУ выступили ВЦСПС в лице ЦИТ (17% акций), народный комиссариат труда (50%), Высший совет народного хозяйства СССР (20%), Бюро Правления железных дорог народного комиссариата путей сообщения (9%) и четыре профессиональных союза — металлистов, химиков, горнорабочих, деревообделочников (по 1% каждый) а также несколько предприятий. Уставной капитал составил 100 тысяч золотых рублей, соответственно каждая акция стоила 1 тысячу.
Отметим, что спустя 4 года, в 1928 г. состав акционеров насчитывал уже 70 юридических лиц, в том числе, «профсоюзы металлистов, текстильщиков, деревообделочников, строителей, горняков, Наркомтруды РСФСР, УССР и БССР».
Председателем правления был избран А. К. Гастев, а директором-распорядителем назначен Семён Исаакович Маст (р.1888 г.).
Следующим значительным действием стала передача учебного и консультативного отдела ЦИТ в «Установку» (постановление президиума ЦИТ от 20.02.1925 г.).
Теперь Центральный институт труда становится исключительно научно-методологическим учреждением. В некоторой мере он рассматривается как «бюро изысканий» акционерного общества, но сохраняет полную самостоятельность в выборе объектов исследования, установлении плана работы и «свободу научного эксперимента». Идёт «выработка форм работы, допускающих использование ЦИТ как научно-исследовательской организации органами подготовки рабочей силы уже существующими, так и возникающими вновь».
«Установка» ведёт исключительно практическую работу — обучение («непосредственная (краткосрочная) подготовка рабочей силы»), консультации и реконструкции предприятий.
По задумке её создателей «Установка» должна проводить обследование предприятий, формировать план реорганизации, «расставлять в узловых пунктах предприятия установщиков и инструкторов, получивших квалификацию на курсах О-ва», оснащать предприятие образцовым, стандартизированным инструментом. Для реализации последнего предполагается создать собственный инструментальный завод, изготовляющий образцовый инструмент и орга-приспособления. В этой концепции ЦИТ проводит изыскания, является постоянным консультантом и поставщиком рациональной методологии.
Вместо учебного отдела в структуре «Установки» создаётся отдел инструктажа под руководством специалиста по НОТ Израиля Моисеевича Беспрозванного (1884–1952), ранее работавшего в США под непосредственным руководством Ф. Тэйлора, затем служившего инженером на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде; в 1921 г. в Москве он руководил опытным заводом ЦИТ «Искромет», где вёл непосредственную постановку производства. Заместителем руководителя отдела инструктажа АОУ становится Е. А. Петров.
В последующие годы отдел инструктажа «Установки» на практике воплощает педагогическую методику ЦИТ для «скоромассовой подготовки рабочей силы на основе строго рассчитанной трудовой тренировки работника при помощи системы специальных приспособлений».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.