
Бесплатный фрагмент - Бунт
Исторический роман. Книга I
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Часть 1
Вниз по матушке по Волге
Часть 2
Городок Яицкий
Часть 3
В персидские пределы
Краткий пояснительный словарь

О творчестве Владимира Уланова
Исторический роман, помимо того что он должен быть исторически точен и увлекательно написан, прежде всего должен быть учителем героики, правды и добродетели — именно это мы и находим в романах Владимира Уланова. Его произведения «Бунт», «Искушение» и «Княжеский крест» заставляют заду — маться о судьбе и истории нашей Родины и беззаветных её защитниках. Вот что пишет о романе «Бунт» Анатолий Парпара, член Союза писателей России, лауреат государственной премии:
— Несмотря на солидный объем произведения в 600 страниц, на обилие забытых слов, требующих специальных сносок, «Бунт» читается легко и непринужденно. Думается, это оттого, что писатель хорошо изучил исторический материал, основательно вжился в саму эпоху, потому даже авторская речь льется плавно, ненавязчиво, убедительно. Вот небольшой пример тому:
«Долгорукий в эту ночь спал плохо, в опочивальне было душно. Боярин несколько раз за ночь вставал, метался по спальне. Открыл створчатое окно, вставленное цветными стеклами. Но на улице даже не чувствовалось ветерка: было душно. Тяжело дыша, Юрий Алексеевич кликнул дворецкого. Вскоре тот появился, заспанный, с всклокоченной бородой, широко зевая, спросил:
— Что изволите, батюшка?
— Принеси-ка холодного меда.
Напившись, Долгорукий немного успокоился. Открыл еще одно окно и, сделав сквозняк, облегченно вздохнул. В широкую пуховую постель ложиться не хотелось, там было жарко. Князь постелил на широкую лавку узорчатое покрывало, прилег, закрыл глаза, пытаясь уснуть. Но сон не шел. Холодный мед приятно согревал и кружил голову. Тревожные мысли, обуревавшие князя все это время, отступили. Пришедшее вчера известие могло свести с ума хоть кого. В присланной с гонцом грамоте из Казани говорилось о взятии Разиным Царицына и Астрахани. Князь не знал, как обо всем доложить царю».
Хорошая проза. Конкретный язык. Психологически выве — ренные детали дают ощущение достоверности происходящего. Дважды употребленное автором словосочетание «было душно» верно передает атмосферу происходящего. У автора есть чутье такта и меры. Трижды употребленное было бы уже перебором. Переход от описания состояния героя к происходящим в романе событиям естественен и ненавязчив. Кинематографичен. Роман населен множеством действующих лиц, от исторических до мифических, от русских московитов до русских казаков, от татарских мурз до персидских ханов. И у каждого свой норов, свое лицо. Но главная интрига романа разворачивается между двумя героями: Степаном Разиным и крестным отцом его Корнилой Яковлевым. Они антагонисты по характеру, по убеждениям, но умны и настойчивы. Автор умело показывает взрывчатый характер сорокалетнего народного вождя, жаждущего дать утесненным волю, умеющего выйти из затруднительного положения, смелой речью зажечь, поднять людей даже на смерть, да не способного на длительную работу ума, подверженного изменившимся обстоятельствам, сладко — любца, разбойника и мечтателя, обуреваемого неуемными амбициями.
Ему противостоит в романе атаман войска Донского Корнило Яковлев. Это иной характер, тоже народный: умеющий взвесить события в седеющей головушке, просчитать варианты будущего, вовремя отступить, вовремя настоять, отдать атаманство, но все держать под своим контролем. Его неторопливости можно позавидовать. Хотя автор постоянно осуждает атамана, но поведение его, желание стабильности для своих казаков, долгие уговоры Степана подчиниться Москве, вызывают уважение к нему. Но, когда выяснилось, что Разин одержим идеей рассчитаться не только с ворами: князьями, боярами, поме — щиками, но и покушается на трон, то сомнений в необходимости его ареста у Яковлева не стало. И он прилагает свой недюжинный ум к реализации захвата. Вот, собственно говоря, эпилог их противоборства, исторически оправданный: «…набросили крепкую веревочную петлю на ноги атамана, туго ее стянули. Яростно отбивался Степан кулаками. Тогда навалились домо — витые по четыре человека на каждую руку, набросили еще один аркан на руки, скрутили атамана. Затих Разин, заскрипел зубами от бессилия и злобы. Лежал теперь распластанный по полу, недавняя гроза князей, воевод и бояр, хозяин Волги. А вокруг стояли, тяжело дыша, домовитые казаки: кто с расквашенным носом, кто с огромным синяком под глазом, кто в разорванном кафтане. Первым опомнился Михаил Самаринин и тяжелым сапогом пнул Разина в живот.
— Не трогать! — крикнул Корнило. — Он мне нужен целый и невредимый. Кто ослушается, того кругом судить будем! Сам государь велел живым доставить в Москву! А сейчас заковать его в кандалы!
Корнило подошел к Степану, постоял над ним, затем сказал:
— Вот и успокоился, добрый молодец! Я же тебе еще вначале говорил, что все это кончится плохо для тебя!»
Конечно, симпатии автора явно на стороне Разина, но последствия, которые намечались уже этим разором, несогласием, противостоянием восставших центральной власти, показаны Владимиром Улановым объективно точно: нападение татарских отрядов на Дон, набеги калмыцких орд на русские селения, неповиновение поволжских земель, попытка вторжения, пока дипломатическая, крымского хана и польского короля на территорию России. Очерчено наступление очередной смуты верно. И хотя московский царь Алексей Михайлович Тишайший обрисован автором с легкой иронией, как и его двор, но государственник в писателе жив, и это чувствуется постоянно. Я уверен в том, что автор порадует нас еще не одним талантливо написанным произведением.
В материалах свободной энциклопедии — Википедии — о писателе Владимире Ивановиче Уланове написано следующее: родился 1 ноября 1946 года в Алтайском крае, Смоленского рай — она, село Разведка, недалеко от города Белокуриха. Журналист, писатель, общественный деятель, член Союза писателей России и МФРП. Председатель правления Архангельского регионального Союза писателей «Поважье».
В 1976 году в городе Новокузнецке Владимир Иванович начал печатать свои статьи в местных газетах и центральных журналах.
С 1983 года в городе Душанбе Уланов сотрудничает со многими газетами республики Таджикистан: «Коммунист Таджикистана», «Учитель», «Вечерний Душанбе», «Комсомолец Таджикистана». Печатает свои произведения в центральных журналах «Советская школа», «Пионер», «Вожатый», «Школа и производство», «Общественное питание», «Работница». Начинает работу над историческим романом — дилогией «Бунт». В 1986 году у Владимира Уланова выходит в свет книга «Наглядная агитация и информация по профессиональной ориентации школьников на рабочие профессии» в издательстве «Маориф» (Душанбе) — 20000 экземпляров. Эта книга Уланова была представлена в 1987 году на премию Н. К. Крупской.
Переехав в Вельск, В. Уланов активно сотрудничает с местными районными газетами «Вельск-инфо», «Вельские вести», «Вельская неделя», пишет статьи, стихи и юмористические рассказы. В 2002 году Владимир Иванович издает две книги романа «Бунт» — общим тиражом 6000 экз. В 2006 году Уланов заканчивает работу над историческим романом «Искушение», сборником стихов «Очищение временем» и издает эти произведения в издательстве «Вель» и «Поважье». Исторический роман «Княжеский крест» с 2008 года готовится к печати в издательстве «Поважье» тиражом в 3000 экземпляров.
В конкурсе «Российский сюжет-2004», организованном телекомпанией НТВ и издательством «Пальмира», исторический роман «Бунт» признан одним из лучших произведений в номи — нации «Серебряный квадрат» историко-героического сюжета.
15 ноября 2007 года Уланов организовал Архангельский «Региональный Союз писателей «Поважье» в городе Вельске и стал председателем правления этого Союза. В это же время начинает издавать альманах «Поважье», став его редактором. В этом же году роман «Бунт» был представлен на Шукшинскую премию и был отмечен конкурсной комиссией, в которую входили Геннадий Иванов — первый секретарь СП России, лауреат премии Ф. Тютчева «Русский путь» и писатель Владимир Купин — сопредседатель СП России, как одно из лучших произведений, представленных на конкурс.
В 2008 году Владимир Иванович Уланов был принят в члены Союза писателей России в городе Москве по рекомендациям и отзывам на его произведения Владимира Личутина — Лауреата премии «Ясная Поляна», Анатолия Парпара — секретаря СП России, Лауреата Государственной премии, Валентина Суховского — лауреата литературной премии и Золотой медали Фадеева. Уланов ведет активную общественную деятельность, организовывает различные литературные конкурсы прозы и поэзии.
Еще хочется сказать о моих впечатлениях после прочтения романа В. И. Уланова «Искушение». «Палач вытащил щипцами из огня раскаленный железный прут и приложил сначала к одному, а потом к другому глазу атамана. Болотников взревел от страшной боли, заскрежетал зубами. В комнате приторно запахло паленым мясом. Дьяк встал и сказал:
— Пока еще народ в городке не проснулся, везите его к проруби и утопите». Когда я прочитал эти строки, мне живо вспомнился один из майских дней 1964 года, когда нас, студентов-первокурсников Каргопольского педагогического училища, после экскурсии по краеведческому музею, посвя — щенной Болотникову, привели на берег реки Онеги.
— Вот против этого места, примерно в 50 метрах от нашего берега, была прорублена большая квадратная полынья, — сказала экскурсовод. — С привязанными к спине и груди камнями, с кровоточащими глазницами Болотников шел, направляемый стрельцами, и шагнул в холодные воды Онеги.
Нас тогда потрясли эти сведения, и мы решили воспитывать своих будущих учеников в духе честности и справедливости, готовить к борьбе за светлое будущее человечества — за коммунизм. Теперь это выглядит наивно, но не тогда.
«С тех пор, — читаю далее, — в Каргополе, в том месте, где утопили Болотникова, и по сегодняшний день тонут люди. В народе говорят, что атаман вновь набирает войско».
Сегодня, хотя после той экскурсии прошло почти 43 года, в моей памяти до сих пор звучит рассказ о тех страшных событиях, происшедших в древнем городке нашей Архангельской области. И воскресило этот рассказ прочтение романа нашего земляка Владимира Уланова.
Роман «Искушение» охватывает значительный период русской истории начала XVII века: от конца царствования Бориса Годунова до избрания на престол Михаила Романова. Это было смутное время, время борьбы за царский престол самозванцев: Лжедмитриев, Василия Шуйского, Марины Мнишек и открытой интервенции Польши.
Доведенный до отчаяния простой народ бунтовал и в конце концов восстал против разорителей земли русской за свою лучшую долю, за хорошего царя. Возглавил это движение атаман казацкого войска Иван Исаевич Болотников.
В романе много исторических личностей и батальных сцен. Автор наряду с великими событиями описывает жизнь русского народа того времени, его быт и культуру, рассказывает о причинах, приведших к поражению восстания.
Роман «Искушение», как и вышедший в 2002 году и переизданный в 2006 году роман «Бунт» В. И. Уланова, вызывает большой интерес у читателей, интересующихся историей нашей Родины.
Недавно вельский прозаик получил несколько отзывов о своих произведениях. Вот, к примеру, что пишет из Архангельска член Союза писателей России Алексей Коткин: «Мне довелось познакомиться с романами вельского писателя Уланова Вла — димира Ивановича „Искушение“ и „Бунт“. Но это же не исторические боевики, как представляет их автор, человек бесспорно одаренный литературно. Это историческая проза, воспевающая героику и отвагу российских бунтарей, которых выдвинуло в вожаки передовое российское общество до двадцатого века и подвигло их на борьбу с мракобесием; теперь такого далекого от нас исторического отрезка времени. Не будь Болотниковых, Разиных и других названных в романах героев, разве Россия сумела бы шагнуть по прогрессу своего неповторимого развития и стать той громадной силой в передовых рядах за человеческое счастье? Не смогла бы, о чем смело утверждает автор исторических художественных произведений! И в этом главная авторская заслуга перед Отечеством и смело мыслящими людьми! После долгих размышлений я пришел к заключению: перед нами новое явление в российской, да если хотите, и в мировой литературной мысли. И такой человек заслуживает внимания и уважения, и его место в рядах российских литераторов, о чем я во весь свой маломощный голос заявляю».
Теплые слова о романах нашего земляка сказал другой член Союза писателей России Геннадий Аксенов, проживающий в городе Северодвинске. Он пишет: «Владимир Иванович Уланов, житель города Вельска нашей Архангельской области, в творчестве не новичок. Им созданы талантливые исторические полотна о смутном и бесправном времени правления царей с воеводами. Автор ярко показал в романах «Бунт» и «Искушение» жизнь простого народа, правление царя Василия Шуйского. Хорошо сказано в книгах об Иване Исаевиче Болотникове и Степане Тимофеевиче Разине — предводителях народных вос — станий. Да, они были хорошими организаторами, но стремились улучшить жизнь людей путем разбоя и грабежа. А это известно, чем заканчивается.
Один из самых лучших романов Владимира Уланова «Княжеский крест» 3 октября 2010 года был удостоен национальной международной литературной премии «Золотое перо Руси» и награжден дипломом. Художественное произ — ведение о важных событиях 13 века, когда раздробленная Русь была почти полностью разграблена и сожжена татаро-монгольскими полчищами.
Тысячи русских людей были уничтожены или угнаны в плен к татарам на непосильные работы. Но, несмотря на это, русские воины находили в себе силы защитить себя, свою семью и Родину.
В то же время с запада немцы, шведы и литовцы пытались захватить территорию Новгородского княжества — единственный оплот Руси, который еще сохранил свою независимость. Ярослав Всеволодович, Владимирский князь, отец Александра Невского, понял, что сопротивление огромной силе татар бесполезно, и он ищет мира с ханом Батыем, но становится жертвой имперских интриг татаро-монгольских ханов. Дело своего отца продолжает Александр Невский, который спасает Русь от полного разорения и закладывает основу создания Российского государства. Ему приходится самому пройти через многие испытания, которые подрывают его здоровье. Так же, как его отец, Александр становится жертвой интриг католической церкви, которая стремилась насадить чуждую русскому народу веру.
Роман «Бунт» стал номинантом в конкурсе «Российский сюжет-2004» в номинации «Серебряный квадрат», а также был представлен на премию им. В. Шукшина и признан экспертами лучшим романом.
Владимир Уланов — лауреат премии «Золотое перо Руси-2010», лауреат конкурса «Мой родной край» и обладатель премии «Золотое перо Поважья», член Международной Федерации русскоязычных писателей, член Союза писателей России. Про — должает и дальше заниматься литературным творчеством об исторических событиях нашей России.
Владимир ЛИСИЦЫН,
член Союза журналистов России
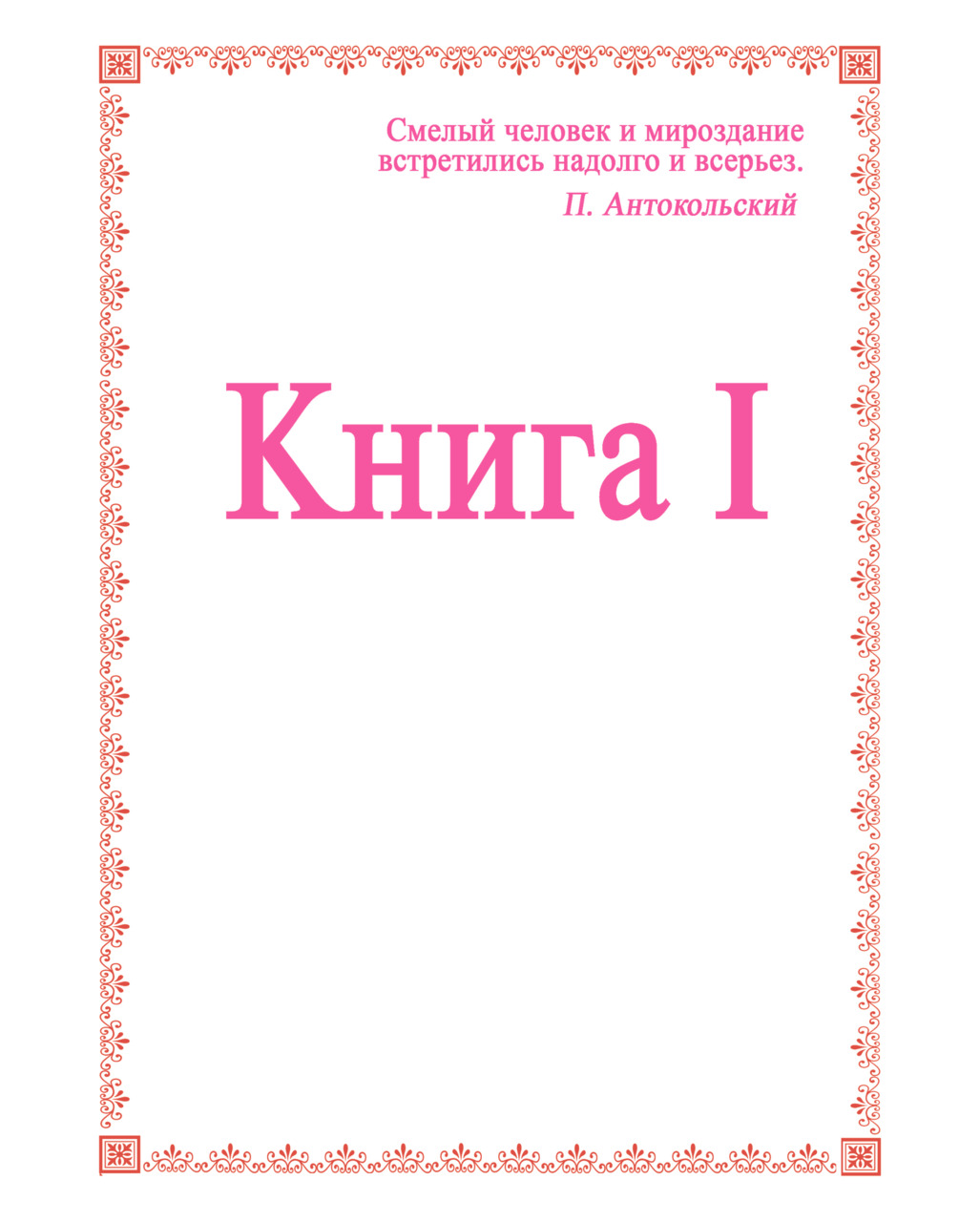
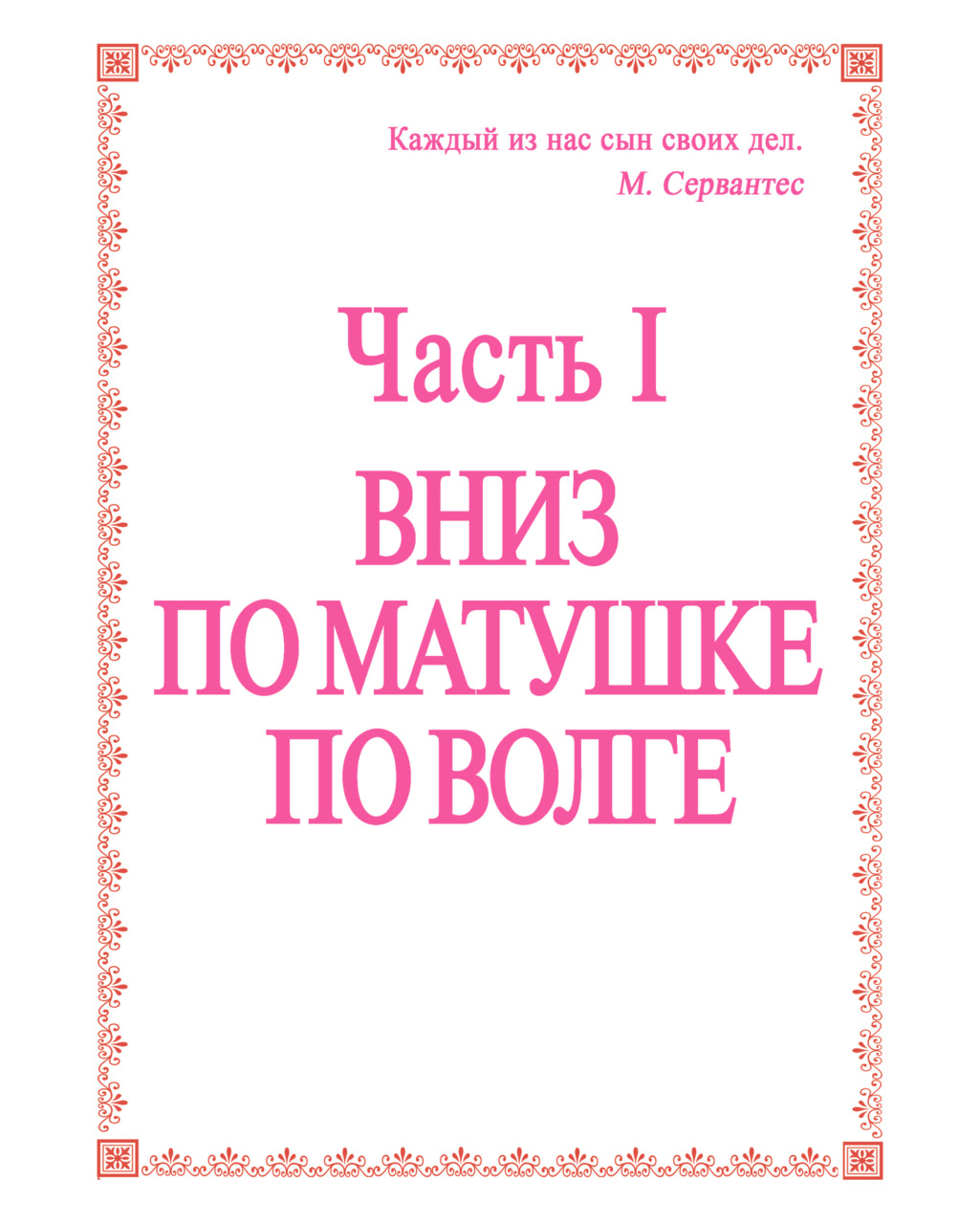
1
Весна в этом году выдалась ранняя. Снег быстро сошел с полей, и земля, прогретая солнцем, была готова к пахоте.
Кругом, куда хватал глаз, виднелась пашня помещика Белоногова. Лишь ближе к лесу и болоту жались небольшие участки еще не тронутой сохой земли крестьян деревни Крапивино.
В эту весну помещик взял на службу нового приказчика. Тот лютовал и почти совсем не давал крестьянам работать на своих полях, пока не будет засеяна господская пашня. Тех, кто ослушивался, били нещадно батогами на барской конюшне.
Ефим с тоской посмотрел на свой клочок земли, что была у лесочка: «Эх, приложить бы сейчас силенку на свою земельку. Запоздаем нынче с пахотой. Поздно посеешь — плохой хлеб будет».
В досаде плюнул, прикрикнул на кобылку: «Ну, пошла, милая!» — и легонько нажал на соху. Лошадь с трудом двинулась с места, но, упираясь дрожащими ногами, все-таки пошла вдоль борозды. Пахарь шел за сохой и, сосредоточенно следя за тем, как отваливается пласт земли, срезанный железным наконечником, думал свою невеселую думу.
Кое-как нынче пережили зиму, своего хлеба хватило только до ползимы, а там ели, что попало, лишь бы не умереть с голоду. Лошади своей не дал сдохнуть, зная, что без нее в хозяйстве будет трудно, поэтому всю зиму ходил в лес, добывал из-под снега сухую траву, сдирал кору с деревьев. Хотелось Ефиму, чтобы его лошадка погуляла по лугу, поела вволю травы, набралась сил, но проклятый приказчик Евдокимов заставил пахать господскую землю на его, Ефима, лошади, хотя у самого на конюшне стояло без дела немало добрых коней.
Мужик огляделся по сторонам: приказчика на поле нигде не было видно. Вдали маячили светлые рубахи крестьян, согнувшихся над сохой. Они вспахивали помещичью землю. Мужик прикрикнул на кобылу, направил ее к своей пашне, думая про себя: «Видно, приказчик прилег отдохнуть после сытного обеда. Дам-ка и я моей кобыле погулять, вволю поесть травки».
У раскидистой толстой березы, в тени, Ефим разнуздал лошаденку. «Если приказчик вдруг появится, скажу, что лошадь поил». Поглядел на тихую речку, которая протекала возле его поля. Прилег в тенечке отдохнуть, а лошадь, тяжело вздыхая, торопливо щипала траву, словно знала, что нужно спешить и времени у них с хозяином в обрез.
Пахарь уже задремал, как вдруг услышал треск сухих сучьев в кустах, что подступали к самой березе, под которой он лежал. Приподнял голову, прислушался, пытаясь увидеть, кто же находится в кустах, и уловил шепот:
— Эй, мужик, а мужик!
Вглядевшись в кусты, Ефим увидел трех человек, одетых почти в лохмотья. Один — темноволосый, похожий на цыгана, другой — рыжий с кудлатой бородой, кривой на один глаз; третий — высокий, горбоносый, с тонкими насмешливыми губами, на которых блуждала ехидная улыбка.
— Что вам, мужики? — спросил с удивлением Ефим, вставая с земли.
— Тут стрелецкой заставы поблизости нет? — спросил темноволосый.
— Нет, но вчера видел, как по нашей деревне проезжали служилые, а куда — не ведаю.
Оглядевшись, мужики осторожно вышли из кустов, сели под березу. Рыжеволосый спросил:
— А есть ли, мужик, у тебя хлебец или еще какая снедь, уже третий день во рту крошки нет, — зеленоватые глаза его зажглись голодным огнем, когда он поглядел на жбан с квасом и котомку с краюхой хлеба, что находились у березы, чуть прикрытые травой.
— Есть у меня квас да хлеб с мякиной; если будете есть, то садитесь, — сказал крестьянин, выставляя на круг свой нехитрый обед.
— Да хоть собаку с шерстью, — ответил черноволосый, торопливо садясь рядом с хозяином скудного сбеда, словно боясь, что тот передумает.
Ефим не спеша развернул холстину, где лежал черный хлеб с крупной солью, поставил квас.
Новые его знакомые, как одержимые, накинулись на еду, ломали хлеб грязными, заскорузлыми руками, жадно запивая кислым квасом.
Ефим так и не успел отломить себе кусочек хлеба. Доев последние крошки, мужик с тонкими губами сказал, улыбнувшись:
— Ты уж нас не осуждай, голодны мы. Видно, и тебе, мужик, не сладко у своего помещика живется, коли хлеб с мякиной ешь.
— Несладко, ребята, нынче кое-как зиму пережили, а эта, наверное, еще трудней будет. Не дает помещик работать на нашей пашне, пока у него на поле не управимся. А хлеб не вовремя посеешь да не вовремя уберешь — урожая не жди, — печально ответил Ефим.
— Это ты верно говоришь, — поддакнул рыжий.
— И куда ж вы путь держите, сердешные? — поинтересовался Ефим.
— Бежим от лютых помещиков на Дон за волей. Там, сказывают, атаман Стенька Разин народ для похода собирает. Будто хотят казаки двинуть за море за богатством, — ответил черноволосый.
— Айда с нами, мужик, — обратился к пахарю рыжий, — там на Дону, говорят, нет помещиков и их приказчиков. Воля там! Все решают сообща — кругом.
— Я бы пошел с вами, надоела мне бескормица да работа без просвета на барина. Вот только жалко земельку свою бросать и семью: умрут они без меня с голоду, или помещик продаст их кому-нибудь, а потом где я их сыщу.
— Ну, тогда оставайся. Спасибо тебе за хлеб за соль. Идти нам надобно, как бы кто не увидел, — сказал черноволосый, и новые знакомые Ефима так же осторожно, как и пришли, нырнули в кусты.
Черноволосый обернулся, крикнул:
— Айда с нами, мужик! Господской работы не переработаешь!
Ефим молча смотрел вслед уходящим: «Носит нелегкая сердешных по белу свету. Нет у них ни поля, ни дома, ни жены, ни детей».
Снова вывел он кобылу на борозду и стал пахать, радуясь небольшой передышке в работе. Но вот невдалеке раздался жалобный крик. Ефим поднял голову и увидел, что приказчик, не слезая с коня, бил кнутом крестьянина. Тот упал на колени и, протянув к нему руки, кричал:
— Прости, господин, мою нерадивость! Буду лучше работать!
Ефим потоптался на месте, не зная, что делать, крик раздражал его, хотелось вступиться, но он знал, что за это забьют на конюшне батогами.
Прикрикнув на свою лошадку, стал пахать и в расстройстве, что нельзя ничем помочь несчастному, так подналег на соху, что его кобыла, вконец отощавшая за зиму, стала идти медленно, с трудом, потом зашаталась и упала в борозду. Ефим подошел к лошади, стал ее поднимать, но она смотрела на него жалобными глазами, а из них от бессилья текли слезы. В это время над головой хозяина лошади раздался крик:
— Почему не работаешь, лодырь ты проклятый!
Приказчик со злостью стал хлестать кнутом кобылу, оставляя вздувшиеся полосы на хребте у лошади.
Ефим, никогда ранее не возражавший своим хозяевам, крикнул:
— Что же ты делаешь? Она от бессилья упала! Заморенная она!
— Это ты ее заморил, чтобы она не работала на господском поле! — зашелся приказчик и стал еще сильнее хлестать лошадь кнутом. Кое-где на ее хребте стала сочиться кровь.
Не помня себя, Ефим ухватил сильной рукой за кнут и дернул на себя: приказчик вылетел из седла, а он повернулся и пошел прочь с барского поля. Шел медленно. «Натворил я дел, теперь приказчик на мне выспится, теперь житья не будет».
Уже подходя к своей неказистой избушке, Ефим увидел четырех дворовых с барского двора. Приказчик сидел верхом на коне, что-то кричал, давая указания своим помощникам. Из избы вывели упирающуюся жену его, Марию, с детишками — Семеном и Никитой, посадили их на телегу и повезли на господский двор.
Несчастный побежал за телегой, закричал:
— Стойте! Стойте! Куда вы их повезли?
Его ударили чем-то тяжелым по голове; когда он упал, навалились, связали, забросили на телегу и повезли следом. На подворье за руки и за ноги его привязали к столбу, и приказчик яростно и беспощадно стал сечь Ефима кнутом.
От первых обжигающих ударов кнута хотелось кричать, но постепенно боль притупилась, и он потерял сознание. Его окатили холодной водой, и приказчик прокричал ему в лицо:
— Не видать тебе больше жены и детей твоих, продали их в соседнее поместье, а ты, сукин сын, будешь теперь на конюшне навоз ворочать! Я дурь из тебя выбью! — и оскалился в злобной усмешке.
Дворовые отвязали несчастного от столба, завели в каморку — тут же в конюшне — и положили на широкую лавку вниз лицом. Остаток дня и ночь Ефим пролежал, скрипя зубами от боли и обиды, жалея жену и детей.
Утром следующего дня дворовый Гришка заварил настой трав, остудил воду и, обмывая спину Ефима, стал приговаривать:
— Меня помещик по молодости еще не так драл. А теперь я умный стал. Господам никогда не перечу, чуть что — падаю на колени и прошу пощадить меня. А ты сдернул приказчика с коня! Напужал его до полусмерти. Так он, бедный, прискакал сюда ни жив ни мертв, весь белый, трясется, как в лихорадке. Кричит: «Убил! Убил!» А теперь даст он тебе жизни. Покою не жди! Надобно, голубок, либо смириться, либо идти в бега. Да нынче по новому указу будут вести бессрочный сыск над тобой, если убежишь.
— Не дождутся они от меня смирения, — пробасил Ефим, морщась от боли.
К вечеру боль на спине стала спадать, и он уже сидел на лавке, запустив руки в русые кудрявые волосы.
Задумал он бежать на Дон, куда звали его мужики тогда, на пашне. Теперь в Крапивино Ефима ничего не удерживало. Жены и детей у него нет! До них ему вряд ли добраться: поймают — забьют до смерти. Землю — и ту помещик забрал. А здесь, на господском дворе, кроме тяжелой работы, кнута и батогов, его ничего не ждало. Беглеца мучили сомнения, пугала неизвестность. Прожил свои двадцать пять лет в родной деревне, всегда подчиняясь хозяевам, а тут вдруг — бежать неизвестно куда. Но, когда он думал о том, что ждало его здесь, на барском дворе, сомнения все рассеивались.
Ефим решил, уходя с нажитого места, отомстить приказчику за все. Когда наступила полночь, он тихонько вышел из своей каморки, направившись к дому обидчика, который находился в глубине сада барской усадьбы. Осторожно подкрался к высокому крыльцу, прислушался. Кругом была тишина. Стояла глухая весенняя ночь. Луна еще не взошла, и яркие звезды, густо усыпав темное небо, светились, помигивая нежным голубоватым светом. Оглядываясь по сторонам, медленно поднялся на крыльцо. Он знал, что приказчик живет один. Решил взломать дверные запоры, надеясь на свою недюжинную силу. Уперся в дверь богатырским плечом. Затрещали доски, но она не поддалась. Еще сильнее поднатужился. Что-то хрястнуло, дверь со скрежетом распахнулась. Не успел еще Ефим сделать и шага, чтобы войти в дом, как увидел, что навстречу ему бежит полуголый приказчик, что-то держа в руке: то ли это была палка, то ли сабля, не рассмотрел. Ефим ухватил Евдокимова за руку, притянул к себе и увидел бегающие, полные ужаса глаза приказчика, схватил за грудки и ударил об стену, да так крепко, что тот сник и ушел в другой мир. Когда Ефим вновь вышел из дома, кругом было по-прежнему тихо, только где-то в деревне подвывала собака. Быстро спустился с крыльца, пошел в угол сада, перелез через изгородь и прямо через луг направился к лесу. Он шел торопливо, не оглядываясь, шел к новой судьбе — искать волю и спра — ведливость.
2
За ночь Ефим преодолел большое расстояние и к утру, когда начало светать, забрался в заросли ивняка у тихой речушки. Нарвал кучу травы, постелил, устроился поудобнее и заснул чутким, тревожным сном.
Проспал беглец долго и, лишь когда солнце уже опустилось к горизонту, услышал сквозь сон, как кто-то подошел к нему и зашептал:
— Глядите, мужики, никак тот пахарь?!
— И правда — он! — сказал другой. — Тоже в бегах?
Беглец приоткрыл глаза, скосил их в сторону, откуда доносился тихий разговор, и увидел гостей, которые так быстро расправились с его обедом. Сел, потянулся, зевая со сна, потом спросил у своих знакомых:
— Нет ли, ребята, теперь у вас чего-нибудь поесть?
— То мы у тебя просили, теперь ты у нас. Вот как в жизни бывает, — сказал черноволосый, подсаживаясь к бывшему крестьянину и доставая из котомки кусок сала и хлеба, затем обратился к рыжеволосому:
— А ну-ка, Кузьма, зачерпни водицы из речки своим оло — вянником.
Тот быстро принес в оловянном ковшике воды, все уселись в кружок есть. Вскоре Ефим узнал, что его новых попутчиков зовут: черноволосого — Гришка, рыжего мужика — Кузьма, а тонкогубого — Иван.
— Как же ты, Ефим, в бега-то пустился? — спросил Иван.– Ты же говорил, что у тебя есть жена, дети.
— Не от земли и не от жены и детей я в бега пошел, а от помещика да приказчика, — и Ефим рассказал своим новым друзьям о том, что с ним случилось после их ухода. А когда рассказчик закончил свою исповедь, рыжий Кузьма спросил:
— А теперь ты куда?
— С вами к казакам пойду, искать атамана Степана Разина.
— Добро, Ефим, ватагой веселей идти, и от лихих людей легче будет отбиться. Главное — не нарваться бы нам на заставу стрельцов.
— Надобно в пути быть с остережением, ночами, а днем отдыхать где-нибудь в лесу, — посоветовал Кузьма.
Иван из-под руки поглядел на солнце, которое уже было над горизонтом:
— Еще рано идти. Надо переждать до темноты, а там пойдем с богом.
Мужики расположились в ивняках вздремнуть, а Ефима оставили в дозоре. Тот немного походил вокруг лагеря, затем решил подыскать себе увесистую дубину на случай, если придется за себя постоять. Вскоре он нашел подходящее деревце, взял у спутников топор, ловко подготовил себе оружие. После того как дубина была сделана, дозорный прошелся по берегу речушки и обнаружил, что из небольшого болотца в речку после нереста идет рыба. Быстро из гибких прутьев ивняка соорудил небольшую мордушку, перегородил ручей и поставил свою нехитрую рыбацкую снасть.
Ефим вытряхнул улов, снова поставил снасть, и, когда село солнце, у беглецов была куча рыбы. Вскоре новые его друзья проснулись. Иван быстро разжег костер, и все принялись жарить улов на огне, надев рыбу на прут и вращая над языками пламени. Румяное, хрустящее жаркое, мужики солили и с аппетитом ели.
— Ну и Ефим! Ну и молодец! — восхищался Гришка. — Давненько я так сладко не ел!
Ефим молча улыбался, уплетая жареную рыбу. Когда все насытились, остатки подсолили, пересыпали травой, завернули в холстину и положили в отдельную котомку.
Наконец стемнело, и ватага беглецов двинулась дальше, держа путь на Дон, где, как говорили спутники Ефима, Разин собирал народ для похода.
* * *
Проживший всю жизнь в Крапивино, Ефим впервые увидел неведомые ему края. Проходя по бескрайним просторам России, он узнал, как трудно живется земледельцам, как из них помещики и их приказчики, воеводы выколачивают недоимки. Он видел бедность и бесправность крестьян, большинство которых довольствовалось лишь куском черного хлеба с мякиной да квасом и убогим жилищем, отапливавшимся по-черному.
В опасных местах, там, где стояли стрелецкие заставы, беглецы шли ночью, а когда путь их лежал через леса — днем.
Как-то изголодавшиеся путники, уставшие от долгого пути, подошли к деревеньке. Она была пустынной. Потемневшие избы с упавшими пряслами, кособенясь, стояли вдоль дороги. Не было видно людей, не слышно было даже лая собак. Беглецы с удивлением озирались вокруг, не зная, что и подумать.
— Мор, что ли, тут прошел? — воскликнул Иван.
Наконец, они увидели у землянки седовласого старца, сидевшего на завалинке. Глаза у него были полузакрыты, он вполголоса напевал песню, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Дед! А дед! — крикнул Кузьма.
Старец встрепенулся, оглядел путников выцветшими глазами, прошамкал:
— Что вам, странники, надобно?
— Скажи, отец, что у вас в деревне стряслось? Народ-то куда девался? Вымерли, что ли все? — засыпал Гришка старика вопро — сами.
— Разбежались люди из деревни от господских поборов, от бескормицы.
— И куда ж они подались? — поинтересовался Ефим.
— А кто куда. Кто в леса, кто на Дон. Я бы тоже ушел, да вот они у меня не ходят, — и дед показал высохшей рукой на ноги, обутые в лапти.
— Как же ты, старик, жить-то будешь один в деревне? — с удивлением спросил рыжий Кузьма.
— Не все ушли, кое-кто остался. Сейчас они у помещика на поле работают. Приносят мне поесть, кто что сможет. Так вот и живу. Люди не дадут с голоду помереть.
— А стрелецкой заставы тут, у деревни, нет ли? — осторожно спросил Гришка.
Внимательно посмотрев на путников, старик молвил:
— Знать, в бегах вы, мужики.
— В бегах, отец, в бегах, путь на Дон держим, — ответил Кузьма.
— Тогда, мужики, будьте настороже за речкой. Это недалеко от деревни, как раз она у вас на пути. Сказывают, в лесочке на берегу схоронились стрельцы и всех перехватывают. Многих путников — вроде вас — переловили. Так что поберегитесь, не попадитесь в лапы служилым, да и в деревне не задерживайтесь. Они часто сюда наведываются. Можете с ними встретиться.
— Спасибо, отец, что предупредил! — сказал на прощанье Кузьма, и беглецы поспешили к лесочку, что виднелся на краю деревни.
* * *
Долго шел Ефим со своими новыми друзьями, сперва по лесам, потом леса сменились полями с перелесками, а затем пошла холмистая степь с глубокими оврагами, заросшими кустами и деревьями, где путники прятались от опасности.
Однажды в полдень вышли к Волге. Ефим впервые увидел могучую реку. День выдался солнечный, на небе не было ни облачка. И насколько хватало глаз, была видна гладь реки. Она в это время полноводная, и воды ее мутны, а быстрое течение несло коряги, ветви от деревьев, лишь вдали виднелись зеленые острова.
Ефим полной грудью вдохнул пахнущий сыростью и рыбой воздух и с восторгом сказал:
— Ох, и красота здесь, ребята! А простор-то какой!
— Вот это река — так река, даже тот берег не поймешь где! — воскликнул Иван и подошел к берегу. Опустил руку в речку: вода была еще холодная.
Кузьма огляделся вокруг, вздрогнул и, словно онемев, уставился на холм, который был невдалеке.
— Вот влипли мы, ребята, так влипли!
Все разом посмотрели туда, куда глядел, как завороженный, Кузьма, и увидели трех верховых стрельцов. Один из них, вероятно, старший, показал на них рукой, и служилые, пустив коней рысцой, стали приближаться к перепуганным путникам.
— Что делать будем? — растерянно произнес Григорий.
— Готовьтесь защищаться! Не дадим себя в обиду! — решительно заявил Ефим и крепко сжал в своих огромных ладонях увесистую дубинку.
Стрельцы быстро приближались. Вот они уже рядом. Один из них, вздыбив коня и наезжая на беглецов, спросил:
— Кто такие? Куда путь держите?
— Работные мы люди, бурлаки, — не растерявшись, ответил Кузьма.
— Врешь, сатана! Какие вы бурлаки! Беглецы вы! Наверно, сбежали от господ своих! Ну-ка, идите вперед, на заставе допросит вас сотник с пристрастием. Сами скажете, кто такие.
Подняв дубинку над головой, Ефим закрутил ею и крикнул:
— Не подходите — поубиваю!
Один из стрельцов вытащил из ножен саблю, замахнулся на Ефима. Тот ловко ударил служилого по руке, сабля выпала, рука повисла, как плеть. Кузьма, Гришка и Иван дружно заработали своими палками. Вскоре оглушенных стрельцов стащили с коней, забрали у них оружие.
— Прощевайте да не серчайте на нас, сами наскочили, — на прощанье крикнул Кузьма растерявшимся стрельцам, когда беглецы уселись на коней.
— Скажите спасибо, что не порешили вас, — добавил Иван.
Стрельцы молчали, понуро опустив головы. Мужики хлестнули лошадей и помчались вдоль берега Волги, стараясь как можно быстрее удалиться от места далеко не дружеской встречи со стрельцами.
Тряхнув русыми кудрями, Ефим запел:
Как за барами житье было привольное,
Сладко попито, поедено, похожено
Вволю корушки без хлебушка погложено,
Босиком снегу потоптано,
Спинушку кнутом попобито;
Нагишом за плугом спотыкалися,
Допьяна слезами напивалися…
Его друзья с удивлением прислушались, а когда он кончил петь, Кузьма воскликнул:
— Ай да Ефим, ну и красив же голос у тебя, а песня — про жизнь нашу мужицкую, нелегкую.
— Зрите, зрите! Что это там за люди лодки на воду спускают, — воскликнул Иван, показывая рукой вдаль, где виднелась большая заводь.
Путники придержали своих лошадей, остановились в нереш — тельности.
Кузьма, вглядевшись, крикнул:
— Да ведь это, ребята, казаки! Смотрите: бараньи шапки с красным верхом кое на ком одеты.
Друзья хлестнули лошадей и помчались к казакам. Те заме — тили всадников, и несколько человек пошло им навстречу.
Чернобородый детина, с черными, искрящимися, насмешли — выми глазами, весело крикнул:
— Куда это вы, ребята, путь держите?
— К казакам пробираемся, — ответил Ефим.
Чернявый казак улыбнулся, затем, изучающе поглядев на мужиков, спросил:
— А коней стрелецких где раздобыли?
— Тут, недалече, служилые сами на нас напали, вот мы им немного всыпали.
— Ну, таких смелых ребят я беру в свое войско, — и, поглядев на Ефима, добавил:
— Особенно таких молодцов, как этот.
Раздался резкий разбойничий свист, и кто-то прокричал: «Стрельцы!».
К чернобородому подбежал молодой казак и стал быстро рассказывать, показывая рукой в сторону дороги:
— Мы с Митькой в дозоре были. Смотрим: по дороге конные и пешие стрельцы идут, мы незаметно спустились в овраг и, что есть духу, к тебе, батько, помчались. Что делать будем, Степан Тимофеевич?
— Сколько их? — быстро спросил атаман.
— Сотни две, — ответил дозорный.
— Тогда мы так порешим, — сказал атаман собравшимся вокруг него есаулам. — Ты, Черноярец с Леской, берите своих казаков и заходите им сзади, пройдите по той низинке, за лесочком, а мы схоронимся в кустах. А ты, Фрол, продолжай как ни в чем не бывало спускать лодки на воду. Пусть стрельцы думают, что мы их не ждем.
Прошло совсем немного времени, а казаки уже приготовились встретить стрельцов, как велел атаман. Ефим вместе со своими друзьями находился в засаде.
Вскоре из-за холма на дороге показались стрельцы и, увидев, что их не ждут, сразу же направились к казакам у лодок. Но как только служилые подошли к кустам, из засады залпом выс — трелили казаки, а сзади, из оврага, выскочили люди Лески и Черноярца.
Видя, что они окружены со всех сторон, стрельцы побросали оружие и не стали сопротивляться, лишь кое-где произошли схватки со стрелецким начальством.
Атаман приказал забрать у них оружие, порох, а затем, подойдя к толпе стрельцов, спросил:
— Кто ко мне пойдет служить?
Из толпы вышло несколько человек, остальные стояли, боясь взглянуть в лицо атаману.
Разин молча подождал, затем с досадой сказал:
— Ладно, стрельцы. Отпускаю вас. Некогда мне с вами балясы точить! Поговорим в другой раз, — и, повернувшись к казакам, крикнул: — Айда, ребята, по стругам, у нас с вами еще долгий путь!
Вскоре разинцы отплыли, оставив на берегу стрельцов, с удивлением глядевших вслед уплывающим лодкам.
3
Волга весной полноводна и могуча. Не спеша и величаво несет она свои воды, затапливая мелкие острова, намывая новые. Крутятся в водоворотах подмытые водой деревья, снесенные с берегов коряги и всякий мусор. Как будто специально река уносит со своих берегов все ненужное, старое и слабо держащееся за землю.
По большой мутной воде в это время года редко кто пускается в путь. И куда ни кинь взгляд, не увидишь купеческого струга или лодки рыбака. Пустынно здесь. Но вот из-за поворота на стремнину стали выплывать один за другим речные суда, и вскоре они вытянулись в длинную вереницу, уплывая куда-то вниз по Волге.
На головном струге сидел со своими ближними есаулами Степан Разин. Казаки скинули кафтаны и, оставшись в одних рубахах, наслаждались весенним теплом. Щурясь от солнца, Разин улыбался, когда поглядывал на своих развеселившихся есаулов, которые пили вино, разговаривали между собой. Бочка с вином стояла тут же, у борта струга, и, опустошив свои кубки, казаки снова доливали их оловянным ковшом. Около Степана собрались его лучшие друзья, с которыми давно задумал он этот поход. Первый есаул, Иван Черноярец, почти не притрагивается к вину и зорко поглядывает на берег. Фрол Минаев, Якушка Гаврилов и Леско Черкашин горячо о чем-то спорят, того и гляди, схватят друг друга за грудки. Только бывший монах Григорий не участвует в общем разговоре, задумавшись, отрешенно глядит перед собой, поглаживая длинную седую бороду.
Поход начинался хорошо. Степан был доволен. Заставы стрельцов на пути взяли боем с ходу. Все благоприятствовало казакам в походе: и теплые деньки, и большая весенняя вода, и попутный ветер.
Степан Разин сидел в белой рубахе с расстегнутым воротом. Смуглое худощавое мужественное лицо привлекало внимание. Прямой нос чуть с горбинкой, с широкими ноздрями. В переносье пролегали две глубокие складки, придававшие лицу атамана озабоченный вид. На лбу виднелся косой шрам. У Разина были особенные, чуть широко расставленные, черные, жгучие глаза. А когда он гневался, тяжелый взгляд его не каждый человек мог выдержать. Лицо атамана строго и даже надменно, чувст — вовалось, что он человек с сильным характером, способный и привыкший повелевать. По натуре непоседа. Цыганские кудрявые волосы, чуть тронутые сединой, трепал ветерок. Аккуратная бородка и темные, как воронье крыло, усы с проседью были к лицу атаману. Во всем облике Разина ощущалась неукротимая сила, уверенность, и это притягивало к нему людей. Степан сидел на деревянной лавке, подбоченясь, из-за пояса выглядывал пистолет с искусно изукрашенной серебряной насечкой. На алую котыгу, лежавшую тут же на лавке, небрежно брошены сабля и бунчук.
Глядя на чаек, вьющихся над надутыми парусами лодок, несущихся по Волге, думал Разин, что наконец-то осуществилась его давняя мечта, которую задумали они с Иваном Черноярцем, а потом втайне готовили в городках Паншине и Качалинском. Радовался в душе атаман, глядя на множество лодок, гордо плывущих по великой реке. Более двух тысяч человек разного люда собралось под его знамена. Обиженный и обездоленный, но смелый и бывалый этот народ.
Пристально вглядываясь в лица своих есаулов и казаков, плывущих в стругах, атаман искал ответ на всегда мучивший его вопрос.
Справятся ли они с тем великим делом, на которое ведет он их с горсткой сидящих сейчас рядом с ним есаулов? Уж сколько находилось разных атаманов, собирали они походы, и часто это кончалось или распрей между есаулами и атаманом за первенство, или войско превращалось в неуправляемую толпу грабителей. Только Василий Ус смог больше всего преуспеть. Он повел казацкую голытьбу не на грабеж, а добывать вольную жизнь для бедных людей и служить государю всея Руси. И что удивительно — с горсткой казаков Ус подошел почти к самой Москве. И если бы не князь Ромодановский, который под видом переговоров ловко заманил Василия и посадил под стражу, неизвестно чем бы все это кончилось. Сумел Ус все-таки выкрутиться, убежал из-под стражи, но войско его разогнали. Однако отчаянный атаман собрал где-то в лесу опять множество людей под свои знамена. «Надо кого-нибудь из казаков послать к Усу: может, с нами пойдет», — решил про себя Разин. Степан уважал его за непреклонную волю бороться до конца. Бескорыстность Уса и стремление его всё, что есть, отдать обездоленным, нищим и убогим, нравилось Разину, и он старался поступать так же. Собирая свой поход, Степан много за это время передумал, часто советовался со своими ближними есаулами, особенно с Иваном Черноярцем, с которым часами мог спорить и обсуждать детали задуманного дела. Немало было проти — воречивых мыслей и суждений, споров, но было ясно одно: старшины войска Донского, помогая Разину осуществить задуманный поход, надеялись, что он уведет с каждым днем прибывающую на Дон со всех концов России бедноту, которая заполонила все верховые городки и стала проникать в Черкасск, посматривая жадными и голодными глазами на скопленное годами богатство домовитых казаков. Разин не развеивал надежды верхушки войска Донского, но в душе у него — неотступно и пока еще смутно — зрели другие планы, которых он даже в душе боялся и от которых захватывало дух.
— Добрых казаков мы из них сделаем, — сказал Иван Черноярец, кивнув на разномастный народ в стругах.
— Это верно, — подхватил Фрол Минаев.
— Как научатся рубать сабелькой, вот тогда настоящие казаки будут, — подхватил лихой рубака Леско Черкашин.
— Станут еще из них лихие казаки, — вступил в разговор атаман. — Каждый за троих драться будет, потому что некуда им деваться. Надоела им собачья жизнь, помещичий да боярский сыск. Тут у нас с ними один путь: добыть себе волю в бою или быть вечными холопами.
— Взгляни, атаман, вон на того мужика, что у правого борта гребет, — указал Иван Черноярец, казак рассудительный и умный. Это был стройный, чернявый, с приятными чертами лица человек. Он никогда не повышал на казаков голоса, не заходился, как атаман, в гневе, но словом был тверд, и его слушали беспрекословно. Взгляд острых карих глаз Черноярца заставлял виновных чувствовать себя неуютно. Иван не суетился, вел себя уверенно, казалось, он всегда знал, что ему делать.
Все поглядели в сторону, куда указывал Черноярец. Здоровенный детина с перевязанной головой, раздетый по пояс, играючи орудовал веслом.
— Я видел его в первом бою со стрельцами, — сказал, усмехаясь, Иван. — Как мы тогда высыпали на берег, чтобы отшибить стрельцов, этот мужик, кажись, его Ефимом кличут…
— Точно, Ефимом, — подтвердил Якушка Гаврилов, лучше всех знавший мужиков.
— Выскочил он первым на берег, — продолжал Иван рассказ, — а навстречу ему два стрельца с бердышами. Ефим оторопел, испужался да бежать со всех ног. Один из стрельцов хотел срубить ему голову, но промахнулся и только сбил шапку да царапнул немножко затылок. Вот тут-то Ефим как взвизгнет и, страшно рассвирепев, схватил этих стрельцов, как кутят, стукнул лоб об лоб. Те замертво упали, даже не ворохнулись. Подобрал мужик дубину и давай ею махать. Верите? Нет? По три стрельца зараз сбивал с ног! Я старался подальше от него рубиться, — боялся, что в свирепости и меня дубиной саданёт.
Все захохотали.
Степан попросил подозвать мужика к себе.
Якушка мигом посадил другого казака грести вместо Ефима, а того подвел к атаману. Детина был высок ростом, широк в кости и могуч плечами, с русыми курчавыми волосами и голубыми ласковыми глазами такой синевы, что, казалось, частица неба живет в них. Лицо его было с заметным румянцем, по-особенному русское, умное, доброе и привлекательное. Сильно развитая грудь и мускулистые руки сразу же обращали на себя внимание. Таких мужиков на Руси обычно зовут богатырями. Ефим подошел к атаману.
— Здорово, казак! — сверля мужика взглядом, весело приветствовал его Разин.
— Здорово, батько! — не выдержав атаманова взгляда, потупился мужик.
— Присаживайся, милок, — и, подавая кубок с вином Ефиму, Разин освободил место рядом с собой.
Ефим перекрестился и выпил.
— Откуда ты, братец, как звать тебя и почему к нам пристал? — спросил Степан.
— С Крапивино я, батько. А зовут меня Ефим Туманов. К вам пристал из-за того, что вольно жить хочу. Совсем извел нас в деревне помещик. Вот и подался на вольный Дон.
— А ну-ка, Ваня, плесни Ефиму, сколь его душа желает! — попросил атаман, поняв, что кубок вина для этого мужика слишком мал.
Иван Черноярец зачерпнул расписным ковшом вина и подал Ефиму. Тот, обрадованный, заулыбался, взял в обе руки ковш.
— За казака Ефима! — поднял кубок Разин. Все разом выпили и уставились на мужика.
Чувствуя на себе внимание, он нисколько не смутился, степенно перекрестился:
— За твое здоровье, батько, благодетель ты наш! — с чувством произнес он и медленно до дна осушил ковш. Крякнул. Вытер рукавом губы. Взглянул преданными глазами на атамана.
— Нравишься ты мне, казак! — хлопнув по плечу Ефима, сказал Степан и озорно пошутил: — Будешь при мне… помогать вино пить!
— Можно песню спеть? — попросил разрешения Ефим.
— Да ты закуси, а потом и споешь, — посоветовал есаул Якушка Гаврилов.
— Да разве такую сладость закусывают? — не на шутку удивился мужик.
Сев поудобнее, Ефим развернул могучую грудь и запел. Песнь лилась так ладно и хорошо, что на стругах перестали грести, прислушались.
Степан и его есаулы с изумлением уставились на мужика. Никто из них даже предполагать не мог, что Ефим может так петь:
Ах, туманы, вы мои туманушки,
Вы туманы мои непроглядные,
Как печаль-тоска — ненавистные!
Не подняться вам, туманушки
Со синя моря долой,
Не отстать тебе, кручинушка,
От ретива сердца прочь!
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, част крупен дождичек.
Песня трогала, бередила душу. Ее грустный мотив рас — тревожил сердца казаков. Опустив кудрявую голову, задумался Степан Разин.
Нахлынули картины воспоминаний. Вспомнилась жена Алена, их прощание перед походом. Ее тоскливые голубые глаза, полные слез, и шепот побледневших губ:
— Когда увидимся теперь, Степушка?
— Будет глаза мочить, — резко оборвал он ее.
Вздыбил коня и поскакал, не оглядываясь, а потом всю дорогу жалел, что плохо попрощался с женой. Даже в какое-то мгновение хотел вернуться назад, но не мог. Не пристало казаку в чувства впадать, негоже возвращаться, а глаза ее, полные невыплаканных слез, чудились ему потом, снились ночами. Они просили его, и от этого во сне и наяву сердце у Степана сжималось.
Ты размой, размой земляну тюрьму
Тюремщики-братцы разбежалися,
Во темном лесу собиралися,
Во дубравушке, во зеленой
Ночевали добры молодцы.
Страдание и безысходная тоска слышались в словах и мотиве песни.
Неожиданно вспомнился Степану Разину брат Иван, взятый под стражу для отправки с повинной в Москву. Его суровое, спокойное, без страха лицо. Последний прощальный, по-мужски сухой поцелуй и слова:
— Если не придется вернуться на родимый Дон, знай, что сгинул я за казачью волю! Прощай, Степан! — улыбнулся Иван и весело подмигнул: — Будь здоров!
А через несколько месяцев в станицу из Москвы с нарочным пришло известие, что Иван был с пристрастием допрошен в Разбойном приказе и казнен.
Многие домовитые казаки остались недовольны жестоким поступком Москвы. Великое волнение прошло по станицам.
Думали, что царь простит вину молодому атаману за самовольный отказ продолжать военные действия и уход на Дон, поэтому с такой легкостью отпустили казака.
— А оно вон как обернулось! — Степан заскрежетал зубами, прошептал: — Не прощу вам своего брата Ивана! — и непрошеная слеза скатилась по щеке.
Мог тогда Корнило Яковлев, его крестный отец, не отправлять Ивана в Москву. Отписал бы грамоту, что, мол, строго наказало войско Донское молодого атамана на войсковом круге, это бывало не раз с провинившимися, и дело с концом. Но выслуживался тогда Корнило перед Москвой, угождал, видно, хотел в доверие войти к боярам да воеводам, укрепить свое, только что принятое атаманство, сыскать поддержку Москвы. Не пожалел Ивана!
А когда Степан высказал все это в лицо Яковлеву, тот, побледнев, молча выслушал его, затем ответил:
— Не мог я знать, Степан, что в Москве с ним так расправятся, поэтому и отправил.
С тех пор в их отношениях наступило отчуждение, хотя раньше Степан любил крестного, так как в молодости многому у него научился, подражал, завидовал его былой лихой казачьей жизни. А теперь кто они друг другу?..
Певец кончил петь, а Степан все еще сидел, повесив голову, устремив взгляд в одну точку. Потом, тряхнув черными кудрями, велел снова наполнить вином кубки.
— Закручинил, Ефимушка, ты мое сердце. Тоску нагнал на нас. А перед большим делом ни к чему тоска да печаль. Не затем мы в поход пошли, чтобы печалиться, а чтобы волю добыть! — поднимая кубок, сказал Разин.
— За удачный поход пьем, братья! — уже весело крикнул он.
— Любо! Любо! — закричали в атамановом струге.
— Пой, братцы! Давай веселую песню! — крикнул музыкантам атаман. Ударили бубны и барабаны, заиграли сопели, Ефим запел весело, с вызовом:
На реке, на речке,
На быстрой Волге.
Припев сперва подхватили сидящие в головном струге:
Калина моя,
Малина моя.
Тряхнув головой, певец с еще большим озорством запел:
Мыла девка платье,
Мыла-вымывала.
Уже на всех стругах подхватили припев:
Калина моя
Малина моя!
Караван стругов и лодок с веселой разудалой песнью на всех парусах несся по Волге к новой судьбе, к большим делам. К старому возврата не было, было только будущее: лихое, неудержимое, где-то бесшабашное в своей удали, но по-русски великое, могучее, грозное.
4
К полудню Степан Разин и ближние есаулы собрались на совет в атамановом струге. Первым держал слово атаман. С озабоченностью он коротко сказал:
— Чтобы плыть дальше, ребята, нам нужно добыть хлеба, кое-какого барахлишка, зелья и оружия. Народ к нам пристает ватагами, а запаса еды у нас только на неделю. Что будем делать, атаманы?
— Надо ждать торговые караваны на реке, — предложил Иван Черноярец.
— Неужто будем нападать? Нам же этого Москва никогда не простит! Да и стрельцов там довольно много плывет, вооружены они хорошо, а о пушках и говорить нечего, — предостерегающе напомнил Фрол Минаев, кряжистый казак, с чуть рыжеватыми прямыми волосами. Он отличался рассудительностью и умом. Холодный взгляд открытых глаз есаула чуть исподлобья был колюч. Высокий, упрямый лоб с глубокими складками говорил, что человек этот тверд и непоколебим в своих решениях. Ум и хватку Фрола в разинском войске ценили.
— Фу-у-у, — присвистнул Якушка. — Дивитесь, казаки, — показывая пальцем на Фрола, закричал он, — ты, оказывается, храбрец против ягнят да овец!
Фрол побелел от обиды, сжал рукоять сабли, ощерился на Якушку Гаврилова:
— Ты брось такими словами разбрасываться, я тебе язык живо отсеку.
— А гроза — не всякому грозна! — дерзко ответил Якушка, худощавый казак, по характеру задиристый, смелый до дерзости. Он был неутомимый шутник, заводила и великий спорщик за справедливость. Очень подвижный, ловкий в бою, лихой рубака, есаул умел увлечь казаков на любое дело. Быстрые, озорные серые глаза есаула всегда искали дело или следующую жертву для шутки. Горбатый нос, тонкие губы, черная непокорная шевелюра придавали его лицу хищное выражение.
Этого уже Фрол вынести не мог. Он вскочил с лавки и кинулся к обидчику.
— Стой! Сядь на место! — крикнул Степан и в ярости так хватил кулаком по бочке с вином, которая заменяла им стол, что выбил днище, вино фонтаном брызнуло в лицо Фрола, залив ему глаза и рот.
— Тьфу ты, черт, тьфу! — плевался в досаде казак.
— Ха-xa-xa-xa! Го-го-го-го! Ха-ха-ха-ха! — дружно смеялись есаулы и атаман.
Отплевавшись и успокоившись, Фрол сел на место.
— Остыл немного? — строго спросил атаман, в упор глядя на друга.
Минаев молчал, опустив глаза. Ему в это время хотелось возразить, бросить в лицо Степана грубое слово, чтобы сорвать злобу, но он не посмел. И так было всегда, даже когда они были босоногими мальчишками. Множество раз Фрол пытался выйти из подчинения у Разина, но не мог. Где-то в душе всегда в нем шла борьба двух характеров. Один — своевольный, властный, дерзкий, а другой — рассудительный, покладистый. Фролу всегда хотелось так же, как и Степану, распоряжаться людьми, когда надо — приказывать, и это у него, пожалуй, получалось, но лишь до тех пор, пока не появлялся Разин. Тогда он незаметно для себя попадал под его влияние. Всей душой противился этому, возражал ему, но только мысленно. Воля, уменье подчинять себе людей всегда отличали Степана Разина от других казаков. Фрол, сам того не желая, обычно молча отступал. Он понимал, что не в силах идти против Разина, а тот, заставляя его выполнять свою волю, лукаво улыбался и иногда даже куражился. В то же время эти противоречивые чувства к Степану не отталкивали Минаева от атамана, а, наоборот, — он по-своему его любил и уважал как храброго, умелого воина и преданного друга.
— Бранись, а рукам воли не давай! — уже улыбаясь, сказал Степан. — За ругательство, драки и недостойное поведение буду лишать есаульства, — строго предупредил всех атаман.
— Что же решим? — вновь обратился Разин к казакам.
— Может, взять с налету Царицын? — предложил Леско Черкашин.
— А я думаю, братцы, не податься ли нам за добычей в степь к татарам. Отобьем табун-другой — вот и пропитание! — сказал Якушка Гаврилов.
— Дело говоришь, — поддержал с иронией Степан Разин. — Только хлеб нам нужен и оружие, — напомнил атаман. — Надо, ребята, брать караван. И сейчас самое важное — ждать его в хорошем месте. Выслать дозорных и не давать никому пройти ни вверх, ни вниз по реке. Царицын нам пока не взять, а идти на татар нет доброй конницы.
Речь атамана была убедительна. Никто из есаулов не возражал, да и не любил он возражений, когда в своей правоте и успехе дела не сомневался.
— А теперь по своим стругам! — скомандовал Разин.
Уже через час за крутым поворотом реки он заметил высокий бугор. Атаман прищурился, оценивающе осмотрел цепким взглядом возвышенность, сказал Ивану Черноярцу:
— Вот тут мы и подождем караван.
Сложив руки трубой, Иван закричал:
— Всем причалить!
На головном струге быстро свернули паруса и на веслах подошли к крутому берегу.
Вскоре атаманов струг носом врезался в песок, а за ним одна за другой стали приставать другие лодки.
Вместе с есаулами Степан Разин поднялся на бугор, осмотрел место.
— Доброе местечко будет для встречи с караваном! — весело сказал атаман. — Да и стрельцы неожиданно не нападут. Вон оно, как на ладони всё — зрите! — говорил Разин, показывая на бескрайнюю холмистую степь с перелесками и бесконечной лентой реки.
Обращаясь к есаулам, приказал:
— Укрепить бугор, как в Паншине-городке.
— Для чего, Степан Тимофеевич, так укрепляться?! — с удивлением спросил Леско Черкашин, коренастый мужчина с озорными черными глазами, смуглым лицом, с квадратным подбородком, подвижный и неугомонный по характеру. Это был ловкий воин, в совершенстве владеющий саблей и пистолетом. Леско, несмотря на свой еще сравнительно молодой возраст, был почти весь седой, с рваным шрамом на щеке. Подвижность и неукротимый темперамент не мешали ему быть рассудительным и умным, умеющим в любом деле сплотить вокруг себя людей. Но была у Черкашина одна слабость — женщины, и это стало постоянной темой для насмешек и шуток со стороны казаков.
— Дождемся каравана, возьмем животы, да и айда дальше, а ты, атаман, вроде бы как надолго собрался.
— Надолго я не собрался, но и голову сложить тоже здесь не хочу. Все может быть: и стрельцы неожиданно могут ударить, и татарские или калмыцкие отряды напасть. Береженого — бог бережет, — уже решительно добавил атаман, давая понять есаулам, что разговор окончен и пора приступать к делу.
Закипела работа. Вскоре вокруг бугра выросла насыпь с бойницами.
Вечером, обойдя укрепления, атаман остался доволен работой и, взойдя на вершину бугра, стал задумчиво вглядываться в синюю даль реки, размышляя о своем походе.
Долго ли придется ждать каравана? Большая вода уже прошла. Должны же купцы плыть к Астрахани. Не выдержат они соблазна, чтобы не сбыть по высокой цене хлеб там. А вдруг на этой неделе не пройдет караван? Что тогда делать? Роптать начнут люди, и войско его распадется, и тогда не будет похода, который так долго готовил он, к которому стремился. А поход ох как нужен, чтобы доказать Корниле и всем старшинам войска Донского, что он, Степан Разин, может дать людям лучшую долю. Доказать, что зря кричали завистники на весь Черкасск, что, мол, ничего не выйдет у Стеньки, что некуда теперь ходить в походы. Главное сейчас — накормить людей, чтобы они в него поверили. От этого зависело, быть или не быть походу. Неужели они, как побитые псы, снова вернутся на Дон — на поклон старшинам? Много он походил по Руси, много видел, знал, как плохо живется простым людям, как выжимают из них последние соки помещики и приказчики. Жаль ему было этот народ, хотелось хоть как-то облегчить его участь. Но как? Как это сделать? — этот вопрос Разин задавал себе сотни раз. Он видел, как множество крестьян стекаются на Дон в верховые городки, надеясь найти здесь волю и сытую жизнь. А на самом деле, они становились бродягами, без жилья и пропитания. И чтобы помочь им, он всякий раз приходил к выводу: надо идти в поход, как делали их отцы и деды, поискать для этих людей лучшую долю. И это лучшее грезилось ему за морем. Но путь туда был труден. Нужно преодолеть множество стрелецких застав, пройти Астрахань. А теперь надвигался голод. Не хотелось Разину идти на грабеж купеческих судов. Знал он, что не будет ему прощения после этого, что сразу же воеводы начнут вести против него сыск, а мимо Астрахани и тем более не пропустят. Степан понимал, что напасть на караван — значит, объявить себе войну. Хотя он уже обдумал свои действия — перехватить лодки с товарами, но где-то в душе его еще шла борьба. Тем не менее выхода не было. Нужно было решать — быть походу или не быть.
Иван Черноярец неслышно подошел к Степану и тронул его за рукав. Тот вздрогнул, посмотрел на своего друга затуманенным взглядом. Потом, как бы стряхнув с себя думы, сказал:
— К ночи надо выставить усиленный караул по всему бугру и внизу, на реке, у стругов. Быть на страже! Костров не разжигать.
Слушая Разина, Черноярец размышлял: «Крепко задумался атаман. Видно, нелегко ему решиться на захват каравана. Это палка о двух концах. Если караван не брать, то походу не быть. Если походу быть, знать, надо идти на грабеж. А после этого в Черкасске домовитые, чтобы снять вину с себя, сами же грамоту напишут в Москву на Степана, будто он во всем повинен. А Москва станет требовать выдачи виновных. Вот здесь-то двуличный Корнило, крестный отец Степана, сразу же постарается это использовать. Если нужно, на кругу крикнет, что Степан Разин — вор и грабитель, и в удобный момент, если ему выгодно, может повязать и отправить виновных в Москву для спроса, чтобы выслужиться».
Черноярец всегда презирал атамана Корнилу и об этом прямо говорил Степану, спорил с ним, ссорился, неоднократно его убеждал, чтобы он особо не верил Яковлеву. Всегда указывал Разину на хитрость его крестного отца. Но Степан продолжал во многих делах советоваться с войсковым атаманом, хотя всегда высмеивал Корнилу за угодничество перед Москвой и тщеславие. Разин постоянно старался что-то доказать Корниле. Это было соперничество двух сильных и властолюбивых людей. Одного — хитрого политика, изворотливого и расчетливого в отношении с казаками, другого — горячего, страстного поклонника равноправия и справедливости между людьми. Тот и другой имели своих приверженцев. За Степаном были голытьба и простые люди. За Корнилой — домовитые и степенные, зажиточные казаки. Степану всегда непременно хотелось, чтобы о его успехах узнал Корнило. Атаман же Яковлев все делал хитро и никогда никого в свои дела и мысли не посвящал.
— Как думаешь, Тимофеевич, долго нам ждать каравана? — задал вопрос Иван.
— А он на подходе, и ждать осталось денек-другой, не более. Ты сам ведаешь, как купчишки торопятся по высокой цене сбыть хлеб в Астрахани. Только нынче хлебом мы будем распоряжаться! — произнес Степан, решительно тряхнув черными кудрями.
— Ну и ладно, — душевно поддержал Черноярец атамана. — Пойду распоряжусь с караулом.
— Слышь, Иван, ты пришли-ка ко мне в шатер Григория. Поговорить мне с ним надо.
— Зачем тебе этот монах? — неприязненно спросил Иван. — И вообще, откуда он взялся? Может, его бояре подослали? Не нравится он мне!
— Иван! Я этого Григория еще с самой Москвы знаю, когда на молебен в Соловецкий монастырь ходил. — Немного помолчав, добавил: — Если хочешь знать, я ему жизнью обязан.
И Степан Разин поведал есаулу давнюю историю.
— Это было, когда я уже второй раз ходил на молебен в Соловецкий монастырь. И собрался уже возвращаться домой после небольшого отдыха в Москве. В тот день я навострился идти на Дон, да вспомнил, что подарков матери с батькой не купил, и решил на базаре поискать что-нибудь подходящее для родителей. Вскоре товар нашелся, и стал я возвращаться на свое подворье, где стояла наша станица. Иду я по улице, не спеша, и радуюсь, что скоро домой. Вдруг слышу крик, да такой, что душу мою всю всколыхнуло. Смотрю: народ собрался, наблюдает в сторонке. Все молчат. Я протиснулся вперед, вижу: боярин на коне крутится вокруг молодого паренька и охаживает его кнутом. Бьет, куда придется, даже все лицо исполосовал в кровь. А тот кричит дурнинушкой. Обратился я к людям: «Как же на такое смотрите, не поможете человеку?..» А мне отвечает один старичок, мол, нельзя: это боярин своего сбежавшего холопа поймал, вот и учит уму-разуму. Не вытерпел я все-таки, подскочил к коню боярина, схватил его под уздцы и говорю: «Что же ты, сукин сын, так человека обижаешь?» А он тогда на меня кнутом замахнулся. Я схватил его за рукав и сдернул с лошади, да видно так крепко ударил боярина оземь, что он глаза под лоб закатил. Тут-то и навалились на меня стрельцы. Раскидал я их да бежать по улице. Подарки все свои растерял. Забежал в какой-то двор, а дальше ходу нет — тупик. Погоня уже рядом. Куда деваться? Тут-то и подвернулся мне этот Григорий. Отодвинул доску у сарая и говорит: «Лезь в сарай и прячься в сено, а я их в другую сторону пошлю». Так и остался жив благодаря этому монаху. Вот так-то, а ты говоришь — бояре подослали.
Черноярец сконфуженно молчал.
* * *
Когда Григорий вошел в шатер к Степану, тот сидел у стола и поджидал его.
Разбитной казак Еремка, ловко орудуя ножом, резал крупными ломтями пахнущее дымком жареное мясо. На столе вмиг появилась горка пышных лепешек. Соорудив стол, казак молча вышел из шатра.
Степан жестом пригласил Григория к столу.
Бывший монах был сухощав, с длинными седыми волосами почти до плеч. Из-под кустистых черных бровей с проседью поблескивали небольшие, чуть раскосые, умные серые глаза. Прямой нос, продолговатое лицо, слегка поджатые губы придавали Григорию сходство с иконой. Монах был уже в пожилом возрасте, но телом крепок, жилист. Жизнь в монастыре приучила его к неспешному, обдуманному и несуетливому исполнению всех своих дел.
Атаман с разговором не спешил, помолчал, наконец, спросил:
— Скажи, Григорий, как встретил тебя Никон? Был ли ласков или строг? И что он ответил на мое предложение о помощи нам?
— Никон встретил меня как друга. Знакомы мы с тех давних пор, когда был он патриархом, имел силу и власть. Прожили мы в монастыре неделю вольготно, отдыхали, Богу служили. Твою просьбу, а вернее, предложение я никак не мог ему передать, не знал, как начать, как подойти к этому делу. Ведь очень опасное дело ты мне в Кагальницком городке доверил, когда послал с поручением в Ферапонтов монастырь. Никон за это дело мог меня с казаками отправить, как смутьянов, в Москву, к Долгорукому. Поэтому я долго примерялся, старался узнать, о чем думает Никон, какое его настроение, обижен ли за свою опалу или смирился. Важно было знать все! На восьмой день он пришел ко мне в келью и сам спросил, зачем я к нему пожаловал. Взял я с него клятву перед Богом, что он ничего не предпримет, что бы от нас ни узнал. Никон выслушал молча, не перебивая, и так же молча удалился и дня три вообще ко мне не подходил, видно, обдумывал. Я не боялся, что Никон может поступить с нами плохо, так как знал, что клятва его крепка и слову своему он всегда верен, но было очень любопытно, как поступит опальный патриарх. И вот однажды вечером он опять пришел ко мне в келью и сказал совсем немного: «Степан Разин, наверно, смелый человек, коли за народ задумал заступиться. Осуждать я его не могу и мешать не буду, но сам в смуту ввязываться не хочу, так как годы мои не те и смысла во всем этом для себя не вижу».
На другой день нас отправили в дорогу. Забоялся Никон доноса от своих же монахов, даже прощаться не вышел, сказался больным.
Выслушав Григория, Степан долго молчал. Чувствовалось, что отказ бывшего патриарха Никона был ему неприятен. Но все-таки, тяжело вздохнув, Разин спросил Григория:
— Что ты сам думаешь о моем походе?
Этот вопрос как бы вырвался из его души, полной сомнения, может, даже неуверенности в себе, хотя он всеми силами это скрывал.
Умудренный опытом жизни, монах понял, что атаман ищет в нем поддержки, чтобы как-то развеять и успокоить свою неуверенность. Поэтому с ответом не спешил и, обдумывая каждое слово, заговорил:
— Если твое войско выйдет к морю, то придешь ты оттуда с богатой добычей и славой. Да только, Тимофеевич, я мыслю, что думка у тебя дальше добычи идет. Догадываюсь я, задумал ты большое дело. Недаром ты меня к Никону за поддержкой посылал. Не такой ты человек, чтобы ради дувана собирать войско.
— Ох, и мудр ты, Григорий! Смолоду ты таков, рассудительный и дальновидный был, — похвалил атаман. — Неужели разгадал мои планы?
— Не знаю, Степан Тимофеевич, я гадать сильно не гадал, но предвижу, тряхнешь ты Pyсь крепко. Только у себя в городках, Паншине и Качалинском, стал собирать народ к походу, а слух о тебе, как о народном защитнике, пошел по всей Руси. Очень трудно живется крестьянам в холопстве, поэтому идут к тебе отовсюду людишки. Если не сгинешь за морем, соберется около тебя много миру.
— А ты, монах, что ли, со мной в поход не идешь?
— Как не иду, Степан Тимофеевич? Я теперь за тобой, как нитка за иголкой. Так уж в разговоре получилось. Не вышло у меня с божьими образами, может, воин за правду и волю получится. Нынешний патриарх всея Руси Иосаф про мои иконы сказывал, что они греховны, похожи на людей во плоти. Но что я могу, Степан, сделать с собой, если я пишу Божью Мать, а в ее образе вижу свою мать и получается икона, похожая на обыкновенную русскую бабу, испытавшую много горя; если Николай-угодник на моих иконах похож на мужика-пахаря, замученного на барщине. Однажды Иосаф посмотрел на эти иконы и воскликнул: «Не всякий, говорящий мне „Господи“, — войдет в царство небесное. Кипеть тебе, монах Григорий, в смоле у самого дьявола в котле за такие иконы!» Перевернулось у меня тогда все в душе! Зло такое взяло. Столько я труда вложил в эти иконы! Даже не помню, как вышло, но ответил я ему тогда очень дерзко по писанию: «Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего!» Как разгневался патриарх, затопал ногами, побагровел весь и закричал: «Посадить его на хлеб и воду в подвал». Сидя в монастырском подвале, я хорошо обдумал свою жизнь. Решил уйти из монастыря навсегда. Писать постные лица святых, не вдыхая в них жизнь, я понял, что не смогу. В удобный момент скрылся из монастыря, пришел в Москву, а оттуда подался на Дон.
— Знать, с монашеской жизнью покончил?
— Покончил, — согласился Григорий с атаманом. — Но запомни, Степан, — нравоучительно молвил монах, — сила Бога и царя в народе велика! Подумай об этом.
— Может, попом будешь в нашем войске? Службу ты знаешь.
— Нет, Степан, оборвалось что-то в душе моей, не смогу я попом! Лучше саблю дай, буду простым воином в войске!
— Ну, монах, и удивил же ты меня. Саблей махать и без тебя много народу найдется. Будешь при казне находиться, бумаги вести, ты ведь порядки на Руси ведаешь.
5
Едва войско Степана Разина вступило на Волгу, а уже слух о том, что он идет с большою силою, распространился вниз по реке до самой Астрахани.
Простой люд с надеждой ждал своего защитника и избавителя. Зато сильно забеспокоились воеводы, стрелецкие начальники, бояре да купцы.
На 19 день мая 7175 от сотворения Мира года астраханский воевода Иван Андреевич Хилков дремал на мягком ковре после сытного обеда. Сквозь дрему он услышал стук копыт по деревянному настилу, смолкший у резного крыльца его дома.
Раздались возбужденные голоса. Кто-то ругался грубым голосом. Затем заговорили у дверей горницы:
— Говорят тебе, что Иван Андреевич отдыхает после обеда. Погодь с часок, сам выйдет.
— Гонец я! Недосуг мне ждать! Срочное дело у меня к воеводе! — убеждал кто-то дворецкого.
Оттолкнув его, в горницу быстро вошел стрелецкий голова Богдан Северов — высокого роста, худощавый, с русой, седеющей бородой и волнистыми светлыми волосами, которые спадали ему низко на лоб, а он часто встряхивал головой, отбрасывая их в сторону. Его внимательные глаза смотрели на мир настороженно, как бы ощупывая все вокруг.
За головой вошел гонец, по всему видно было, что он проделал большой путь, не жалея ни коня, ни себя. Его серое, утомленное лицо и воспаленные глаза красноречиво говорили об этом.
— Иван Андреевич! Гонец со срочным известием! — возбужденно доложил голова.
Воевода недовольно нахмурил брови, неуклюже поднял свое грузное тело, подошел к столу, сел на лавку, приготовился слушать. Князь-воевода — полный мужчина, черноволосый. Это был человек умный, многие годы отдавший службе царю. Он обладал спокойным, рассудительным характером, но когда входил в гнев, был неудержим и горяч. Холодный взгляд серых глаз исподлобья вводил подчиненных в трепет.
Гонец поклонился в пояс воеводе и начал сбивчиво рассказывать:
— Вор Стенька Разин с множеством казаков вышел на Волгу. Все заставы стрельцов, выставленные на пути, воровской голытьбой сбиты.
— Откуда ты, кто тебя послал? Расскажи все по порядку и толком, — зевнув, прервал воевода гонца. Он еще не освободился от дремы и ничего не мог понять.
Гонец еще раз поклонился в пояс князю и более спокойно начал:
— Унковский послал меня к вам просить помощи. Вор Стенька Разин вышел на Волгу и движется вниз по реке с большой силою к Царицыну. Он очень просил поспешать с помощью и дать ответ со мной тотчас же.
Гонца качнуло, глаза у него слипались. Иван Индреевич с жалостью посмотрел на него, а затем с досадой сказал:
— Выходит, выпустили вора на Волгу! Теперь не пропустит, злодей, караван к нам. Купчишкам на реке проходу не даст.
От сознания, что он бессилен что-либо предпринять сейчас против Разина, Хилков ударил себя кулаком по колену.
— В городе хлеба почти нет, смута будет! Все на руку вору! Ну, Стенька, воровское стяжение тебе впрок не пойдет! — со злобой сказал воевода. Потом, немного подумав, наказал голове:
— Ты вот что, Богдан, давай собери в приказной палате все стрелецкое начальство: сотников, голову Василия Лопатина, иноземцев-поручиков Кашпара, Герлингера — да и, как там его, прапорщика Завалиху.
Богдан бросился исполнить приказ, но воевода остановил его, давая новые указания:
— Гонца накормить, дать чарку водки, пусть выспится. Пока отпишем грамоту, он будет готов к дороге. Да, еще пошли надежного человека к юртовским татарам, что недалече от города кочуют. У меня с ними давно сговор против казаков. Злы они на них. Пусть к утру их табунный голова с людьми будет здесь.
* * *
Когда воевода вошел в приказную палату, все были в сборе и возбужденно обсуждали последнюю новость.
Голова Василий Лопатин — черноволосый, коренастый, широкоплечий человек с длинными, сильными руками, перекрывая все голоса густым басом, говорил:
— Мало у него домовитых казаков, в основном пришлые людишки, крестьяне да ярыжные работники. Эту толпу разобьем с ходу, да только худо будет, если они разбегутся. Смуту сеять начнут. Лучше захватить их где-нибудь всех сразу — и дело с концом!
— Та, та, вот пыло пы харашо! — поддержал голову поручик Кашпар Икольт, одетый в латы, кольчугу, словно бы уже сейчас идти ему в поход на казаков.
Увидев воеводу, все смолкли. Иван Андреевич кликнул дьяка и велел принести карту Русского государства. Расстелив ее, воевода внимательно посмотрел и, указав ближе к Царицыну, задумчиво проговорил:
— Степан Разин сейчас где-то здесь, а может быть, плывет вниз по Волге или подступил уже к Царицыну. Хотя едва ли он решится брать город. С его толпой — не одолеть. А вот караван на реке грабить — на это у него сил хватит. Людишек у вора, говорят, тысяч до двух; если учесть, что они голодны и озлоблены, то опасность от воров велика. Поэтому не позже как на 22-й день мая надобно выступить по реке и сухим путем на поиск взбунтовавшейся черни. Быть ли нынче нам с хлебом, порохом и новой сменой стрельцов, зависит от нас!
Совет затянулся до позднего вечера, за окном сгустились сумерки, и в приказной палате зажгли свечи.
Неожиданно с улицы послышались возбужденные голоса, потом кто-то стал ругаться. С треском вылетели разноцветные стекла из окна палаты, довольно увесистый булыжник грохнулся на стол, где лежала карта Русского государства. Все отпрянули от стола. Свечи замигали и погасли.
Сотники во главе с головой Лопатиным, выхватив кто саблю, кто пистоль, выскочили на улицу. Послышались крики, лязг сабель, прозвучало несколько выстрелов, потом шум стал стихать и удаляться. Наступившую тишину пронзил вопль:
— Подождите, придет Степан Тимофеевич, он за все рассчи-та… — крик оборвался.
Вскоре в палату вернулись сотники и Василий Лопатин. Он резко вложил в ножны саблю.
— Что там случилось? — спросил воевода у Лопатина.
— Посадские взбунтовались. Сына тут у одного работного за долги батогами забили на площади. Вот и пошла кутерьма. Теперь пришли с отцом забитого шуметь. Сотня стрельцов погнала их за ворота города.
— Уже прослышали про вора, пугают нас, почуяли своего ворона, теперь жди от черни всякой дерзости. В городе стрельцов мало остается, вот и крутись тут, того и гляди, учинят беспорядки. Зря ты, Василий, с саблей-то, — в досаде укорил воевода. — Не всегда ею махать надо, ты ведь голова, тебе бы и подумать не грех.
Сконфуженный голова сел в угол и за весь вечер, пока продолжался совет, не проронил ни слова.
Наконец, после споров, разговоров, во время которых были взвешены все за и против, совет пришел к единому мнению.
Устало поднявшись, воевода объявил решение совета:
— Через два дня выступаем в поход на поиск воров. Перед походом всем сотникам проверить рать, готовность к бою. Водным путем на Царицын поплывет стрелецкий голова Богдан Северов, а с ним четыреста стрельцов.
Немного помолчав, добавил:
— Да солдатского строю сто человек под командой Кашпара и прапорщика Вальтера Завалихи. На этом пути идти осторожно, порядок держать строго. Сами знаете: вор идет по Волге. В островах можете попасть в хитроумную ловушку казаков.
— Да что ты, Иван Андреевич, впервой, что ль, в бою-то! Думаешь, не совладаем с вором? Нам бы его только сыскать, — с обидой прервал воеводу Северов.
— Знаю, что ты воин хороший, Богдан, но запомни: Стенька очень хитер, и от него всего можно ждать.
Все зашумели, заговорили враз. Воевода нахмурился, строго взглянул на присутствующих и продолжил:
— Сухим путем по берегу Волги двинется стрелецкий голова Василий Лопатин, а с ним конных стрельцов триста человек, да в придачу даю вам три сотни юртовских татар. Завтра утром они будут уже здесь. Ты, голова Богдан, и ты, голова Василий, — уже по-отечески советовал воевода, — не теряйте друг друга, постоянно сноситесь и, как сыщете вора, действуйте сообща.
Совет закончился. Иван Андреевич отпустил всех, а сам еще остался с Северовым и Лопатиным.
— Как только прибудете в Царицын, сразу же отпишите, — попросил воевода, — Унковский там вам поможет и людьми, и всем необходимым, в чем нуждаться будете. А ты на меня не серчай, Василий, — обратился он к голове, — что немного пожурил тебя за саблю, сам знаешь, что сейчас такое время, не все решишь ею. Ну, мужи, с богом! Готовьте свое войско к походу, проверю, как вы управляетесь, — на прощание молвил князь Иван.
Как только стрелецкое начальство вышло из палаты, Иван Андреевич велел дьяку Игнатию вызвать тайного истца Петра Лазарева.
Когда тот вошел в палату, воевода, задумавшись, сидел над картой Русского государства.
Истец неслышной походкой подошел к столу, кашлянул, поклонился в пояс. Петр Лазарев был стройный мужчина с приятными тонкими чертами лица. Волнистые русые волосы, вьющаяся бородка делали лицо Лазарева привлекательным и добродушным, что давало ему возможность быстро входить к людям в доверие и успешно выполнять работу тайного истца.
— Пришел? — взглянув исподлобья на Петра, спросил воевода.
— А как же не прийти, коли вы, Иван Андреевич, кличете.
— Я думаю, ты отдохнул добре, а теперь снова за работу. Сразу предупреждаю: дело трудное, но верю, что ты, как всегда, будешь хитер и умен в деле. Сегодня же тайком выедешь к Царицыну, а там разыщешь вора Стеньку Разина, пойдешь к нему служить в казаки. Нужен мне у него человек. Много мы лазутчиков подсылали, но все как сгинули.
Простодушное на вид лицо Петра мило улыбалось, невозмутимые голубые глаза смотрели по-собачьи преданно.
Воевода, поглядев на Лазарева, подумал: «Вот каков дьявол! Хитрец!» — и продолжал разговор далее:
— Постарайся служить в казаках так, чтобы тебе доверяли. Сноситься будешь через стрельца, которого мы пришлем. Он тебя знает и сам отыщет; что надобно знать о воре, узнаешь от него. Надежда на тебя у меня большая. Выезжай немедля в дорогу. Воротный предупрежден, из города выпустят без помех.
Истец даже не пошевелился, чтобы пуститься в путь. С улыбкой смотрел на боярина.
Иван Андреевич в недоумении глянул на Петра:
— Что еще? Ах да, деньги! — и воевода открыл кованый железом сундук, достал кожаный мешочек с серебром, положил на стол.
Лазарев, взяв в руку мешочек, взвесил его на ладони, подбросил и коротко сказал:
— Мало!
— Да ты что! Побойся бога, Петька! — с укором вскричал князь.
— Мало! — повторил Лазарев.
Иван Андреевич, тяжело вздохнув, снова полез в сундук, до-стал еще мешочек. Истец быстро спрятал оба мешочка за пазуху, улыбнулся безмятежной детской улыбкой и вышел из палаты.
6
Ночь в своем крепком стане казаки провели спокойно.
Вот уже зарозовело небо. По реке потянул ветерок, стало свежо. Запели на разные голоса птицы.
На востоке все ярче и ярче разгоралась заря, и вот на землю хлынули потоки щедрого солнечного света.
Заискрилась, заиграла отблесками могучего светила вода.
Местами по реке стелился белый туман, но под потоками теплых весенних лучей медленно таял.
Настал еще один день ожидания каравана. С восходом солнца Степан был уже на ногах. «Скорей бы появились суда», — думал он.
В эту ночь Разин почти не сомкнул глаз. Тревожные мысли неотвратимо навалились на него, не давая покоя и отдыха. Атаман ждал караван, всем существом желал, чтобы он пришел, ибо знал, что в нем спасение его войска. И в то же время боялся его прихода, понимая, что после совершенного нападения прощения ему не будет. Разин находился сейчас между двумя огнями: отступиться от планов — походу не быть, выполнить намеченное — развязать войну с воеводами. Степан хорошо понимал, что старшины и атаман войска Донского, в случае чего, от него откажутся, хотя многие из них и были за поход, помогали его осуществлению, снаряжая казаков. Разин и сейчас был уверен, что Корнило Яковлев ведет двойную игру: и ему помогает, и в Москву грамоты шлет — жалуется на него в Посольский приказ, да еще помощи просит хлебным и денежным жалованием. То, что Корнило ищет выгоды только для себя, Степан знал, так как долго находился подле него. Еще его отец Разя про Корнилу говаривал, что, мол, Яковлев тогда хорош, когда под его дудку пляшешь, а как перестал — обойдет и про тебя забудет. Но со своими сомнениями Разин оставался один. Никто ему в этом деле не советчик. Все надо решать самому! И, проведя бессонную ночь, атаман окончательно решил напасть на караван, тем самым обеспечить существование своего войска и осуществление похода.
Степан стал обходить казацкий стан, заговорил с дозорными:
— Как дела, атаманы?
— Все спокойно, батько, каравана пока не видать. Ты бы шел, Степан Тимофеевич, отдыхать. Что так рано поднялся? Поспал бы чуток, и так захлопотался, готовясь к походу! — с теплотой сказал казак из дозорных — горбоносый, с серебряной серьгой в ухе.
Степан пристально взглянул на него и спросил:
— Ты не из Черкасска будешь?
— Видно, не признал, Тимофеевич?!
— Признать не признал, но больно уж знакомо мне твое лицо.
— Да ты что, Степан! Ай, взаправду не признаешь! — воскликнул казак. — Да мы с тобой соседями в станице Зимовейской были, вместе без штанов мальцами бегали!
— Вот чертяка! Афанасий! — с удивлением воскликнул атаман, обняв друга детства. — Да тебя и не признаешь! Что же ты ко мне не подходил, поговорили бы за чаркой.
— Думал, что еще успею. Чего зря докучать!
— А говорили, что сгинул ты, как ходили отбивать табуны коней у татар.
— Было такое, Степан Тимофеевич, срезала меня татарская стрела тогда, да не насмерть. Выходили собаки поганые и продали персам в рабство. Много я там горя принял, четыре раза принимался бежать из полона, а на пятый все же сбежал.
— И не надоели тебе эти нехристи? — спросил Степан. — Ведь знаешь, куда поход лажу?
— Надоели, Степан Тимофеевич, но что поделаешь! Гол я, как сокол! А рабом быть у своих не хочу, там нагнул спину, ажно вспомнить страшно. А саблю моя рука еще крепко держит, — и, лихо выдернув ее из ножен, рубанул воздух со свистом.
— Батько, батько! Степан Тимофеевич! Идет! Караван идет! — кричал молодой запыхавшийся казак, подбегая к Разину.
Степан быстро взбежал на вершину бугра и поглядел на реку.
— Наконец-то! — радостно вырвалось у него, когда увидел вдали белые паруса. — Успеем встретить, — прикинул атаман. Засунул два пальца в рот и резко, по-разбойничьи, свистнул.
— Всем вниз к стругам! — скомандовал Разин.
Весь лагерь поднялся на ноги. Вокруг все завертелось. С первого взгляда казалось, что кругом неразбериха, но на самом деле каждый казак твердо знал свое место в сотне, в десятке, знал, что он должен делать. В какой-то миг стан опустел. Остались только дозорные, с завистью смотревшие вслед товарищам, спешащим к лодкам. Казаки кубарем скатились по крутому берегу, быстро сели в судна и отплыли.
Степан командовал на головном струге. По его знаку часть лодок зашла за остров, надежно скрылась в густой листве ивняка. Другие суда выгребали к середине реки.
Во всех маневрах маленьких лодок, уверенном ходе стругов чувствовался порядок, твердая власть атамана. Команды выполнялись беспрекословно, быстро, четко.
Ничего не подозревавший караван ходко плыл к крутому повороту реки. Все ближе и ближе подходил он к роковому месту. И вот из-за поворота выплыл первый струг, за ним еще и еще выплывали насады, весельные и парусные суда.
Охрана каравана, заметив казаков, засуетилась у медных фальконетов, стараясь навести их на врагов. Стрелецкие сотники и полусотники забегали по палубе, отдавая приказы.
Степан Разин, помолодевший, с непокрытой головой, в легкой котыге красного цвета, с обнаженной саблей стоял на носу струга.
Иван Черноярец, взглянув на своего друга, невольно залюбовался им. Сколько решительности в лице атамана! Орлиный взгляд темных очей горяч, движения быстры, во всей фигуре чувствуется неиссякаемая сила. Красная котыга к лицу Степану и сочетается с его черными кудрями.
Глядя на атамана, казаки улыбались, говорили друг другу: «Смотри-ка: батько-то сам в бой идет! Ох, и красив, дьявол!» И это приободряло робких, а смелым придавало больше храбрости.
Иван с любовью еще раз оглядел Степана, подошел поближе к нему, чтобы в схватке быть рядом, помочь в трудную минуту. Атаман, резко взмахнув саблей, крикнул:
— Вперед, ребята! Пощекочем боярских людишек!
Стремительно ринулись наперерез каравану разинские струги и лодки. Крутой поворот реки и быстрое, стремительное течение не позволили купеческим судам развернуться боевым порядком, и их выносило прямо в руки нападающих.
Грянул пушечный выстрел, второй, третий, но было уже поздно: лодки тесно обступили насады и струги каравана. Казаки крючьями цеплялись за борта, лезли на палубу. Кое-где завязались жестокие схватки, но сопротивлялось стрелецкое начальство да старые стрельцы-служаки. Остальные же без сопротивления ждали своей участи, поняв, что от такого множества нападающих им не отбиться.
Только на головном струге стрельцы не давали подняться казакам на палубу, пиками сталкивали их в воду, рубили по рукам цепляющихся за борта разинцев.
С большим трудом головному стругу все же удалось развернуться и вырваться из кольца лодок. Ударили весла по воде, и струг, а за ним несколько насадов быстро стали уходить. Однако не успели бежавшие поравняться с островом, как из-за ивняка их стремительно атаковали новые, скрытые до поры до времени лодки. Разинцы вмиг окружили убегающих, быстро полезли на палубу. Степан первым вскочил на судно; сверкнув очами, крикнул:
— Бросай оружие! Боярские прихвостни!
Стрельцы побросали оружие, сбились в кучу. Решительный вид атамана нагнал на них неимоверный страх.
Подойдя к рулевому, Разин скомандовал:
— А ну-ка, правь к берегу!
* * *
Довольные богатой добычей, казаки гоготали, хвалили батьку, хвастались друг перед другом своей удалью в бою, весело балагуря, подводили к берегу тяжело груженные хлебом и разным добром насады и струги.
Всех караванных людей вывели на берег. Были среди них и боярские приказные люди, сопровождавшие караван, и купеческие приказчики, и служилые люди. А с одного из насадов свели колодников. Они, обросшие, бледные и голодные, еще не верили своему нежданному освобождению: кто плакал, кто смеялся.
Степан Разин подошел к ним. Глядя с жалостью на несчастных, спросил:
— За что это вас заковали подлые бояре?
Колодники зашумели, заговорили — каждый свое, некоторые протягивали руки к атаману.
— Пойдете ко мне служить? Хотите быть вольными казаками? — спросил атаман.
— Хотим! Хотим, спаситель наш!
Обращаясь к есаулам, Разин распорядился:
— Расковать их побыстрее да накормить досыта, приодеть и распределить по сотням.
В один миг застучали молотки о наковальню, сбивая колодки и ошейники. Окружив освобожденных, казаки потчевали их вином, всякой снедью, накидали кучу одежды, захваченной на караване. Колодники на глазах преображались, одеваясь в дорогие кафтаны, сафьяновые сапоги. Дивились друг на друга, хохотали от радости. Степан Разин подошел к приготовленному ему креслицу, которое стояло на красном рытном ковре и было застлано голубым зарбафом, но не сел, а обратился к простому люду каравана, который толпой окружил его и во все глаза, с восхищением смотрел на необыкновенного атамана:
— Я даю вам всем волю! Отныне вы свободные люди и вольны служить у меня или уйти! А кто со мной пойдет на бояр, воевод да богатых купцов, милости прошу, того не обижу!
— Атаману слава! — разом закричали казаки и освобожденный люд.
Увидев поблизости бочку, Степан не спеша залез на нее и стал ждать, когда казаки успокоятся. Потом, подняв руку, сжал ее в кулак и крикнул:
— Вот что мы сегодня показали нашим кровососам! А почему? А потому что мы все вместе, как один, вдарили по ним! Потому что нас много! А раз, братья мои, нас много, мы сила! Вчера была у них сила, сегодня мы ее в руки взяли, и все это добро, — атаман широким жестом показал на огромную кучу товаров и всякого барахла, — это, ребята, все ваше! Мне ничего не надо! Я вам обещал, что дам вам волю, хлеб, богатый дуван и оружие?!
— Обещал! Обещал, Степан Тимофеевич! — гудела толпа.
— Вот оно обещанное! Дуваньте! Ну, а славу и честь вы добудете сами в ратном деле!
— Любо! Любо! — кричали казаки.
Хотел было Степан спрыгнуть с бочки, как вдруг круг расступился, пропуская несколько колодников, тащивших какого-то человека.
— А это еще кто? — спросил атаман.
Один из колодников, выступив вперед, заговорил:
— Это Кузьма Кериетов, царский служилый человек. В трюме меж бочек с вином схоронился. Мы хотели винца попить, да этого сыскали! Ох и гад, зверюга! Несколько колодников забил до смерти, пока мы сюда плыли. Он у стражников старшой был…
— А видать, как зачуял расплату, так и спрятался, — сказал другой колодник, держа служилого за шиворот.
— А, коли он трус… — с недоброй усмешкой сказал Степан. — Ну-ка, братцы, разденьте его донага.
Колодники стали срывать со служилого одежду.
— Григорий, тащи краску, рисовать будешь, — крикнул Разин во всю глотку.
— Сейчас, батько, — ответил казначей и побежал за краской, которую приметил на караванном струге.
Два здоровенных казака навалились на Кузьму, стали снимать с него штаны. Тот тоскливо завизжал.
Прибежал Григорий, неся в черепушке краску и жесткую кисть.
— А ну-ка, Гриша, нарисуй ему на заднем месте что-нибудь посмешнее! — приказал Разин.
Скулящего Кузьму задом подтащили к Григорию. Тот красной краской, под крики казаков, нарисовал на белой заднице царского служилого хохочущую рожу.
— А теперь отпустите его, пусть идет к воеводам и рассказывает, как мы будем жаловать всех бояр и ретивых служак! — закончил атаман, слезая с бочки.
Кузьму вытянули плетью по спине, тот с воем и стоном под хохот разгулявшийся толпы побежал вдоль берега.
Начался дуван. Дележ добычи производили есаулы. Добро делили долго, по справедливости, все остались довольны.
Вскоре атаман приказал готовиться к отплытию. С захваченного каравана казаки перетащили на свои струги легкие пушечки, распределили порох и пищали.
Весело уселись разинцы в свои струги, подняли паруса и медленно отчалили от крутого берега. Поплыли вниз по реке.
7
К Царицыну Петр Лазарев подъехал к полудню. Измученная быстрой ездой лошадь спотыкалась, да и сам седок еле сдерживался, чтобы не заснуть в седле. Кафтан у всадника запылился, сапоги были грязны. Въезжая в ворота, Петр уже предвкушал баню, чарку, а потом мягкую постель у вдовы Русаковой, давней его зазнобы, у которой он всегда останавливался, когда бывал по своим тайным делам в Царицыне.
Вдруг один из стрельцов, стоящих у ворот, схватил под уздцы его лошадь. Жеребец с перепугу шарахнулся в сторону, но крепкая рука служилого надежно держала узду. Стрелец строго спросил:
— Кто таков? По какому делу в город?
— Приказчик я купца Молчалина из Астрахани, по торговым делам к вам, — ответил Лазарев, простодушно улыбаясь чернобородому стрельцу.
— Что-то ты не похож на приказчика. Не лазутчик ли ты от вора Стеньки Разина? Мутить народ поди послан?! Слазь с коня!
— Что ты, служилый! Что ты! Никакого Стеньки я не знаю!
— Слазь с коня, тебе говорят! — угрожающе потребовал стрелец, кладя руку на рукоять сабли.
Петр нехотя спрыгнул на землю. Стрельцы живо заломили ему назад руки, выхватили из-за пояса два пистоля и кинжал, потащили в губную избу. Петр не сопротивлялся, знал, что скоро его отпустят.
В губной избе за широким столом сидел голова — Федор Кручинин — высокий, светловолосый человек, лицом бледен, с голубыми хитроватыми глазами. Полные его губы беззвучно шевелились. Федор то и дело отбрасывал рукой в сторону свисавшие на лоб длинные волосы, которые мешали ему писать. Он долго не отрывался от работы, не обращая внимания на вошедших, потом поднял голову, пристально посмотрел на Лазарева, узнав, заулыбался. Обращаясь к стрельцам, сказал:
— Идите!
Те вопросительно посмотрели на него, затоптались на месте.
— Так ведь, злодей, а вдруг что?.. — нерешительно спросил один из них.
— Идите, идите. Сам управлюсь.
Стрельцы пошли, оглядываясь.
— Да коня-то его привяжите здесь, во дворе.
— Привяжем, как велели, Федор Игнатьич, — ответил стрелец, закрывая дверь.
— Все догляд нужен. Пропьют, сволочи, коня! — сказал голова, с интересом поглядев на Лазарева.
— С чем это воевода Хилков послал тебя к нам?
— По тайному делу.
— Наверное, по делу вора Стеньки Разина? — и, не дождавшись ответа, посыпал вопросы:
— Как там ваши? Вышли на помощь?
— Идут водным и сухим путем со множеством стрельцов и юртовскими татарами. Ведут их голова Богдан Северов да голова Василий Лопатин.
— Слава тебе, Господи! — перекрестился Кручинин. — Знатным воинам доверили поиск вора. Это начальники добрые, знаю я их обоих. Знать, конец пришел вору! К Унковскому-то пойдешь говорить?
— Нет, Федор Игнатьич, не пойду сегодня. Устал я, еле сижу. Завтра с утра поговорим. Воеводе передай, что подмога идет, пусть не беспокоится. Да и с часу на час гонец ваш будет, все обскажет.
— Вчера с утра изветчики явились, — начал рассказывать голова, — сказывали, что напал злодей на купеческий караван, идущий в Астрахань. Добро все разграбил, людей — которых с собой взял, которых разогнал. А на заставу стрельцов, что у Черного ручья, вышел начальник царских стражников, который сопровождал колодников в караване. Так тот пришел голый и с разрисованной задницей.
— Да, не повезло стрелецкому начальнику, — посочувствовал, улыбаясь, Петр.
— Вот каков ирод антихристов! — продолжал голова. — Сказывают, что плывет по реке сюда. Ждем Разина со дня на день. Вот и тебя сегодня схватили у ворот. Побаиваемся, чтобы его люди в город не проникли да не стали подбивать народ на воровство. Посадские, работные ярыжки да воровские людишки оживились, стращают, что, мол, придет их атаман!.. И откуда взялась на нас такая напасть?
— С Дону, — ответил Лазарев. — С Дону, батюшка! Ладно, Федор Игнатьич, пойду я отдыхать.
— Опять к Ефросиньюшке? — с улыбкой спросил голова.
— А куда ж боле?
— Присушил ты ее чем-то, — сказал голова и с любопытством поглядел на Лазарева. — Многие после смерти ее мужа — стрелецкого сотника Русакова — к ней подкатывались, да откатились восвояси. Никого к себе не подпускала. И за что тебя любит?
Не ответив на вопрос головы, Петр встал:
— Пошел я, Федор Игнатьич, завтра утром приду в приказную палату.
— Иди, иди, потешь вдову! — с усмешкой проводил Лазарева Кручинин.
Петр, вскочив на коня, поспешил знакомыми улочками к дому Ефросиньюшки.
Вот и небольшой, утопающий в белом яблоневом цвету домик Ефросиньи Никитичны Русаковой, стрелецкой вдовы. В саду монотонно жужжат пчелы, перелетая с цветка на цветок. Пахнет дымком и печеным хлебом. Во дворе залаяла собака.
Спрыгнув с седла, Петр стукнул в ворота. Собака еще больше залилась визгливым лаем, послышались легкие шаги хозяйки. Загремел засов, ворота открылись, заскрипев ржавыми навесами. Вышла стройная женщина, лицом белая, светло-русая, с усмешкой на губах. Большие лукавые зеленоватые глаза светились счастливой радостью. Ефросиньюшка улыбалась, обнажив ряд ровных белых зубов. Женщина была уже немолода — лет за тридцать, но здоровьем и красотой наделена природой изрядно.
— Петро, Петенька приехал! — запел мягкий голос Ефросиньюшки. — Только сейчас думала о тебе. Что-то моего ненаглядного нет. А ты и явился! Проходи, проходи, голубь, иди в сенцы, раздевайся, приляг на лавку, там у меня тулуп постелен. А я коня твоего поставлю, покормлю, баньку истоплю. Есть-то хочешь? Там у меня в сенцах молоко и каравай хлеба, закуси пока. Ну, иди, иди, родной!
Лазарев в полудреме кое-как снял с ног сапоги, скинул кафтан. Не отрываясь, выпил целый кувшин молока, повалился на мягкий тулуп.
«Как Ефросиньюшка похорошела», — подумал, засыпая, Петр. Снилось Лазареву, что сидят они со Стенькой Разиным в шатре, вино пьют. У него чаша в руках, а тот, зверского обличия казак, из ведра пьет и говорит:
— Знаю я, что ты тайный истец воеводы Хилкова, но не убью тебя, если ты это вино выпьешь! — и поставил перед ним ведро.
Петр обхватил его руками, заглянул внутрь, и страх его объял. В ведре было не вино, а кровь. Ведро вдруг начало расти, расти и стало с бочку.
— Что не пьешь, тайный истец? — грозно спросил Разин и страшно захохотал. — Ха-ха-ха, ха-ха! Пей! Это кровь народная, всех замученных и обездоленных боярами да воеводами ни в чем не повинных людей! Пей!
— Не могу я кровь пить, — весь трясясь от страха, ответил Лазарев.
— Можешь! Ты ее за деньги каждый день пьешь!
— Нет! Нет, не могу! — закричал тайный истец.
— Не можешь! — страшно закричал Разин, и, выхватив саблю, рубанул Лазарева сверкающим клинком.
— А-а-а-а!.. — закричал Петр и вскочил с лавки. Рядом стояла Ефросиньюшка.
— Ты что? Что с тобой, Петя? — с изумлением спросила женщина. — Часом не заболел ли ты?
— Фу-у-у… — выдохнул Лазарев, вытирая рукавом рубахи выступивший холодный пот. — Дурной сон снился. И приблажится же такое!.. — со вздохом сказал Петр, вставая.
— Я баньку истопила, иди, Петенька, в первый жар, попарься хорошо — все как рукой снимет. Это у тебя от дальней дороги, видно, умаялся ты знатно, — ласково сказала Ефросинья.
Раздевшись в предбаннике, где пахло вениками и вольным жаром, Лазарев зашел в баню. После долгой дороги, пыли и грязи хотелось попариться.
Налил из бочки холодной воды в деревянную шайку. Зачерпнул полный ковш квасу, плеснул на каменку. Раскаленные камни зашипели, затрещали; терпкий, душистый, пахнущий хлебом и мятой пар повалил вверх. Взяв уже распаренный Ефросиньюшкой веник, залез на полок, лег и, задрав ноги к потолку низкой баньки с прокопченными до черноты стенами, стал отчаянно хлестать свое тело, кряхтя от удовольствия. Петр зачерпнул еще ковш квасу, вновь плеснул на каменку. От жара трудно стало дышать, зажгло уши, накалились ногти на руках. Вылив следующий ковш квасу на себя, энергично стал растираться веником. Затем снова взялся париться, громко кряхтя, постанывая и восклицая: «Ох, хорошо! Хорошо-то как, Господи!». Спустившись с полка, облился холодной водой из шайки, плеснул еще ковшичек на камни, залез обратно, лег, притих, млея от тепла, приятного запаха хлеба и мяты.
* * *
Стол вдова накрыла в просторной горнице, где было прохладно: горели восковые свечи, распространяя запах меда и еще чего-то духмяного.
За окном опустился голубой вечер. Гость выпил первую чарку водки, запивая холодным медом.
— Смотри, Петя, с медом быстро захмелеешь, — предупредила Ефросиньюшка, лукаво улыбаясь, и, пригубив свою чарку, закусила зернистой икрой.
Лазарев уплетал за обе щеки, стараясь попробовать все блюда, расхваливая женщину за вкусно приготовленные яства. Насытившись, Петр предложил выпить за Ефросиньюшку — та согласилась и осушила чарку до дна.
Так сидели они весь вечер вдвоем, пили вино, меды и разговаривали.
Наступила ночь. Свечи догорали, сильно оплавившись. Кувшины с медом и водкой изрядно опустели. В голове у Лазарева затуманилось. Ефросиньюшка виделась ему сказочно красивой. Она сняла с головы рефить. Волосы ее крупными золотыми прядями разметались по спине, волнами легли на грудь.
Петр потянулся к вдове, поцеловал ее в губы и попросил:
— Спой, любушка, что-нибудь.
Вдова поставила в подсвечник новые свечи, достала из резного шкафа домбру, провела рукой по струнам. Полилась грустная мелодия. Ефросиньюшка, глядя на любимого, нежным голосом запела:
Ах, уж ты, душенька, красна девица,
Чернобровая, радость черноглазая,
Круглолицая, радость белолицая,
Сотонка ли ты, ростом высокая!
Зла присуха молодецкая,
Присушила ли меня, добра молодца:
Не травой сушит, не кореньицем,
Не лазоревыми цветочками, —
Ты своей сушишь девичьей красотой,
Девичьей красотой, грудью белою.
Лазарев слушал с наслаждением, глядя во все глаза на женщину, откровенно любуясь ею. Как хороша-то, господи! Век был бы около нее. Что его ждет завтра: удача, как всегда, веревочная петля или острый клинок казацкой сабли? Сумеет ли попасть к Разину? Он уже многое слышал об атамане и в душе им восхищался, образ врага с ним не вязался. Часто, непроизвольно для себя, он думал о нем как о добром молодце из сказки, вставшем на защиту простых людей. Хоть и была у него работа в угоду астраханскому воеводе, хоть и кормила неплохо, но в душе тяготила, а куда податься, к кому голову приклонить — не знал; только и была одна радость — Ефросинья, самый близкий ему человек. Но и она не ведала об его истинном занятии, а узнав, может, и отвернулась бы от него. Поэтому о своих делах Петр никогда с ней не говорил, да и для всех был приказчиком купца Молчалина. Знали о его настоящем деле лишь несколько человек. И теперь он должен снова лицемерить, обманывать, изворачиваться, глядя в глаза людям, которые по своей наивности всегда верили ему. Верили, потому что он умел угодить, вовремя сказать ласковое слово, польстить. А ведь этого ему не хотелось. В глубине души теплилась надежда, что он сможет прийти однажды к Ефросинье и никогда отсюда не уходить; заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы завести свою кузницу или начать плотничать — пойти на берег и строить лодки и амбары под товары. Да где там! Сколько раз он просил воеводу Хилкова отпустить его, но тот об этом и слушать не хотел. Может, оно и к лучшему, что такая заваруха началась, гляди, и для него какие изменения выйдут? Идти к казакам с его делом не просто. Говорят, атаман человек умный, и в доверие к нему войти трудно будет, да и поверит ли он ему? К чему же сон ему такой приснился, как его разгадать, может, это какое-то знамение?.. Вспомнив свой сон, Петр содрогнулся.
Ефросиньюшка, кончив петь, спросила:
— Что это с тобой? Что ты, Петенька, чернее тучи?
— Устал я, Ефросиньюшка. Дорога-то, чай, не близкая.
Женщина поцеловала любимого в губы и прошептала:
— Унеси меня, милый, в кровать.
Лазарев подхватил Ефросинью на руки, осторожно положил ее в мягкую постель, задул свечи, разделся, лег к ней. Там его ждали горячие объятия истосковавшейся по нему женщины.
* * *
Придя утром в приказную палату, Петр Лазарев заметил необыкновенную суету стрелецкого начальства.
Воевода Андрей Унковский — боярин средних лет, с хмурым лицом, одетый в колонтарь, с саблей на боку, с двумя пистолями за поясом, стоял в окружении стрелецких сотников и полусотников и возбужденно говорил. Завидев Лазарева, он что-то сказал голове Кручинину, отошел в сторону к окну и подозвал тайного истца.
Кручинин со стрелецким начальством вышел из приказной палаты.
Лазарев низко поклонился воеводе, подошел поближе. Унковский, глядя с пренебрежением на истца, спросил:
— С каким делом послал тебя воевода Хилков?
— Проникнуть к Разину в войско.
— Хорошее дело задумал астраханский воевода! Лазутчик у Стеньки нам позарез нужен. Недавно изветчики вернулись с сообщением, что злодей недалеко. Так что скоро тебе будет возможность послужить атаману. А нам придется постоять на стенах города — ваши-то не подоспели, опередил их антихрист. Говорить мне долго с тобой недосуг, ты присматривайся и беги к нему, как сумеешь.
Воевода повернулся спиной к Петру и пошел, торопясь, к выходу.
Лазарев с ненавистью посмотрел в спину Унковскому, подумал: «Сволочи, понадобился им свой человек у Стеньки, а сами смотрят на меня, как на предателя. Платить не разбегутся, все норовят свой карман набить».
— Ну, что ж, будем проникать к грозному атаману! — уже вслух сказал тайный истец.
8
Разинцы плыли к Царицыну. Длинная вереница лодок, стругов, насадов, подгоняемая попутным ветром, быстро неслась вниз по Волге.
Казаки были довольны большой добычей и первой победой, весело гоготали, горланили разудалые песни, подшучивали друг над другом.
Есаулы угодливо заглядывали в глаза атаману, стараясь пред-угадать его желание. Но Разин был хмур. Уединился на носу струга, размышляя: «Теперь о разграблении каравана скоро узнают в Москве. Царь, конечно, не простит мне такую дерзость, самое лучшее, что меня ждет, — это плаха. Пускай еще возьмут! Сейчас голыми руками меня не сцапаешь, — успокоил себя атаман и обвел гордым взглядом множество лодок. — А пока на Волге нет никого. Гуляй, казак! Хилков и Унковский сидят в своих крепостях. Я их еще попытаю. Эх, поднять бы весь Дон, да так тряхнуть бояр и воевод, чтобы всем чертям стало тошно! Только сволочи эти, домовитые, норовят в сторону. Москве в рот смотрят. Корнило тут всему голова. Эх, Корнило, Корнило, люб ты был мне когда-то! Многому я у тебя научился.
Когда же все-таки наши пути разошлись? Наверно, с тех пор, как Яковлев был избран войсковым атаманом: когда стал кланяться в ножки Москве, думать не о войске, а о своей лишь выгоде. Гребет Корнило денежки и от Москвы, и от домовитых казаков — ничем не брезгует. И куда человеку столько денег? Жадность! — пришел к выводу Степан. — Скольких эта жадность сгубила, и бедных, и богатых?! А раздать все поровну, на всех бы хватило добра!»
Вспомнились слова Корнилы Яковлева, однажды сказанные ему: «Ты, Стенька, ежели был бы не дурак и не раскидывался добром, быть бы тебе самым богатым в войске Донском, и атаманство после меня взял бы — я ведь не вечен. А то добро, которое ты людям делаешь, им зло не изведешь».
«Нет, крестный отец! Из меня такой, как ты, не получится! Сорок лет уже прожил, а сволочью не стал, тянуть на себя не научился! Не обижу людишек голодных и обездоленных, — размышлял атаман. — Наверное, я рожден для того, чтобы победить зло!»
Кто-то положил Разину руку на плечо. Он медленно повернул голову и увидел Григория — бывшего монаха, а ныне казначея его войска.
— Зачем лезешь? — в досаде огрызнулся атаман. — Аль не знаешь страха? — глаза Разина зажглись гневными огоньками.
— Ты почему, Тимофеич, бормочешь тут один? Вон есаулы без тебя скучают.
— А… — только и вымолвил атаман, махнув рукой, потом крикнул: — Ефим, черт! Где ты запропастился?
— Здесь я, батько. — Ефим стоял в новом кафтане с саблей на боку, за поясом поблескивал пистоль.
— Ну и ну! — подивился Степан. — Вот это казак! Ребята, взгляните-ка на мужика! — обратился Разин к есаулам.
Все зашумели, стали хвалить наряд Ефима. Подходили, щупали кафтан, пробовали остроту сабли.
— Спой песню! — попросил Разин.
Ефим сел рядом, озорно взглянув на атамана, спросил:
— Хочешь песню про тебя спою, что недавно надумал?
— Пой, братец! Пой! Да так, чтобы душу всколыхнуло!
Все затихли. Тряхнув русыми кудрями, Ефим запел сильным голосом:
У нас, братцы, было на Дону
Во Черкасском городу:
Народился молодец —
Стенька Разин — удалец.
Народился молодец —
Стенька Разин — удалец,
Степан молча слушал, чему-то улыбался.
Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Ох, с большими господами
Дум не думывал,
Ой, ходил-гулял Степанушка
Во царев кабак…
Все слушали песню с пристальным вниманием. Кое-кто из есаулов пытался подпевать, но, не зная слов, замолкал.
Когда Ефим кончил петь, Разин привлек певца сильной рукой к себе и, расцеловав в губы, сказал:
— Спасибо тебе, казак, за песню! Люб ты мне! Еремка! Давай нам с Ефимом вина!
Еремка мигом поставил чарки перед певцом и атаманом.
— Батько! Пьем за победу! — воскликнул Иван Черноярец. Степан раскурил трубку и, пуская клубы сизого дыма, весело крикнул:
— Гей, музыканты, плясовую!
Заиграла музыка, застучали резвый бубен и накры.
На палубу чертом выскочил Еремка и повел плясовую. Замелькали в танце руки и ноги, вихрем носился молодой казак, выделывая замысловатые коленца.
На круг вышло еще несколько удалых есаулов, закружившись в быстрой, огневой пляске. Палуба трещала и стонала под ударами резвых ног.
У Степана в глазах заиграли веселые огоньки. Он закричал, подбадривая музыкантов:
— А ну, поддай! Чаще! Чаще!
Музыканты заиграли еще быстрее. Разин легко вскочил, пронесся вприсядку по палубе. Он неистово вертелся волчком, выделывая невообразимые кренделя, вкладывая в пляску всего себя, свою душу.
Вся горечь, вся внутренняя борьба его страстей, все наболевшее выплеснулось в этом бешеном танце.
Но вдруг атаман сел на место, залпом выпил приготовленную ему чарку вина. Глаза его потухли, лицо окаменело, брови лишились грозной хмури: казалось, он задремал.
— Братцы, — крикнул Еремка, — батько спать будет!
Есаулы, стараясь не шуметь, ушли, Еремка заботливо набросил на плечи атамана бобровую шубу.
* * *
Разинское войско подплыло к Царицыну в ночь на 25 мая.
Атаман приказал как можно тише и незаметнее подгрести к самому городу.
Царицынские крепостные стены черной громадой возникли перед казаками, пугая своей неприступностью. В это время город должен был спать, но по всему было видно, что разинцев здесь ждут: на валу и на крепостных стенах маячили стрельцы, у пушек горели наготове зажженные фитили.
Раздался резкий свист атамана — условный знак к приступу города, и казаки ринулись на вал. Сам атаман с саблей в руке бежал первым. В темноте было плохо видно, и казаки, спотыкаясь о камни и коряги, злобно ругались. Наступающие лавиной неслись к крепостному валу, откуда уже ударили пушки. Запахло порохом, едкий дым застилал глаза. В первых рядах казаков появились убитые и тяжело раненые. Разинцы остановились, некоторые попятились, кое-кто в страхе упал наземь, боясь пушек.
По приказу атамана есаулы быстро перестроились, подтянули фальконеты и обстреляли вал и крепостные стены. Царицынские стрельцы в ответ беспрерывно палили из пушек и пищалей, нанося ощутимый урон разинскому войску. Степан собрал есаулов на совет, чтобы решить, что делать дальше.
— Что, братцы, понюхали царицынского пороха? Ишь, какими калачами воевода Унковский нас встречает! — с усмешкой обратился атаман к есаулам.
— Уж куда лучше! — ответил Фрол Минаев. — У меня уже десять матерых казаков убили; еще раз-два сходим на вал — и всех перебьют.
— Бояться смерти, так и победителем не быть! — ответил Фролу Якушка Гаврилов, с глубокой царапиной на щеке, из которой сочилась кровь. — Ты что же, хочешь брать город, и чтобы ни один человек не пал?
— Что толку, если мы здесь сложим свои головы! Разве лучше будет? — сердито заговорил Черноярец.
Степан на минуту задумался, затем сказал:
— Чую, что Царицын нам не одолеть, а так уйти — жалко. Давайте начнем с ними переговоры.
— А что — неплохо бы и поговорить! Можно попытаться, — поддержал атамана Иван Черноярец. — Сам я и начну.
— Может, жребий бросите? — посоветовал Разин, жалея друга.
— Нет, нет, нет, — запротестовал есаул. — Я пойду и скажу, что надо. А пока я с ними балясы точу, вы продвигайтесь ближе к валу, а то стрельцы бьют беспрестанно из пушек, встать не дают.
— Тогда начнем! — сказал Степан и отошел с Черноярцем в сторону, где они быстро обсудили, что есаул будет говорить.
Стрельба с обеих сторон на некоторое время прекратилась. Царицынцы настороженно ждали, вглядываясь в ночную темь. Вдруг раздался необыкновенно зычный голос атамана.
— Эй, на валу! Эй, на стенах, не стреляйте! К воеводе для переговоров идет войсковой есаул Иван Черноярец.
Стрельцы зажгли множество факелов, стараясь осветить как можно лучше подступы перед валом.
Из тьмы, со стороны разинцев, обозначилась высокая фигура есаула в сопровождении двух человек, которые встали чуть поодаль от него.
Иван Черноярец с достоинством, не торопясь, начал плести хитроумную речь, дабы отвлечь внимание царицынцев. Но вот чуткое ухо Ивана уловило легкий свист — условный сигнал.
«Пора уходить. Ребята уже, наверное, подобрались под вал», — подумал Черноярец и растворился во тьме, хотя воевода еще что-то кричал, грозился.
Разинцы, подошедшие почти вплотную к валу, дружно ударили из фальконетов и пищалей, с криком бросились на приступ.
Дико орущая толпа казаков, махая саблями, бердышами, пиками, топорами или просто заостренными кольями, мчалась на вал. Кое-кто из стрельцов от неожиданности растерялся и стремглав помчался под защиту стен крепости. В некоторых местах казаки уже заскочили на вал, дрались врукопашную со стрельцами.
Ефим, с огромной дубиной в руках, старался быть невдалеке от атамана. Ловко владея необычным оружием, он сбивал за один взмах по несколько человек. Ничто не могло устоять против могучего воина: ломались сабли, в щепки разлетались древки пик и бердышей. Вот зоркий взгляд казака уловил, что один из стрельцов норовит сзади срубить Разина.
— Поберегись, батько! — заорал во всю глотку Ефим. Страшный удар дубины вогнал голову стрельца в плечи, тот без звука осел на землю.
* * *
Унковский вместе с головой Кручининым забегали по рядам стрельцов. Воевода ругался, кричал, материл служилых на чем свет стоит, угрожал страшными карами за трусость.
Наконец, царицынцы оправились от страха, вступили в схватку с казаками, стали спихивать их с вала, беспрестанно палить вниз из пищалей и пушек.
Воевода заставил пушкарей развернуть орудия и стрелять прямо по валу, где в схватке смешались стрельцы и казаки. Постепенно разинцы были сбиты с вала. Они вынужденно отступили и откатились во тьму.
Воевода и голова перевели дух, еще не совсем веря в успех. Трясущимися руками Унковский вытер вспотевшее лицо.
— Чуть было не прорвались, — испуганно озираясь, сказал голова. Из тьмы, со стороны разинцев, хлопнуло несколько выстрелов. Кручинин как-то странно подпрыгнул, схватившись за голову руками, и навзничь упал на землю. Унковский в страхе уставился на безжизненное тело головы. Казацкая пуля угодила Кручинину прямо в глаз, пробив затылок.
Воевода перекрестился:
— Господи! Господи, за что на нас такие напасти! — потом приказал унести погибшего в крепость.
После случившегося Унковский заперся в крепости и больше на вал не появлялся.
До рассвета казаки ходили на приступ еще несколько раз, но царицынцы сильным огнем из орудий отбивали натиск разинцев.
9
Петр Лазарев проснулся ночью от страшного шума и грохота. Со стороны крепостных стен и вала слышались крики, глухие выстрелы из пищалей и пушек.
Высвободившись из объятий Ефросиньи, которая от страха сжалась в комок и бормотала молитвы, Лазарев встал, быстро оделся в заранее припасенную одежду, сунул за пояс два кремниевых пистоля, пристегнул саблю.
Ефросиньюшка уцепилась за любимого, не отпускала его, причитала, как бы чувствуя, что видит его в последний раз.
— Ой, не ходи, Петенька, убьют тебя эти злодеи! Ой, не ходи, родненький!
Лазарев, нежно поцеловав ее в губы, усадил на кровать.
— Что ты, Ефросиньюшка! Да я только взгляну одним глазком и назад быстрехонько. Иди, запри за мной ворота получше и никого не пускай. Бог даст, скоро вернусь.
Вдова зарыдала, уткнувшись в подушку.
По дороге к валу Лазарев решил, что, если удастся, сразу же перейдет к Разину для свершения своих тайных дел.
Одет он был в синий кафтан, на голове баранья казацкая шапка, на ногах телячьи сапоги. За поясом поблескивали кинжал и два пистоля, которыми он владел в совершенстве.
Когда тайный истец пробрался на вал, там кипела ожесточенная схватка. Не успел Петр понять, где казаки, а где царицынцы, как на него навалился стрелец, спутав его с разинцем. Здоровенный детина подмял его под себя, ухватил за горло. Задыхаясь, Лазарев с трудом вытащил из-за пояса кинжал и, напрягаясь из последних сил, ударил снизу дюжего мужика. Тот дернулся и выпустил его горло. Петр с жадностью стал вдыхать пахнущий пороховой гарью воздух. С трудом сбросив с себя тяжелое, безжизненное тело служилого, он вскочил на ноги, но тут же на него вновь набросилось несколько стрельцов. Тайный истец метко сразил двоих в голову выстрелами из пистолей, а третьего зарубил могучий чернобородый казак. Сверкнув на Петра горящими черными глазищами, крикнул:
— Держись, браток!
Казак ловко орудовал саблей налево и направо, её удар был смертелен для врага.
Петр Лазарев сразу же почувствовал силу этого человека. Бок о бок с чернобородым тайный истец продолжал рубиться, успешно отражая нападения стрельцов.
Стрельба из пушек усилилась, скоро их огонь перенесся на дерущиеся кучки противников на валу. Разинцы стали медленно отходить с вала к своим стругам.
Лазарев заметил, что около чернобородого детины всегда поблизости находится несколько здоровенных казаков, которые оберегают его от любой опасности. Особенно привлекал внимание мужик богатырского телосложения с огромной дубиной. И, как только около чернобородого скапливались стрельцы, мощный удар дубины либо разбрасывал их в стороны, либо оставлял лежать мертвыми.
Начало светать, когда штурмующие безуспешно, последний раз сходив на приступ, отошли к берегу Волги к своим судам.
К чернобородому подбежал человек и возбужденно спросил:
— Что делать будем, Степан Тимофеич?
— Всем на струги — и плыть вон туда, — ответил Разин, показывая рукой в сторону Сарпинского острова.
Лазарев догадался, что судьба свела его с самим атаманом, и, вспомнив свой сон, заулыбался.
— Чего улыбаешься? — вдруг спросил атаман, пристально вглядываясь в лицо Лазарева. Взгляд атаманских глаз обжег его и, казалось, пронзил насквозь, от чего Петр даже поежился, и ему стало не по себе от внезапно появившегося ощущения, будто Разину все известно про него.
— Откуда ты взялся? — спросил атаман, все также сверля Лазарева глазами. — Что-то я раньше тебя не видел у нас.
— С Царицына я, приказчик астраханского купца Молчалина. Промотал в кабаке с бабами все его деньжонки и решил податься к тебе.
— А стрелять где так знатно выучился? — с усмешкой спросил Степан.
— Так мне же часто в пути бывать приходилось, а от лихих людишек самая надежная защита — пистоль да сабля.
— Как звать-то тебя?
— Петр Лазарев.
— Тот струг видишь? — и Разин показал на струг, стоящий невдалеке. — Будь там и жди меня, потом еще поговорим.
В это время к Степану подошли есаулы, чтобы узнать, как быть дальше.
— Давайте, ребята, по стругам и плывите, — показал Разин на чернеющий посреди реки островок.
Есаулы поспешили к своим судам.
Казаки, усталые, изможденные, поддерживая раненых, садились в лодки. Матерно ругаясь, грозили кулаками в сторону Царицына.
Наконец, разинские суда, один за другим, стали медленно выгребать по направлению к Сарпинскому острову.
Когда казацкие лодки подошли к цели и причалили, разинцы разбрелись по острову и, найдя подходящее место, падали от усталости, тут же засыпая. А те, у кого были еще силы, шли к воде, чтобы смыть грязь, кровь, пороховую копоть, перевязывали раны.
Несколько казаков быстро поставили на бугре атаманов шатер.
Подозвав Ивана Черноярца, Разин спросил:
— Дозор выставили?
— Выставили, Тимофеич, со всех сторон острова и у стругов.
— Дозор бы надо почаще сменять, пусть ребята отдохнут, — озабоченно попросил атаман. — Тут из Царицына к нам приказчик сбег. Ты еще к нему не приглядывался? — спросил Разин.
— Видел.
— Ну и что?
— Вроде бы на лазутчика не похож, но присмотр за ним установлен будет. Скажу ребятам, пусть доглядят.
— В бою опытен. Бок о бок со мной стоял на валу.
— Куда его определить? — спросил Иван.
— Парень он грамотный и к бою годен, пусть с Григорием бумажными делами пока ведает, а где надобно, за казну постоит. Народ-то у нас всякий собрался — за казной догляд нужен.
Атаман зевнул и устало сказал:
— Пойду, маленько сосну. Но сначала пришли ко мне в шатер этого приказчика, я с ним еще поговорю.
Устало ступая отяжелевшими ногами, Степан вошел в шатер. Сел к небольшому столику, на котором была приготовлена еда. Залпом, не отрываясь, выпил прямо из яндовой сыто. Сильной рукой взъерошил черные кудри. Стал обдумывать причины неудачи взятия города, размышлять про себя: «Да, город нам не взять. Слабо наше войско. Не привыкли еще ребята к казацкому делу. Многие совсем недавно вместо сабли и пищали в руках держали соху или занимались своим ремеслом. Ничего, привыкнут. Казаками не сразу становятся. Поучить бы их бою, да нет времени. Завтра нужно уходить дальше вниз по реке, как можно скорей пробиваться к морю, пока воеводы не собрали силу. А с утра надобно созвать круг и согласно казацкому обычаю обсудить, что делать дальше», — решил атаман.
Лазарев неслышно вошел в шатер к Разину и остановился, настороженно глядя на атамана.
Казалось, Степан не видел вошедшего, но тут же заговорил, не глядя на него.
— Садись, чего стоишь? Я ж тебе не боярин.
Лазарев робко сел к столу.
— Бабенки-то хоть хорошие были? — вдруг спросил атаман, хитро улыбаясь.
— Какие бабенки?
— А эти, с которыми ты купцовы деньги пропил.
— А-а-а, бабенки-то… — вспомнил свой рассказ Лазарев, — неплохие!..
— Ты вот что, давай-ка без хитрости, расскажи лучше сам, кто тебя послал ко мне и зачем? Мне таких, как ты, воеводы много подсылали, некоторые у меня служат, а иные рыб в реке кормят. Если сегодня не расскажешь, завтра сам дознаюсь, тогда пощады не жди. Да знай, что за каждым твоим шагом ребята следить будут. Как худое заметят, сразу саблей срубят, вот мой указ.
Такого поворота Лазарев никак не ожидал. Он считал, что, сражаясь с Разиным на валу, заслужил у него полное доверие. А тут — на тебе!
— Неужто я чем тебя обидел, Степан Тимофеич, раз так мне не доверяешь?
Степан пристально посмотрел на него, спросил:
— Тебя ко мне кто прислал, Унковский или Хилков?
Тайный истец растерялся не на шутку от уверенности атамана в том, что перед ним лазутчик.
— Чего молчишь, сказывай! Али звать казаков, чтобы посадили тебя в воду?
— Еремка! — крикнул Степан.
В шатер забежал заспанный молодой казак. — Что, батько?
Лазарев сжался в комок, не зная, что предпринять, потому как почувствовал на себе тяжелый взгляд атамана.
— Раздобудь-ка нам, Еремка, чего-нибудь солененького, надоела уж эта баранина.
Еремка исчез.
Разин, улыбаясь, сказал Лазареву:
— Что, голубок, напугался? — и, как бы заглянув в самую душу Петра, молвил: — Не знаю, кто ты, но чувствую: что-то неладное у тебя на душе, ты мне сказывай — легче будет.
— Да что сказывать-то! — глядя невинными глазами, ответил Лазарев. — Я же тебе все рассказал. А что на душе грех у меня, это ты верно, атаман, сказал, разорил ведь я купчишку, и не будет мне от него прощения.
Разин захохотал.
Появился Еремка, поставил на стол полную глиняную чашку соленого чебака и кувшин с сытом.
— Вот это добрая еда! — обрадовался Разин, наливая сыта из кувшина. — Ладно, Петр, что не сказал, потом скажешь.
— Григорий! — крикнул во всю глотку атаман.
— Что, Тимофеич? — раздалось из другой половины шатра.
— Иди сюда, подожди спать!
Через некоторое время появился заспанный худощавый казак с тонкими чертами лица, длинными седыми волосами и окладистой седеющей бородой. Даже казацкая одежда не могла скрыть в нем бывшего монаха.
— Что расшумелся-то? Поспал бы, а утром все бы обговорили, — ворчал Григорий.
— Да ты лучше погляди, кого я тебе в помощники сыскал! Давно просишь у меня найти грамотного человека. Он бою обучен, ну а если что, и за казну постоит. — И, обратившись к Петру, пояснил: — Отныне будешь у Григория при казне и бумагах служить. А там поглядим.
— Ложился бы ты спать, атаман, хоть часок соснул бы, а то завтра дела опять на тебя навалятся, — посоветовал Григорий.
— Твоя правда. Надо бы поспать, — зевая, поддержал старика атаман.
А как только Григорий с Лазаревым ушли, Разин, не раздеваясь, повалился на широкую лавку, застланную рытным ковром, и громко с присвистом захрапел, что-то бормоча во сне.
10
Чтобы никто не подслушал разговоры и не видел тайного со-брания, особенно голутвенные казаки, войсковой атаман Корнило Яковлев собрал нужных ему старшин у себя дома, в светлой горнице, под видом гулянки.
По этому случаю хозяйка дома накрыла на стол, где со всякими прочими закусками красовались посреди стола дорогие кувшины и яндовы с вином и хмельным медом.
Тайный совет был сколочен самим атаманом из самых влиятельных домовитых казаков. Все они уже давно в походы не ходили, жили в зажиточных домах, занимались хозяйством. Дуван брали у загулявших станичников, вернувшихся из похода, скупая за бесценок дорогие вещи.
Сам Корнило, в прошлом лихой казак, но с годами остепенившийся, был очень хитрым, мудрым и властолюбивым атаманом. Высокий ростом, он еще не утратил с возрастом былую силу, мог ловко рубиться саблей в бою. Был смугл лицом, с мясистым носом, из-под широких седых бровей поблескивали умные карие глаза. Упрямый тяжелый подбородок и широкое лицо со стальными холодными глазами говорили о настойчивом характере этого человека.
Когда все уселись за стол, Яковлев поднял чарку, провозгласил тост:
— За царя-батюшку Алексея Михайловича выпьем, братцы! За нашу надежду, за кормильца нашего!
— За царя! За батюшку! За Алексея Михайловича! — вразнобой поддержали казаки, но выпили дружно и стали закусывать рыбой и сладостями.
Зная, что атаман собрал их по делу, казаки пить не спешили, усердно закусывали.
Утерев губы после жирного куска баранины, атаман, наконец, сказал:
— Я вас собрал, казаки, сегодня не бражничать. А сообщить вам плохую новость. Нынче утром вернулся изветчик и сообщил, что крестник мой ушел из Качалинска и Паншина, вышел из своего воровского логова на Волгу и уже разграбил шедший по Волге торговый караван.
— Осатанел он, что ли?! — с удивлением воскликнул Никита Подкорытов, тучный казак с проседью в волосах. — Теперь Стеньку, окромя плахи, ничего не ждет! Атаман, едрена вошь! В грабеж ударился вместо похода за море!
— Помолчи ты! — зашикали на него домовитые.
— Сами знаете, казаки, — продолжал Корнило, — царь и так на нас последнее время серчал за то, что голытьбу принимаем, что смута часто от нас идет. Один только Василий Ус сколько греха натворил и все еще воду мутит. Царь за то хлебное жалование сколько раз нам задерживал. А теперь и вовсе!..
— Причем тут войско Донское? — заговорил, горячась, худощавый чернобородый казак Афанасий Мельников. — Причем тут мы? Мало ли их бежит из России сюда, взяли заостренный кол или рогатину и называют себя казаками. А войско Донское в ответе. Надо отписать царю, что мы тут ни при чем! Пусть знает!
— В том-то и беда, ребята! Напишем мы так, а царь тогда скажет: на что мне такие атаманы на Дону, если они не знают, что творится в войске Донском! Почему не доглядели? А от Стеньки и других казаков мы не откажемся? Тут надо похитрее, казаки, придумать! Вот и собрал я вас к себе поговорить об этом. Думайте, думайте, у вас умные головы! — сказал с усмешкой атаман.
— Может, нам Стеньку как-нибудь извести? — предложил казак с реденькой бороденкой, с хитрыми голубыми глазами, с блуждающей ехидной полуулыбкой. А потом отпишем царю, мол, так и так, извели злодея.
— Легко сказать — извести, — сказал Корнило, — это и здесь в Черкасске сделать было бы нелегко, а сейчас пойди найди его!
— Надо человека подослать, — посоветовал Никита Подкорытов.
— Все не то вы мне говорите. Сейчас меня беспокоит другое: как мы будем отвечать царю? Надо теперь ждать из Москвы послов, которые потребуют ответа за содеянное Стенькой. Вот что обсудить надо. Сейчас в Черкасске не нужно говорить казакам о Стеньке, а если сами узнают что, сказывать, мол, вранье. Худо будет, если казаки перестанут нас слушаться и подадутся к Разину.
— А знаете, что я придумал! — вдруг заговорил Игнатий Сидельников, до этого не подававший голоса. — Если приедут посыльные дьяки из Москвы, надо приготовить им хорошие посулы, дать пображничать, чтобы мало о чем помнили, подготовить справных немужних женок. Это московиты любят! Шибко охочи они до женок! А потом отписать с дьяками, что, мол, Стенька-вор набрал голутвенных людишек, сбежавших с верховых городков Руси, и чинит разбой не по нашей воле, и что войско Донское занималось поиском Разина, что мы-де хотели взять приступом его воровские городки, но атаман успел уйти на Русь. А мы, соблюдая договор с Россией, не можем на землях государя Алексея Михайловича войском чинить поиск вора и государевых людей. Поэтому воеводы и все начальные люди при поимке разбойника могут поступить с ним так, как будут считать нужным.
— Вот голова! — воскликнул Корнило. — Этот ответ мне по душе! И овцы целы, и волки сыты! Ты, Игнатий, отпиши, а я дам переписать своему писцу Ивашке, он исполнит, как надо, и никому не скажет. А теперь, братцы, давайте постучим яндовой!
Все стали пить хмельное, громко разговаривая.
— Надо бы снарядить к Стеньке в войско кого-то из наших. Нужно знать, что там у него делается. Человека желательно подыскать с умом, чтобы раздор мог в войске его сотворить, чтобы не любил Разина, а тот ему доверял, — предложил Подкорытов.
— Тут, казаки, зараз нашу думку не решишь, — вступил в разговор Яковлев. — Ждать надо, приглядываться! Как еще дело у него повернется. Может, не сегодня-завтра воеводы его прищучат.
— Так и оставим его в покое?! — возмутился Игнатий Сидельников.
— Пошто оставим? — возразил Корнило. — Пошлем казаков к Степану с посулами, будто от Алены. Пусть разведают. А с Аленой я сам говорить буду, мол, зови Степана домой, пусть одумается, пока не поздно.
— Да разве он ее послушает? Это дьявол, а не человек! Чтоб его там лихоманка хватила! Этому злодею ничего не делается, — с возмущением сказал Сидельников.
— А нам шибко и не надо, чтобы он ее послушал. У меня тут думка одна есть. Если бы за нее уцепиться, пошло бы дело у нас знатно. Вы же все знаете, что за Аленой по молодости ухаживал и Фрол Минаев, за что был бит Стенькой неоднократно.
— Так он же у него в дружках ходит, — перебил Яковлева Сидельников.
— А давай я тебе раза два морду побью да еще женку от тебя уведу! Будешь ты мне тогда дружком али нет? — с ехидцей спросил Яковлев.
— Конечно, нет, — насупился Сидельников.
— То-то и оно! А Фролке каково! Силой он его взял в дружки! Да и слухи до меня доходили, якобы трепал в кабаке Фрол по пьяному делу, мол, все равно со Стенькой сочтусь. Вот это, казаки, надо взять в первую голову.
— Ох, и хитер ты, Корнило! Язви тя! — восторженно похвалил атамана Игнатий Сидельников.
* * *
Подперев рукой щеку, сидела у раскрытого окна Алена Разина — статная женщина с чистыми, как родник, глазами. Тяжелая золотистая коса аккуратно уложена на голове. Алена была уже немолодая, но в самом расцвете сил, когда женщина находится в прекрасной поре особой привлекательности — в своем материнском величии и женственности. На белом лице со здоровым румянцем ярко выделялись красивые чувственные губы. Глаза, обрамленные длинными золотистыми ресницами, полные печали, смотрели задумчиво на цветущий сад. Алена пела своим мелодичным, мягким голосом, в котором чувствовалась грусть, душевная тоска.
Ты, рябинушка,
Да ты кудрявая,
Ах, ты кудрявая,
Да ты моложавая
Ты да моложавая!
Ах, ты когда взошла
Да когда взросла,
Да по зорям цвела,
Да в полдень вызрела.
Не допев песню, задумалась: «Где же ты, Степушка, сейчас? Может, в лихой битве, может, уже татарская стрела сразила тебя?»
Последнее время всякие слухи доходили до нее. То болтали подгулявшие Степановы завистники, будто сгинул в степи атаман, то вдруг говорили, что напал он с казаками на купеческий караван и разграбил его, и ждет его теперь плаха.
Наслушавшись всяких разговоров, приходила домой Алена, падала в постель и долго навзрыд плакала.
— Ох, что будет-то, что будет?! — горько вздохнула она, и непрошеная слеза покатилась по щеке. Смахнув слезу, она прислушалась: в саду бегали дети — Афанасий и Алексей. Ребята играли в казаков, дрались деревянными саблями, скакали на воображаемых конях — суковатых палках.
Многие дни своего замужества Алена прожила одна. Беспокойный по своему характеру, Степан почти не жил дома. То подолгу находился со станицей в Москве, то ходил посланником к калмыцким тайшам — для улаживания дел войска Донского. А если не было никаких дел, просто бродил по верховым городкам и станицам, где собирался голый люд, бежавший из России от жестоких бояр и помещиков. Пробовала Алена прибрать Степана к рукам, чтобы жил, как все: хозяйством обзавелся, курень, как следует, построил, был степенным и богатым, как все домовитые казаки. Да где там! И слушать о такой жизни он не хотел. Первое время плакала, ругалась, корила мужа своего за беспутность, ссорилась, даже уходила от него, но Степан, возвращаясь из своих скитаний, веселый, по-прежнему неукротимый, уговаривал ее вернуться в их покосившийся курень, клялся ей, что больше никуда не двинется из дома. Брался со всем своим жаром и страстью за домашнее хозяйство, в доме и на подворье наводил порядок, но потом снова впадал в грусть. Подолгу сидел у окна, о чем-то думая, или начинал метаться по двору, ища занятия. Часами мог слушать старых казаков о былых походах и славных битвах с крымскими татарами и турками. Тогда он был весь во внимании, слушал с загоревшимися глазами, лишь изредка встревая в повествование рассказчика, чтобы сделать замечание о неверных действиях казаков в их военных делах.
В конце концов, махнула рукой Алена на все дела Степана, стала жить заботами по дому, ждала вечно странствующего мужа, растила детей. Зато с ней он был необыкновенно ласков, терпелив, никогда не обижал, любил страстно, самозабвенно, а для казачки что еще надо, а то, что гуляет по своим делам, так все они, казаки, такие. Может, под старость лет и образумится, решила про себя Алена и больше к Степану с разговорами о домовитости не приставала. Да и правда, не держаться же за ее юбку, тем более такому сильному и смелому казаку, которого все люди уважают и прислушиваются к его совету. Недаром, как только Степан появлялся в городке, так сразу же в их дом являлись станичники. Шли к Разину за советом и просто поговорить, узнать, что делается в войске Донском, а порой и попросить заступиться перед атаманом или старшинами.
Однажды, случайно подслушав разговор мужа с Иваном Черноярцем в саду, когда те, не опасаясь, что их кто-нибудь услышит, вели речь о своих делах, вдруг поняла, что ее Степан не просто шатается от безделья по городкам, а затевает со своими товарищами большое дело. Хочет он помочь людям обездоленным, голым. Тогда-то и посмотрела она на своего мужа совсем другими глазами. Оказывается, не знала она, что у Степана в душе творится, считала его шалопаем и чудаком. А тут вот какие серьезные дела муж делает. Глядела она на него удивленными глазами и думала: а может, ему сам Бог предначертал все это. Видела, как слушаются его казаки, как ему верят, как норовят угодить ему, и поняла, что ее Степан совсем не простой человек.
Сзади послышались шаги. Обернувшись, Алена с удивлением увидела крестного отца Степана атамана Корнилу. Она уже забыла, когда бывал у них Яковлев в последний раз.
— Грустишь, хозяйка? — спросил, улыбаясь, атаман.
«К чему бы это?» — подумала женщина, боясь плохих вестей. Грустно ответила:
— Загорюешь тут: ребята растут, а отца редко видят! Да и трудно одной-то по хозяйству! Хотя я и привычна ко всякой работе, а все равно тяжело!
— Это ты правильно сказала, Аленушка! Возьми вот ребятам твоим гостинец, — и выложил на стол расшитый мешочек со сладостями. — Женка для них сама стряпала.
Алена позвала детей. Они прибежали: чумазые, вихрастые, веселые. Увидев незнакомого человека, потупились, боясь подойти к столу.
— Идите сюда, ребята! — позвал, ласково улыбаясь, атаман, взял два пряника и сунул им в руки. — Бегите, детки, играйте, — сказал Корнило, погладив мальчишек по голове. Дети убежали снова в сад.
— А Фролка-то хоть помогает тебе?
— А что Фролка?! — вздохнув, ответила Алена. — Дело его холостяцкое: либо с девками тешится, либо в кабаке бражничает.
— Трудно ты живешь, Алена, — посочувствовал атаман. — Я ведь как думаю: а не образумить ли нам Стеньку? Я ведь вам не чужой!
«Что-то Корнило сегодня в родственнички к нам набивается? Видно, Степушкины дела не так уж плохи», — подумала казачка.
— Я бы перед Москвой похлопотал о прощении. Надо бы, Алена, отговорить его от воровских дел!
— Ты же знаешь, Корнило, я уже все глаза выплакала: как с ним ни билась — и лаской, и руганью, а он все равно — свое! Жаль ему людишек сирых и обездоленных. Всех бы пригрел! Не послушает он меня! Даже и говорить об этом не стоит.
— Вот дьявол крестничка послал! — с сожалением молвил атаман. — А может, вместе бы подумали, может, что и надумали?
— А что тут думать, бесполезно все это, только еще больше осерчает. Не любит он, когда в его дела вмешиваются.
— Все же, Алена, давай попробуем послать казаков от тебя и войска Донского с посулами. Казаки поговорят с ним от тебя и от меня. Может, образумится? Жалко мне его! С малых лет с ним возился. Обещал я покойному другу своему Разе помочь поставить его ребят на ноги. Ивана вот не уберег. Может, Стеньку образумим.
Атаман вытащил из кармана красивое узорочье, положил на руки Алены, заглянул в ее голубые глаза.
— Ох, и глаза у тя, Алена!
Женщина, зардевшись, ответила:
— Что ты, Корнило, зачем мне узорочье?!
— Бери, бери, Алена, это от моей женки, она просила передать. Я-то стар уже женкам подарки делать.
Алена засмеялась, сказав:
— Говори, Корнило, женка-то твоя со мной ровесница! Видать, не больно ты стар, коли молодку около себя держишь!
Корнило от этих слов приободрился, расправил усы и оценивающе глянул на Алену, отметив про себя: «А жена у Степана красива: и полногруда, и статна, а волосы, точно золото, а глаза, как небо! Хороша, да не моя!». И легонько привлек ее, ухватив горячей рукой за бедро.
Алена вспыхнула и с обидой сказала атаману:
— Ты, Корнило, закинь думать, что я к тебе приникну по бабьему делу! Как бы лихо ни было, от Степана не откажусь, что бы он ни делал! Люб он мне! До самой смерти любить его буду! Он настоящий казак! Только он и может сирому и убогому помочь в беде. А такие, как ты, только шаровары носят, пристегнув саблю, все хитрят и выжидают. Может, за его добрую душу, прямоту и смелость люб мне мой Степушка.
— Да ты что, Алена, я ведь не хотел тебя обидеть! Так получилось. Уж больно ты красива! Моей женке-то далеко до тебя! Вот и взыграла кровь! Ты уж прости меня, старого дурня! А вот насчет посулов с казаками подумай, — на прощание сказал атаман и не спеша вышел из дома.
— Ой, что-то задумал старый хитрец, — тихо сказала Алена, в оцепенении садясь на лавку.
11
Солнце стояло уже высоко, когда на острове Сарпинском, в лагере разинцев, началось оживление. Люди просыпались от тяжелого сна. У многих болели и кровоточили раны, ныли ссадины от ночной схватки.
Запылали костры. Казаки ставили на огонь походные котлы, готовя еду. Люди подходили к реке, чтобы смыть грязь, обмыть раны, одежду.
Разин проснулся раньше всех. Свежий, бодрый, одетый в алый кунтуш, отделанный бобровым мехом, стоял он в окружении есаулов, давая указания:
— Сегодня накормить всех до отвала, выдать по доброй чарке водки! А потом всем на круг. Будем решать, что делать дальше. А сейчас посылайте казаков выкатить со струга бочки с водкой.
— Пошли, ребята! Надо нам немного здоровье подправить! — весело сказал Якушка Гаврилов, подмигивая есаулам.
— Эй, Микита, — крикнул Леско Черкашин рыжему казаку, который хотел прошмыгнуть мимо есаулов. — Зови ребят! Бочки с водкой надо скатить со струга!
— Я мигом! — радостно крикнул тот и рысцой побежал к разинцам, сидящим у костров.
Вскоре у лодки собралась изрядная толпа. По мосткам скатывали бочки с водкой.
— Эй, Митрий, смотри не разлей, а то не хватит всем! — кричал рыжий Никита, обращаясь к седоусому казаку, осторожно скатывающему бочку.
Толпа казаков захохотала. А седоусый на то ответил:
— Я-то не разолью, не боись.
— Митрий, налей выпить чарку! — кричит казак, без рубахи и штанов, по колено стоящий в воде, стирая свои портки.
— В воде по горло, а пить просит, — с усмешкой ответил седоусый, ставя бочку и ловко выбивая пробку рукоятью сабли. Прозрачная струя брызнула в подставленную казаком шапку.
Подбежал есаул Якушка Гаврилов, закричал:
— Ты что, Митрий, тут устроил бражничество? — перевернул бочку набок, отверстием вверх. — Забейте новую пробку, — потребовал есаул.
Казаки мигом срубили небольшое деревце и выстругали что-то наподобие пробки. Якушка камнем забил её в отверстие и велел катить бочку к костру, где расположились его люди.
Затем стал стыдить седоусого:
— Эх ты, Митрий, Митрий, я-то на тебя надеялся, а ты не успел снять бочку — и давай хлебать водку!
А казак, успев уже изрядно выпить из шапки, захмелел и бессмысленно широко улыбался.
— Тьфу! — в досаде плюнул Яков, поняв, что говорить с ним бесполезно. — Не получишь больше, ты уже свое выпил!
— А мне ужо хватит, — ответил казак, икнув.
У костров, куда подкатили бочки с водкой, в котлах дымилось готовое варево: у кого уха из только что наловленной рыбы, у кого вареная баранина или похлебка из птицы.
Сотники поставили виночерпиев, строго наказав: более чарки не давать. Водку разливали, кому во что придется, а кто совсем не имел ничего, сразу же принимал вовнутрь. Прежде чем принять свою порцию, казаки широко крестились, и, опрокидывая чарку, довольно крякали. Потом шли к костру, где хлебали варево, весело переговариваясь.
— Эй, ты, куда лезешь, собачьи твои глаза! — кричит виночерпий. — Только что выпил и опять подставил. Да хоть бы кружку, а то ковш!..
— Что ты, браток! Я еще почти и не пил! — ответил здоровенный казак. — Принял я твою чарку, а она даже не согрела. Что пил, что не пил! Воду ты, что ли, разливаешь?
— Когда потчуют, и воду пей! — ехидно ответил виночерпий.
— Налей еще, браток! Мало, сам видишь!
— Добавь, а то батько осерчает. Он ему велел наливать в ковш! — зашумели у костра казаки.
— Ладно, давай посудину, — сдался виночерпий.
Казак подал ковш. Виночерпий, ворча, налил в посудину. Ефим широко перекрестился, выпил, вытерев рукавом губы, молвил:
— Вот это другое дело. Хоть зажгло, — и пошел к костру, где дружки уже приготовили ему полбарана.
Насытившись до отвала, одни казаки убирались в тень, дремали под кусточками, а другие, собравшись в группы, судили, спорили, гадая, что ж предпримет батько, третьи же сушили свою выстиранную одежду.
Вдруг застучали барабаны, и все услышали, как кто-то закричал:
— Казаки! Все на круг!
На бугорок у атаманова шатра поставили несколько бочек, воткнули длинное древко с атамановым бунчуком.
Казаки не спеша потянулись на круг. Многие выпили по две, а самые бойкие и по три чарки. Были они навеселе и подшучивали друг над другом.
— Глянь-ко, Илья, Алекся-то штаны потерял, без штанов вокруг куста бегает, — заметил седоусый Дмитрий.
— Придется бесштанным на круг идти, — хохоча, ответил виновник шутки Илья.
— Алекся, штаны-то на другом кусту висят, — подсказал, сжалившись над казаком, Дмитрий.
Обнаружив заплатанные портки, Алексей под хохот казаков на ходу надел их и помчался на круг.
Когда все собрались, на бочку влез Иван Черноярец и заговорил:
— Надо решать, что нам делать — брать Царицын или отплывать дальше вниз.
Из круга выступил молодой казак в лихо заломленной на затылок бараньей шапке и крикнул:
— Что говорить, братцы! Айда на приступ! Вчера чуть было не взяли город. Еще маленько — и наш был бы. Идем немедля на приступ!
— Ты бы еще чарки четыре выпил, так не на Царицын, а на Москву двинул бы! Смотри только оттуда с полными штанами не приди! — перебил крикуна старый казак Лаврентий и, махнув рукой на молодого, сердито сказал:
— Замолчи! Чего зря языком мелешь? Дай сказать есаулу!
Дождавшись, когда казаки замолчали, Черноярец продолжал:
— Может, мы город и возьмем, положив на это много сил, но что толку? Запремся там и будем сидеть на царицынских животах, ждать, когда воеводы нас обложат и в осаду возьмут? Тогда бежать куда? В степь, что ли?
— А струги-то для чего? — выкрикнул кто-то из круга.
— Так тебе воеводы и приготовили лодочки! Плыви, мол, казачок, во сине море! Да они их сразу же подожгут, а тебя поджарят на дыбе! Что говорить, казаки! — заскочив на бочку и отчаянно жестикулируя, запальчиво заговорил Фрол Минаев. — Вы поймите, ребята! Мы тут им и нужны! Не надо нас даже ловить! Сами в клетку сядем! Только захлопни — и все! Готово!
Молодые разинцы на кругу засвистели, закричали, горячась:
— Как это идти?! Тогда зря, что ли, наши ребята головы под Царицыном сложили! — кричит молодой казак с перевязанной головой.
— Брать надобно Царицын! Да сегодня мы их разнесем! — кричала молодежь из круга, горя местью и желанием схватиться в бою с врагом.
— Ладно вам горло драть! Брехать — не цепом махать: спина не болит! — прикрикнул на молодежь Ефим, а одного из них — самого шумливого — захватил могучей рукой, притянул к себе, сердито рыкнул:
— Замолчь! — и, погладив по голове огромной ладонью, поставил рядом с собой, как провинившегося ребенка.
Все покатились со смеху. Бросали шутки в адрес молодого крикуна:
— Успокоил мальца! — смеялись разинцы.
— Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с нее, — наставительно сказал в адрес молодежи по пояс голый казак, держа в руке выстиранный кафтан.
На бочку заскочил Леско Черкашин и, горячась, закричал:
— Зачем зря время терять? Айда на струги и вдарим по Царицыну! Возьмем животы и поплывем дальше!
— Ага, заставишь тебя, бабника, плыть дальше, ты с женками свяжешься, тебя потом не вытащишь оттуда. Знаем мы тебя! Поплывешь ты сразу! Жди! Всех царицынских баб пока не перецелуешь, не поплывешь! — крикнул в ответ на запальчивую речь Черкашина Якушка Гаврилов.
Круг покатился со смеху.
— У всякого свое желание! Подшучивай сам над собой: здоровей ржать будешь! — ответил Леско, слезая с бочки.
Все это время Разин стоял в стороне, молча слушал, не встревая в спор, ожидая своего часа.
И вот весь круг закричал:
— Пусть скажет атаман! Пусть скажет батько, куда идти!
Степан твердой походкой подошел к бочке. Уперевшись о край, легко вскочил. Казаки притихли, с любовью и уважением глядя на ладно сбитую фигуру атамана. Темные очи Разина заиграли огоньками, лицо стало мужественным, брови грозно сошлись в переносье.
— Да, ребята! Жаль уходить от Царицына ни с чем, не рассчитавшись с воеводой и стрелецким начальством за загубленных под валом наших казаков.
Мощный голос атамана был напорист. Слова будто чеканились, входя в душу каждого казака. Все, боясь шелохнуться, слушали его.
— Любо мне было слушать, что многие из вас рвутся в бой мстить народным кровопийцам! По душе мне ваша храбрость! Но храбрость после боя и гроша не стоит! Сколько раз ночью ходили на приступ?
— Много раз, батько! — крикнули из круга.
— В том-то и дело, что много, а даже вала не могли взять! А как же мы крепость будем брать? Взять Царицын — значит объявить войну боярам и воеводам. Они сразу же нас обложат со всех сторон. Сможем ли мы, казаки, сейчас воевать с воеводами?
— Нет, батько! — загудел круг.
— Вот то-то и оно! Загубим мы свой поход за море!
— Чего нам бояться! — выкрикнул из круга Леско Черкашин.
— Увязнем у города, а в это время ударят воеводы, — ответил ему на это Фрол Минаев. — Правильно батько говорит: нам надо поспешать к морю и нечего тут топтаться!
— Жалко так просто уходить, — пробасил Ефим, — может, чего у них потребуем? Все же мы их крепко пужнули! Воевода поди уже пятые штаны меняет. Если бы наши ребята чуток были свычны к бою, шибанули бы мы их хорошо.
— Я вот о чем мыслю, — перебивая Ефима, в круг выступил могучий детина, кузнец Алексей. — Потребовать бы с воеводы, ладом пригрозив ему, кузнечную снасть, а то ведь клинок поковать нечем или пику заострить.
— Давайте, ребята, — сказал атаман, — на том и порешим! Кого пошлем говорить с воеводой?
— Ивана Черноярца, он привычен с воеводами разговоры вести, — закричал весь круг.
— Быть по-вашему! А сейчас всем готовиться к отплытию. Как только вернется Иван, сразу же отправляемся вниз, — сказал Степан, слезая с бочки, и в сопровождении есаулов пошел к шатру, чтобы обсудить подробности переговоров с воеводой Унковским.
12
Унковский и все стрелецкое начальство сидели в приказной палате, решая, как лучше оборонять город от врагов. Тут вбежал дьяк Василий и возбужденно сказал:
— Разинские струги отвалили от острова и плывут опять к Царицыну!
Все, кто сидел в палате, вскочили и поспешили на крепостные стены. К берегу уже причаливало несколько стругов, окруженных множеством лодок.
«Не похоже, чтобы сегодня казаки пошли на приступ. Или хитрость опять какую-нибудь придумали», — решил воевода.
Со струга сошли казаки во главе с высоким есаулом, одетым очень богато. На нем ладно сидел кафтан, расшитый позументами, на голове горлатная шапка, у пояса дорогая сабля поблескивала золотой отделкой, на ногах красовались малиновые сафьяновые сапоги.
Когда пушки направили на город, есаул в сопровождении нескольких казаков подошел ближе к валу, чтобы его было слышно, и крикнул:
— Эй, честной народ! Стрельцы! Где воевода? Атаман Степан Тимофеич приказал мне передать ему решение нашего войска.
С большой неохотой и опасением вышел на стену Унковский, злобно спросил:
— Что еще там придумал ваш атаман — вор и изменник? Ждет вас всех великая казнь за измену делу государеву!
— Это ты, что ли, воевода Унковский? — с усмешкой бросил в ответ Черноярец. — Выйди поближе, да не прячься за стрельцами. Выдь на край стены, чтобы видней тебя было, не бойся. На штурм крепости пока не пойдем, а если договоримся полюбовно, то и вовсе, может, уйдем.
Опасливо озираясь, воевода подошел к краю стены:
— Говори, что там велел передать ваш воровской атаман!
— Не смей, воевода, называть нашего атамана вором и изменником! Он, наоборот, хочет постоять за дело государево! Это вы, воеводы, бояре, дворяне и купчины, давно предали государя великого Алексея Михайловича и без зазрения совести издеваетесь над простыми людьми, заставляете работать на себя с утра до вечера, не давая им взамен ничего. Это вы, кровососы, воры и изменники! И наш атаман решил вывести вас, злодеев, всех до единого перед государем нашим!
От такой речи воевода Унковский чуть было не задохнулся от злобы. Он стоял с выпученными глазами, бледный, ловя ртом воздух. Наконец, выдавил из себя что-то наподобие визга, затопал ногами:
— Молчать! Воры и изменники! Сейчас же прикажу всех вас схватить за такие речи!
— Мы ждем тебя, воевода, вместе с твоей стражей! — усмехаясь, ответил Черноярец. — Иди схвати, если сможешь! — с издевкой добавил есаул!
Видя бесполезность своих слов, Унковский более спокойно ответил:
— Хватит пустое молоть! Говорите, зачем пожаловали?
— Вот это другой разговор, воевода, с этого и надо было начинать. А то затеял одно: воры да изменники! Так вот! Наш атаман Степан Тимофеевич не желает проливать зря кровь простых стрельцов, решил он на приступ города не ходить, но за это просит выдать его казацкому войску всю кузнечную снасть!
Воевода потоптался на месте, в гневе побагровел от дерзости казаков, но смолчал. Боясь нового штурма крепости, больше грозиться не стал и ответил:
— Дам я вам, казаки, кузнечную снасть, только, получив ее, уходите от города.
С удивлением слушали этот разговор простые стрельцы и горожане.
— Ловко есаул осадил нашего воеводу! — услышал из толпы горожан Унковский. — Знатно напугался наш боярин! — послышался в ответ другой голос.
Воевода резко развернулся, чтобы увидеть, кто же это говорит такие речи. Да где там: разве найдешь смутьяна?
— Благодари нашего атамана, воевода, что милостив он пока к вам и нет у него времени с вашей крепостью возиться. Не мешкай, боярин, недосуг нам, — крикнул напоследок Иван Черноярец.
Изрядно напуганный ночным штурмом, князь слушал молча, а когда есаул кончил говорить, распорядился выдать все, что просят казаки, и ушел с вала.
Шел Унковский в приказную палату в большой злобе на то, что пришлось уступить разинцам.
Вдруг дорогу ему заступила женщина. Нахмурил брови воевода, гневно спросил:
— Что тебе нужно?
— Батюшка ты наш! Я уже все обегала, но до сих пор не могу найти приказчика Петра Лазарева! Ты не знаешь, где он? Может, за делом ратным куда послал его?
Вгляделся Унковский в женщину и узнал Ефросиньюшку Русакову. Волосы ее выбились из-под платка, глаза заплаканы, было видно, что вдова давно бегает по городу в поисках потерявшегося любимого. «Наверное, Лазарев уже у Разина», — отметил про себя воевода, а женщину спросил, хотя давно знал об их отношениях:
— Кем же тебе доводится этот вор и изменник?
— Да ты что, батюшка! Он же хороший человек!
— Для тебя, может, и хороший, — и похотливо улыбнулся, — а для нас — вор и изменник! Вчера твой разлюбезный к вору Стеньке Разину подался! Сам видел!
— Не может этого быть! — закричала Ефросинья и зарыдала.
— Наверное, может, раз сбег! А тебя мы попытаем, о чем говорил с тобой этот вор и злодей.
Вокруг стала собираться толпа любопытных. Воевода подозвал двух стрельцов и приказал им, чтобы они отвели женщину к нему в дом и дворецкий закрыл ее накрепко на замок до его прихода. Служилые схватили упирающуюся Ефросинью и поволокли к дому воеводы.
— Ишь, кобель, к себе распорядился отвести! — крикнул кто-то из баб, стоящих в толпе.
— Не боись, что он ей сделает, окромя добра, — громко ответили из толпы в ответ бабе. Стрельцы захохотали.
Унковский было направился опять к приказной палате, но его догнал сотник Алексей Ведерников и радостно сообщил, что разинские струги уплывают вниз по реке.
Воевода поспешил на крепостную стену, чтобы лично убедиться в том, что казаки уходят. Когда он поднялся, лодки уже скрылись за поворотом реки.
Воевода широко перекрестился со словами:
— Господи! Господи! Наконец-то, услышал наши молитвы! Ушел дьявол от города! — и обратился к рядом стоящему отцу Михаилу: — Отслужить сейчас же молебен Господу Богу за его доброту к нам! Звоните в колокола, как в воскресенье!
— Сотворим, боярин, все как надо! — ответил поп и не спеша пошел к церкви.
Вскоре зазвонили колокола, собирая народ.
Когда служили молебен, Унковский стоял у алтаря и неистово молился, бил поклоны Господу Богу за его милость и освобождение от вора.
Домой он вернулся уже поздно под хмельком, так как после молебна воеводу и стрелецкое начальство пригласил к себе в дом пображничать стольник Лев Плещеев.
Унковский до конца гулянки не остался и пошел домой: уж больно ему хотелось побыстрее встретиться наедине с Ефросиньюшкой.
Воевода нежданно-негаданно овдовел, а случилось это два года назад. Вдруг занемогла его боярыня, слегла и через три дня преставилась. Оставшись холостяком, Унковский приметил красивую вдову и неоднократно домогался ее, но женщина об этом и слышать не хотела, смеялась, а как-то очень резко сказала:
— И думать, боярин, об этом не моги! В женки ты меня все равно не возьмешь, а блудить с тобой не хочу!
— Так ты же с приказчиком блудишь, — сердито напомнил Унковский.
На то ответила ему вдова:
— Может, и блужу, так он мне ровня, и молод, и не богат! Ищи, воевода, себе боярыню.
Жениться Унковскому больше не хотелось, а для забавы хватало среди прислуги женщин и девок, которых он подбирал со вкусом. Но непокорность вдовы задела его до глубины души. Хоть оставил он Ефросиньюшку в покое, но из виду не упускал. «А сегодня подходящий случай. Уж отведу я душеньку!» — думал воевода, идя домой.
Не успел он войти в дом, как дворецкий подошел к нему и сообщил:
— Эту бабенку я закрыл, как ты велел. Кричит, воет, даже страшно! Раза два заходил к ней посмотреть, когда она замолкала. Боялся, кабы над собой чего не сотворила. Так, сволочь, тяпнула за палец, — и дворецкий показал палец, перевязанный тряпицей.
Унковский, сердито посмотрев на него, сказал:
— Наверно, лез к ней, вот и цапнула! Приготовь мою опочивальню, принеси туда снеди, вина, а как решу дела с дьяком, приведешь ко мне Ефросиньюшку.
— Понял, батюшка! Понял, благодетель! Исполню, как велишь!
— Да не лезь к ней, не домогайся! Не зли бабу, а то я те! — и сунул волосатый кулак под нос дворецкому.
Тот подобострастно заулыбался, облобызал кулак воеводы и затрусил исполнять волю хозяина, повторяя:
— Что ты, что ты, батюшка!
А воевода прошел в горницу, сел за стол, выпил приготовленное вино из серебряного кубка, задумался, барабаня пальцами по столу.
Скрипнула боковая дверь, зашаркали ноги дьяка Василия. Он подошел к Унковскому и поклонился в пояс.
— Надо, Василий, отписать грамоту в Москву Юрию Алексеевичу Долгорукому в приказ Казанского дворца. Сегодня же пошлешь с ней надежного гонца.
— Что отписать-то? — спросил дьяк, еще ниже поклонившись воеводе.
— Отпиши, что вор Стенька Разин вышел из своего воровского логова на Волгу, разграбил караван, идущий на Астрахань, разогнал государевых людей и приступил с боем к Царицыну. Несколько раз ходил он на приступ города, и скопилось у него много беглого люда, вооруженного пушками, пищалями. Но устоял наш город. Вор Стенька Разин с большой силой ушел вниз по Волге. Мы на его поиски не пошли, потому что так и не дождались подмоги от астраханского воеводы Хилкова. Слезно просим о помощи ратными людьми. Отпиши, что боярин, видно, сговорился со злодеями, коли не пришел на помощь, — и добавил наставительно: — Да отпиши складно.
— Будь покоен, боярин, отпишу, как надо! — дьяк попятился и, еще раз поклонившись, вышел в боковую дверь.
Воевода устало вытянул ноги, потянулся до хруста в суставах, затем встал и пошел в опочивальню.
Взгляд боярина сразу же упал на Ефросиньюшку. Она была бледна, сидела на лавке, обитой пурпурным аксамитом, безразлично уставившись в одну точку.
Улыбаясь, Унковский обратился к вдове:
— Стоит ли так убиваться об этом изменнике? Выбрось ты его из головы!
— Давай, пытай, веди спрос! — злобно перебила она боярина, сверкнув глазами. — Скажу, все скажу, что он мне говорил! Да окромя любовных речей ничего он не сказывал!
— А если на дыбе спрос вести будем? Все скажешь, да еще прикажу дать тебе батогов! Так все вспомнишь!
— Не наговаривай зря на меня, воевода! — сказала в ответ женщина и заплакала.
Унковский подошел вплотную к вдове и взял ее за подбородок, заглянул в глаза. Перестав всхлипывать, женщина с тоской молвила:
— Что, все-таки добился своего! Не добром, так силой берешь! — и, отскочив в сторону, легко метнула свое гибкое тело к ковру, где висело дорогое оружие. Схватила кривой кинжал, попятилась в угол, с угрозой прошептала:
— Не подходи! Тебя решу и сама решусь!
Боярин спокойно присел на лавку, налил два кубка вина и сказал:
— Не дури, баба! Убить ты меня не убьешь! Если захочу, кнутом достану и опозорю: разденут тебя стрельцы донага, прогонят по площади и батогов дадут по заднице! Выбирай одно из двух: или честь — быть со мной сегодня, или бесчестье — на площади.
Ефросиньюшка в досаде отбросила в сторону кривой кинжал со словами:
— И сволочь же ты, боярин!
Унковский захохотал, потом примирительно сказал:
— Иди, пей вино. Поди, такого еще и не пивала!
Ефросиньюшка смело подошла, залпом выпила кубок вина, еще налила, выпила, не закусывая, снова налила, выпила. Делала она это молча, злобно. Следующий кубок воевода ей пить не дал. Ухватившись за кувшин, поставил его на стол, произнес:
— Хватит! Сядь! Посиди и послушай, что я тебе скажу.
— А что говорить! Давай уж приступай к тому, что задумал, — заплетающимся языком тихо сказала вдова. — Все равно ты так меня отсюда не выпустишь!
— Вот это — другой разговор, — улыбаясь, сказал воевода, силой усадив рядом Ефросиньюшку.
Та взяла кувшин, сама налила вина и выпила.
От вина ей стало легче, горе ушло куда-то в сторону, в голове все затуманилось, тело стало бесчувственным, ей все было безразлично.
Руки воеводы уже поглаживали ее бедра, жадно хватали за грудь, снимали с нее летник.
Боярин что-то страстно шептал ей на ухо, целовал ее.
Ефросиньюшка молча повиновалась, не отвечая на ласки своего страстного насильника.
Взяв в охапку женщину, воевода положил ее на свою широкую мягкую кровать, спешно сорвал с нее последние одежды, задул свечи.
* * *
Утром в опочивальню вошел дворецкий, зашептал что-то на ухо уже полуодетому воеводе, кося наглые глаза на лежащую вдову.
— Сейчас выйду. Пусть ждет, — резко сказал Унковский и сделал знак дворецкому, чтоб тот вышел. А сам подошел к Ефросиньюшке, положил перед ней на постель богатое украшение со словами:
— Иди домой. Да возьми узорочье-то. Может, вечером как-нибудь загляну.
Улыбаясь, довольный собой, вышел из опочивальни.
Ефросинья мигом оделась, стараясь быть незаметной, пошла к выходу из воеводского дома.
Выйдя на крыльцо, увидела дворецкого, нескольких стрельцов и еще каких-то людей. Завидев ее, все заулыбались, а дворецкий со смехом сказал:
— Глядите, ребята! Даже похудела! Видно хорошо воевода ночью потешился с бабенкой!
Все громко захохотали.
Ефросиньюшка бросилась прочь с боярского двора. Увидев в руках подаренное Унковским узорочье, в злобной досаде с силой швырнула его в грязь.
13
Уже наступил вечер, солнце клонилось к закату, его нежаркие лучи ласкали и не были так знойны, как днем.
На деревьях тихо шелестела листва, пахло цветами. Ровное жужжание пчел настраивало на дрему.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
