
ГЛАВА 1. СМЕРТЬ В ДЖАКУЗИ

— Почему? Ну, объясни мне, почему?
Настя стояла посреди тон-студии, — маленькой комнатенки, разделенной пополам стеклянной перегородкой — именно здесь участники «Звездного зазеркалья» записывали свои воскресные выступления. Слезы сами лились у нее из глаз. И это были не глицериновые слезы, которые так часто используют на сцене, а самые настоящие, соленые и горячие. Почему влага, выливающаяся откуда-то из нутра человека, кажется значительно теплее? Как будто бы там разогрели, поджарили и вскипятили душу, и она булькает, бурлит, выходит наружу, изливается горячими каплями духовной сути.
Настя провела языком по губам. Вкус мокрой соли усилил горький спазм, слезы потекли еще интенсивнее.
Валера сидел в кресле. За последние три месяца он прибавил в весе килограммов десять: сказывались нервные перегрузки. И сейчас он едва дышал от внезапно распухшего тела, не зная куда и как разместить, куда повернуть, и как двигать эту надувшуюся и как будто чуждую оболочку. На сцене певец стал надевать пояс, утягивающий его так, что он с трудом доживал до конца песни и скорее уходил за кулисы снимать его, чтобы сделать полноценный вздох. Но деться было некуда. Без него, без пояса, пузо вывешивалось из костюма, и он превращался в какого-то мистера — Твистера.
Когда ввязывался во все это, он даже не представлял себе, как будет неспокойно, нервно, дергано. Нет, он понимал, что будет непросто, но не настолько. Удары сыпались с тех сторон, откуда он не предполагал и не ожидал. Он и сторон-то таких не знал, а оттуда исходила враждебная волна, заставлявшая его поглощать мясо и пить вино в тех количествах, которые сразу вылезали лишним жиром, весом, объемом. Как он устал. Он устал смотреть, как устал брат, устал видеть, как издергалась дочь, устал сам… просто устал… Он даже слышать больше не мог про «Звездное зазеркалье» и считал дни до окончания проекта. Хоть как-то все бы закончилось… Лишь бы дотянуть до конца… Лишь бы с братом ничего не случилось.
Валера сморщился, вспомнив воспаленные глаза брата. Костя разрывался между Киевом и Москвой, между студией и домом, и этим домом — домом-аквариумом, домом, где было больше телекамер, чем обитателей, и где сейчас жила и умирала их Настя. Их Настя… его Настя… его котенок… его дочка… его надежда, его гордость…
Он устал и петь, и выходить на сцену, и улыбаться, и смотреть на лица, обращенные к нему в зале. Как ему надоели эти закулисные друзья-враги, соседствующие с ним в концертах, мило улыбающиеся ему в лицо и злобно шушукающиеся у него за спиной. Банк. И опять улыбки, опять разговоры.
Втянул в это все брата. Он не спит уже которую ночь.
Нет, не так. Брат сам предложил ему. Вдвоем мы потянем. Ради Насти. Будем держать свою линию. Будем максимально открыты. Сделаем уличные концерты. Все увидят нашу Настю…
Валерий вздохнул. Брат был романтиком. Они оба были романтиками. Они даже предполагать не могли, с чем придется воевать. Когда же все это кончится…
Ванидзе поднял голову. Посмотрел на дочь. Как изменилась его девочка. Лицо стало круглым, талия расплылась. Она тоже топила стресс в еде. Глаз почти не было видно в опухших от слез веках. Она тут, в запертых четырех стенах была обездвижена. Никуда не выйти, никуда не сходить, сиди тут и сиди. И чего она опять недовольна?
Он поморщился… Ей что… Только высидеть тут время, ничего же не надо делать. Только пой и будь под камерами. Что, в самом деле, она хочет от него?
Он устало взглянул в глаза дочери. Черные, глубокие, такие же как у ее матери, такие же, как у него… И нос… Неужели они похожи? Да нет. Никто не догадается. Его фамилия — Ванидзе, у нее — Сивошенко. Настя — вылитая мать. Вот и рыдает, как мать… Губы распухли, огромные, способные извиваться, как два червяка, они кривились в детской гримасе горя и отчаянья.
— Что — почему? — неохотно, как сквозь зубы протянул он и отвел глаза. Бархатистый голос его был в этот раз тихим. Совсем тихим. Он сам не знал, что делать и как выпутываться из засосавшего его «Звездного зазеркалья». Про себя, мысленно, в глубине души, он громко, во весь голос и нецензурно проклинал тот день, когда они с братом согласились взять этот… это… ввязались во все это дерьмо… В этот шоу проект. Провались он пропадом.
— Почему, ты просто скажи, что я твоя дочь.
— Это невозможно, — Валера произнес это механически, просто, чтобы произнести и как-то ответить на всхлипывания ребенка.
Для него смысл ответа был яснее ясного. И вся эта сцена была, в его понимании, всего лишь истерикой замученного ребенка, который не может получить понравившуюся ему игрушку.
— Ты меня стесняешься? Почему? Ты считаешь стыдно, ты считаешь, это стыдно — быть моим отцом? Да? Ты просто не хочешь этого сказать, ты стыдишься меня. Ну что такого мне нужно сделать, чтобы ты перестал меня стыдиться?
— Что? — мужчина в кресле думал о своем, и не очень прислушивался к захлебывавшемуся голосу Насти.
— Я что — разве плохо пою? Да я лучше всех пою! Да тут никто даже нот не знает. Что… почему ты не признаешь меня своей дочерью?
— Если бы ты не пела лучше всех, мы бы не… — он не договорил.
— Ну… скажи все, пусть все знают, что я твоя дочка! И тогда никто не посмеет оскорблять меня. Ну скажи… ну признай меня, паааааа…
Последние слова потонули в новых волнах кипевшей души.
— Что?
Мысли расползались внутри головы, сползали куда-то по крохотной тон-студии, и переползали на брата… Костя был в Киеве сейчас. Он уехал готовить песни к следующему концерту.
— Разве я позорю тебя? Разве ты знаешь еще кого-то, кто поет, так как я?
— Что ты от меня хочешь, — наконец включился в ситуацию Ванидзе.
Он дотронулся до обросшего подбородка. Седина уже беспокоила его.
— Скажи им, что я твоя дочь!
— Кому им? Ребятам? — глаза, черные и прищуренные ядовито взглянули на Настю. Валере так казалось, что ядовито. На самом деле он просто прищурился.
— И им.
— Кому — и им?
— Всем!
— Кому всем? — Ванидзе встал и потянулся к ручке двери. Как она похожа на мать, только подумал он и приоткрыл дверь. Настя схватила его за пальцы.
— Всем! Всем людям. Они думают, что я… Ты меня что — стыдишься? Почему тебе так стыдно, что я твоя дочь?
— Они думают, что ты — что? — он только это смог уловить во всей этой фразе. — Что ты моя девка?
— Нет, не знаю, откуда я знаю, — Настя стушевалась. Она не знала, что там думают во вне, за стенами этого дома и концертного зала в Останкино, и даже не хотела предполагать этого. Она просто хотела быть дочерью своего отца.
— Я хочу быть тем, кем я есть. Я твоя дочь! А ты стесняешься этого, поэтому и молчишь.
— Дочь. Они сожрут нас тогда с потрохами.
— Кто? Вон — Влад. Его отец сидит с тобой рядом, и ничего, Филя ему руки пожимает. А он кто? Пацан, маленький ребенок. Его никто не стесняется, а ты меня… а тебе за меня стыдно? Да? Тебе стыдно?
— Да не стыдно мне за тебя! — прикрикнул Валера. — Надо же такое придумать. Вся дочкина разборка начинала его раздражать. Столько нервов кругом идет, а тут еще и Настя тянула из него последние жилы. — Ты что, неужели ты не понимаешь, что я не могу всем сказать, что ты моя дочь?
— Ну почему? Почему? Я не понимаю!
— Да потому, что скажут люди?
— Да какие люди? Где ты видишь людей-то?
— Если для тебя они не люди, то, что ты так заботишься, чтоб они узнали правду и знали бы, что ты моя дочка?
— Не знаю.
— Ну вот, — вздохнул Валера и снова сел на вертящееся кресло музыкального оператора. — Ты сама не знаешь, чего ты хочешь, а требуешь… — он замялся, подбирая слова.
Живот мешал ему дышать. Ванидзе чувствовал его даже тут, просто сидя в кресле. Лишняя тяжесть, так внезапно возникшая, создавала лишний объем, и трудно было назвать большую причину неудобства — круглый, выпирающий и давящий на все полукруг пуза, или вес его. Он вскинул руки вверх, согнул их в локтях. Жест был нелепый, и облегчения это не принесло. Он подумал, что вечером откажется от ужина, и тут же тоскливо заныло под ложечкой. Пора было что-то покушать.
— Я знаю, чего я хочу. Я знаю. Я хочу, чтобы ты честно признал, кто я такая…
— Ну, кто ты такая?
— Я дочка твоя.
— И что это меняет? А я кто такой? Какая честь тебе быть моей дочкой? Все будут говорить — вон Настя — она великий музыкант и певица, а так — на тебя, как Орбокайту, будут показывать пальцем и говорить — вона — дочка Ванидзе, как надоели эти дети, тащат и тащат всякую шваль за собой, сами наживаются со сцены, уйти не могут, так еще и детей своих бездарных тащат.
— Я не бездарна, ты сам говорил, что пою я гениально. Да я и сама знаю, что я пою гениально.
— Гениально — не важно. Ты думаешь, они будут пение твое слушать? Ну, прям… Они и даже не услышат твоего голоса, даже слушать его не станут… они просто сразу повесят на тебя ярлык — дочка Ванидзе. И все. Ты поставишь крест великий и верный на всем, на своей карьере… Я потому и не хотел тебе ничего делать…
— А зачем же все-таки стал помогать? — ярость мелькнула в черных глазах девочки. — Ну и оставил бы все как есть, и пошла бы я учиться на программиста, иль стала бы ди-джеем, что вдруг забеспокоился?
— Не мели чушь. Ты знаешь, я все готов для тебя сделать.
— Не ты, а Костя. Он взялся за «Зазеркалье».
— Ты даже представить не можешь себе…
— Могу…
— Нет, ты не можешь… — голос певца вдруг резко изменился. Он не хотел вот так просто оставить этот разговор, чтобы он вновь повторился через пару дней. — Нет, ты не можешь себе представить, на что пошел Костя ради твоего таланта.
— Ну вот, ты же сам признаешь, что пою я…
— Да…
— Что да? — голос Насти был слишком громким, чтобы свидетельствовать о ее спокойствии.
— Да прекрати ты, что мы еще для тебя должны сделать?
— Ничего, все…
— Что — ничего? Признать, что я твой отец? Ну и что? Что это даст?
— Спокойствие.
— Какое тут спокойствие? Это будет крест. И все, прощай твое пение, прощай все…
— Почему крест? Поет же Орбокайте, а я пою в сто раз лучше.
— Дуреха, — устало прошептал Валера. — Да ты в сто раз лучше… ты… поешь…
— Я хорошо пою… так никто…
Настя села на пол… она никак не могла ни понять сама, ни объяснить себе, почему она так хотела, чтобы Валера признал её свой дочерью. В эту минуту она жаждала этого больше всего на свете, даже больше победы в «Зазеркалье», больше сцены, больше успеха и карьеры. Может, это была надежда на гарантированную защиту? Быть защищенной, быть в домике, быть дочкой, а не просто так — одной перед толпой. Что вот, выйдет вперед этот сильный и полный уже мужчина, состоявшийся и значимый, и скажет — руки прочь — она моя дочка, — а вы перестаньте обижать ее. Настя с тоской посмотрела на отца… Он неправильно истолковал этот взгляд.
— Послушай, мы все для тебя, что можем делаем. Ты представить себе не можешь…
Он замолчал. Внутренне содрогнулся. Что он мог сделать…
— Ну, потерпи. Совсем немного осталось. Ну, совсем немного, скоро все кончится.
— А я буду первой?
— Нет, этого сделать я не смогу. Это «Зазеркалье» не наше.
— Но ведь…
— Нет. Победитель Марк. Ты это должна понимать.
— Ну, пусть. Пусть даже я лучше уйду. Только признай, что я твоя дочка.
— Ну вот, ну сколько можно-то? Что начнется, ты хоть представляешь? Тебя просто слопают с потрохами.
— Почему?
— Потому.
— Но ведь я наравне со всеми тут, так как все.
— Под крылом у отца и дяди… Ну ладно, ты просто не представляешь последствий. Слава богу, у нас разные фамилии… Я от тебя никуда не денусь… А вот карьера убежит…
Тишина внезапно повисла посреди маленького закутка, где творились музыка и кумиры.
— Иди, а то тебя и так не видно в последнее время…
— Я не могу тут больше…
— Опять начинаешь… осталась всего неделя, потерпи чуть-чуть…
— Я не могу…
Дверь раскрылась, и в комнату вошла Марина. Пора было начинать запись для воскресных концертов. Сзади, из-за её плеча выглядывала голова пухлого Алексея — его компьютер ждал своего хозяина, способного сделать и превратить любого безголосого юнца в смачного мачо, зычно рыкающего на взбрыкивающую публику.
— Записывать сегодня будем?
— Я…
— Ладно, Настя, потом поговорим, не сейчас, давай, все закончится, и поговорим….
Валера вышел из крохотной студии, даже не посмотрев на дочь. Он был мрачен как никогда. Казалось, все хотели его крови и мяса.
Рита вошла в гардеробную. Вот так всегда… С кем-то записывают песню часами, а на нее не тратят много времени в тон-студии. Настя уже час сидит с Валерой. О чем они там спорят? Любимица…
Рита посмотрела на себя в зеркало. Яркая, красивая… Что еще надо для победы!
Пусть ее песни были срисованы с рок оперы. Чужой. И старой. Но кто ее помнил? Только меломаны… Да и не догадается никто. Рита брала маленькие фрагменты, гармонии… и соединяла их в непохожие на оригинал куски. Быдло… Мелькнула в голове мысль. Им все равно, что смотреть и слушать.
Узкая, вытянутая комната казалась пустой. Здесь было душно, дверцы шкафов небрежно задвинуты, оставленные щели зажевывали куски одежды. Сумки валялись прямо под ногами, споткнуться и упасть не было тут проблемой. Спасало одно — разбежаться негде.
— Черт, ну кто тут вечно все разбрасывает?! — Рита сама удивилась своему голосу. Микрофон на майке был включен, и ощущение, что ты постоянно с кем-то разговариваешь, сводило с ума. Разум ехал, двигался, плыл… Куда обращались все эти слова, которые она говорила сама себе, но вслух, появлялись ли они в эфире телевизионного канала, видели ли ее зрители, были ли у нее уже поклонники?
Она, классная. У нее своя музыка, свои стихи, свои слова, своя философия. Разве не так? Самая образованная девочка «Звездного зазеркалья». И это правда. Она себя так и чувствовала. И так себя и вела. Главное было — держать дистанцию. Кто — она, и кто — они. Теперь, когда ребят осталось не так много, было немного легче. Её песни были и в концертах, и в Интернете. И пела Рита их сама. И неплохо. И пусть все говорят, что хотят. Это так и есть! Единственная рокерша на проекте.
Кто тут еще пишет музыку? Марк? Это смешно! Это музыка для пенсионеров! А рок! Хорошо, что эту рок-оперу никто давно не слушает. Никто, никогда ее не уличит.
Надежда грела, тем более что конец «Зазеркалья» был не за горами. Возможно, что будет приз, ну хоть какой-то. Или мать ее убьет.
Рита содрогнулась, вспомнив мать, ее реакцию на все, представив, как она ее встретит после окончания шоу и выхода из зеркального, а точнее, стеклянного аквариума, в котором она прожила уже три с половиной месяца.
Последний разговор по телефону не предвещал ничего хорошего. Мать была недовольна. Всем. Это чувствовалось по голосу. Другой бы не понял, но Рита… Она знала свою мать… Что опять она делала не так? Слезы поползли по щекам, угрожая залить и испортить цвет красивых зеленых глаз. Рита достала таблетки. Нельзя плакать. Вдруг ее показывают камеры. Таблетки. Таблетки тоже нельзя есть под камерами. Депрессии, антидепрессанты. Все это ерунда. Глоток бы свободы и все… Мать достала. Ну что еще, что она могла сделать? Все есть, как есть. Только бы не плакать. Только бы мать не ругалась. Что она тут самая яркая — всем очевидно. Ее песни и ее стихи… Только бы не плакать… когда все это закончится, когда…
Перманентный бардак, как революция Троцкого, раздражал обитателей зазеркального дома так же, как и упоминания об авторе известной концепции усатого грузина. Убивать, правда, за него, — никто пока еще никого не убил, — но хотелось. Конца этому было не видно. Когда все только начиналось, Рита старательно убирала свои вещи и пыталась не замечать небрежности других. Теперь она поняла, — ты уберешь — никто не заметит. Ты теряешь силы, а твой сосед все ходит как огурчик. Она присела, на постиранные и приготовленные к глаженью тряпки. Все было свалено кучей, прямо на пол. Рядом стояла гладильная доска.
— Да это джинсы Влада, — удивилась она, вдруг увидев, что кусок расшитых стразами штанов выглядывает из-под кучи футболок.
— Что за настроение, чего я здесь уселась. Попытавшись встать, снова плюхнулась на эту же кучу. Хлюпающий звук неприятно удивил ее. Пожар тут уже был. Что это могло быть? Неужели кто-то положил мокрую и невысушенную шмотку в гору сухого белья.
Рите даже не пришло в голову, что влага пропитала бы всю кучу, она вряд ли не почувствовала попой эту недосушенную вещь.
Она все-таки встала и удивленно оглянулась.
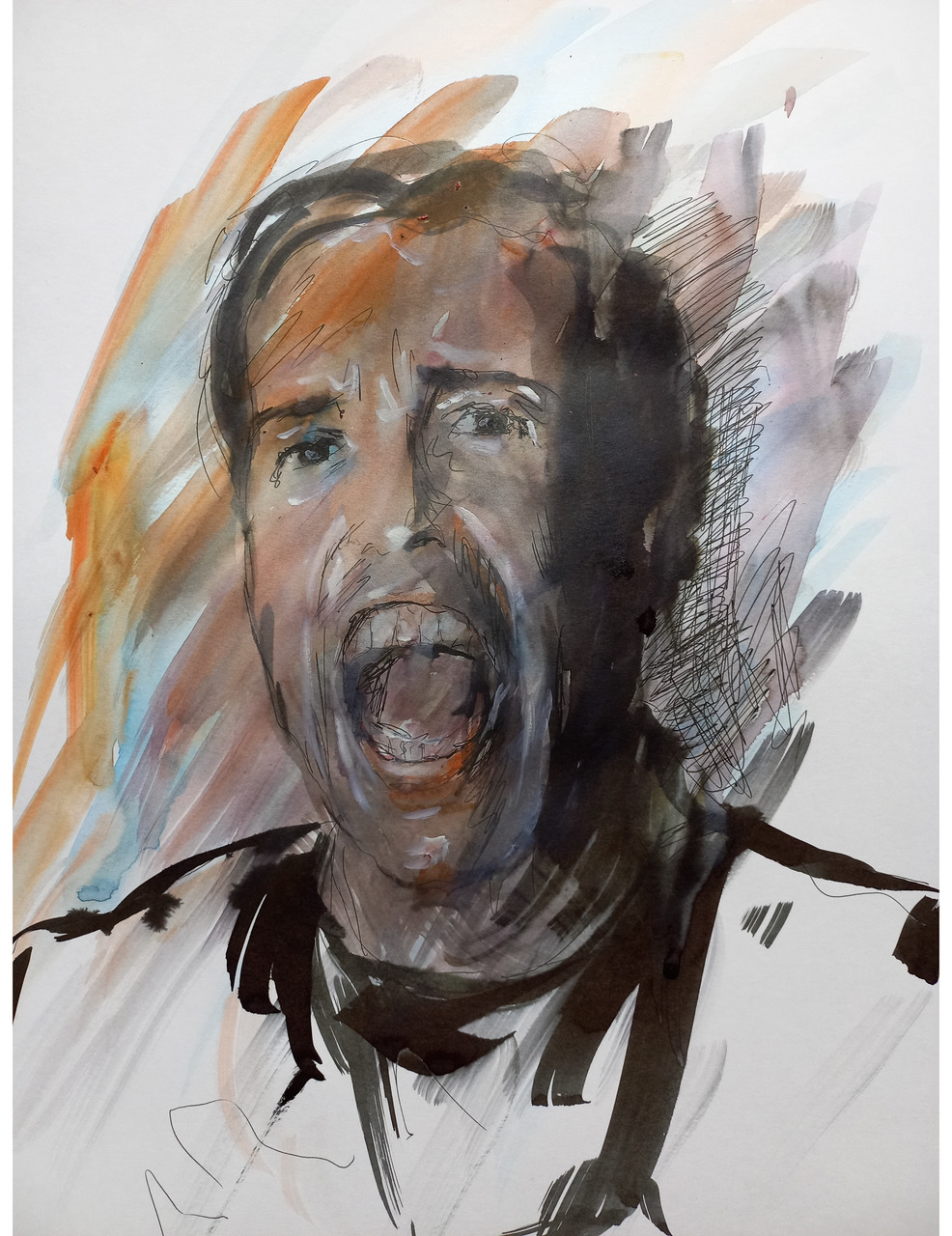
— А, подумаешь, пусть сами и разбираются, — устало махнула она мысленно рукой и уже пошла к выходу, но заметила уж совсем неподходящее. Из-под кучи чистого, по идее, белья вытекала струйка чего-то темного. Инстинктивно она нагнулась и дотронулась до этого. Рука почувствовала склизкую, липкую субстанцию, которая не отпускала, заставляя все трогать и погружаться в свою неглубокую глубину.
— Да что это такое, совсем с ума посходили.
Рывком она откинула белье и увидела его… Он был неузнаваем. Светлые волосы, такие блестящие раньше, тускло разметались по пестрой куче, голубые глаза смотрели прямо на нее.
— Влад, ты что, — почему-то затрясла она его за плечо, кончай прикидываться, дурак, совсем рехнулся.
Голова нырнула вниз, глаза переменили точку созерцания. Теперь Рита находилась вне зоны доступа взгляда ангельских глаз.
— Влад, да что ты тут развалился. Аааа, — заорала вдруг она, но ничего не двинулось и не переменило своего места.
— Влад, — ткнула она его в бок и отпрянула — вся рука была темной и липкой, и до её сознания дошло, наконец, что это такое.
Рита не могла пошевельнуться. Она просто орала что было сил. Резкий, гортанный голос, был как раз в той тональности, которую обычно пытался выжать из нее Коробов — педагог по вокалу. Вся напряженность и лживость звуков исчезла. Это был правдивый и голый без хрипотцы и полутонов крик ужаса.
— Ты чего орешь? — первый в двери появился Сергей.
Черные волосы его были собраны в узел. Глаза сонно и рассеяно помаргивали, в них не было ни малейшего удивления.
— Ты посмотри, что тут, — захлебываясь, гортанными звуками выдавила из себя Рита.
Она проводила руками по груди, на которой висели приклеенные косички. Ненатуральными, свитыми веревками, они создавали массу волос, или это была какая-то деталь ее имиджа…
— Ну что ты? — снова, еще тише и мягче повторил Сергей.
— Что тут у вас? Опять пожар? — в дверях уже столпились все ребята — участники «Зазеркалья».
Юля протиснулась в дверь и посмотрела на то, что было перед рокершей.
— Влад…
— Вот, — Рита протянула свои руки, они были в красной липкой жидкости.
— Что это?
— Влад — снова повторила девушка.
Громкий смех вырвался их побелевшего рта ранее неподвижного Влада.
— Черт, дурак.
Влад вскочил и с воплем выбежал в коридор.
— Вы что тут совсем что ль? — так и не понял ничего Сергей. — Рубашку мне испачкал. Это что у него там за гадость? А ты, чего было так орать?
Рита все еще стояла над кучей белья. Остекленевшие голубые глаза Влада мелькнули кадром из какого страшного триллера.
— Пошли, ты чего.
— Он что, нас разыграл что ль?
Влад со смехом выбежал из гардеробной.
— А ты подумала — он умер?
— Дурак! — вдруг крикнула она своим обычным писклявым голосом вдогонку Владу.
— Пошли чай пить, — дернула ее Юля за рукав.
— Нет. Влад, ты дурак, да…
Рита никак не могла успокоиться. Ей так нравился Влад Полянский. Невысокий светловолосый парень, с ангельскими голубыми глазами — он был самый младший на проекте. Ему только исполнилось шестнадцать. Он был настоящий артист. Пел он не очень здорово. Но они тут все пели не очень. Кроме Насти и Марка, никто не чувствовал себя уверенно в этой стихии. Ну и Тани.
У Влада были другие достоинства. Он был очень красив. Такой нежной тихой ангельской красотой, которая обычно действует на девушек безотказно. На нежных девушек. Или на всех. Он сам был похож на девушку. В нем не было ничего грубого, даже голос был приглушен, он говорил тихо, почти шептал, как будто его специально кто-то научил, как надо говорить, чтобы нравиться. Его голос был похож на ласковый шепот, на выдох, щекочущий ухо, на прелюдию к легким прикосновениям.
Полянский ей нравился, и ничего она не могла с собой поделать. Никак. Стопудово.
Юля сообразила сразу. Красивый, маленький мальчик, она повисла на нем на вторую неделю жизни в «Зазеркалье». Но и тут случился облом. Отец Влада был почему-то против. Хотя никто не мог сказать — почему. Может он ревновал сына? Или ревновал Юлию? А какое он сам имел отношение к Юле?
Вообще, чего-чего, а ревности в этом обществе было с лихвой. Юля ревновала Влада к Рите, хотя тут ничего не было. И быть не могло. И зачем она сказала, что у нее есть парень! Все испортила. А теперь можно было любить Влада до опупения, до вываливания глаз из орбит — так иногда ей хотелось залезть к нему в кровать — но она не могла. Это могло сойти с рук Насте, или Тане, они целовались тут со всеми, но Рита! Рита должна быть принципиальной.
А телу не прикажешь. Еще вегетарианство она кое-как сносила. Банки с фасолью, рыба, жареные овощи, салаты, рыба, опять рыба, опять салаты, — тут она как-то выживала. Ничего. Всегда можно было найти, что-то поесть. Серьга в губе, тоже мешала по страшному. Он не могла с ней ни спать, ни петь… то ли прокол был неправильный и кривой, то ли сама по себе серьга не подходила ей ни по какому… но было неудобно, больно… Неудобно и больно… Неудобно и больно… Все тут было неудобно и больно. Неудобно было теперь лезть к Владу, но она все-таки висла на нем… Больно было слышать от него ругательства… Неудобно было при мысли, что их слышат другие… что их слышит весь инет… все, кто смотрит онлайн. Какой стыд… Но желание было круче, и она снова лезла на шею маленькому бесенку… Как он был красив…
— Ты рокерша, терпи… — куда деться от матери.
Только строгий голос ее колоколом ударял по мозгам — ты же хотела в «Звездное зазеркалье» — так терпи, зачем мы тебя туда устроили? Не для того, чтобы ты целовалась с мальчиками.
Куда деться? Слезы выступили, выжались, стекли с накрашенных ресниц и потекли по щекам… Влад… а он все веселится….
— Офигительно, — она обернулась.
Сергей стоял сзади и смотрел на грязное красное пятно, растекавшееся по только что выстиранным джинсам.
— Он что, — что фильм что ль опять Димка снимает? — новое лицо показалось в проеме двери узкой гардеробной.
Хриплый голос Наташи внес правильные нотки в эту нелепую сцену.
— Какой фильм? — туповатый Сергей явно не врубался.
— Он тут как мертвый лежал. И глаза неподвижно. Я так испугалась, — неестественным голосом, уже обычным, с плаксивостью в тембре, протянула рокерша.
Она постаралась улыбнуться. Десны обнажились и показали хозяйственную натуру девушки. Слезы снова потекли, уже ничем не объяснимые. Впереди была номинация. Еще одна номинация. И ничего не могло ей в этот раз помочь. Легко матери было говорить. Сама она даже представить себе не может, что значит жить под камерами. Что значит… когда в туалете снимаешь штаны и думаешь — кто сейчас стоит по ту строну и смотрит как ты делаешь это. Так, хватит, не думать об этом, — одернула она себя, но град жидкости на щеках остановить было невозможно. Надо еще таблетку…
— В студию. Рита, в студию.
Это означало, что нужно было идти записывать свою песню. Стоять и пытаться прочесть мысли, угодить ему, боссу, кто руководил всем музыкальным процессом.
— Нет, Рит, ты через час. Сергей. Ты.
Голос сверху. Голос свыше. Неизвестно кто, но командовали тут строго. Прожектора слепили и грели… жарили… Смерть под солнцем. Почему-то вспомнилось Рите. Как надоел этот свет. Мощный, слепящий, палящий, греющий. Но больше всего убивали камеры. Камеры, камеры, камеры… Никуда не деться. Ловят каждое движение, каждую мысль, если она есть…
Пойду в джакузи. Там нет днем камер. Там побуду. Отдохну. К черту пиар. К черту. Побуду одна.
Она открыла в дверь и сразу поняла, что надежды были напрасными. В ванне был Марк. И опять красная вода. Да что это такое!
— Марк, вылезай. Димка не придет. Они с Владом в сад пошли.
Рита не знала, куда пошел Дима, но вся эта игра ее достала.
— Вылезай. И воду покрасил. Один одежду испортил, другой вообще… Попробуй отмой теперь джакузи… Уроды…
Марк не отвечал. Света не было. Камер тоже. Днем тут всегда не было никого.
Рита села на выложенную мозаикой скамью. Сняла микрофон с майки. Выключила.
— Ну и грим ты себе сделал. Вампир. А вода почему красная?
Тишина была ответом на слова рокерши. Она удивилась. Марк не мог пропустить возможность сказать ей что-то. Он явно не любил ее, а тут молчал. Странно. Ну и ладно. Второй раз она не попадется на их игры. Снимают фильмы тут, как будто это курс во ВГИКе.
— Рита, тебя в тон-студию, — Димка нырнул головой в щель приоткрытой двери джакузи. — Так и знал, что ты опять здесь спряталась.
— Не прячусь я. Просто отдыхаю. Я песню пишу. И Марк тут ждет тебя с камерой.
— Чего ждет?
— Ну вон, посмотри, как выкрасился, джакузи испортил красной краской.
— Боже! — с характерной театральной интонацией воскликнул Дима и наклонился над водой. — Марк, — протянул он и дотронулся до головы парня.
Тело медленно ушло под воду.
— Ничего себе. Вы что, сговорились сегодня? Вот уроды. Дураки.
— Он странный. Почему так долго не всплывает.
Маленький Димка стоял на краю бассейна и ждал, когда покажется Маркуша.
— Не знал, что Марк гигант подводного плавания.
И тут он увидел лезвие. Дима нагнулся и дотронулся до края.
— Да это кровь…
— Дурак, — хохотнула Рита, показав свои десна.
— Он давно так сидит?
— Ну хватит, Дим, хватит прикалываться, мне надоело, я уже вам… хватит…
Дима, как был, в джинсах, прыгнул в воду и подтянул Марка за руку.
— Черт, — рука выскользнула у него из пальцев. — Смотри.
Он подхватил его за плечи и пытался вытащить из воды, но тело опять сползало в воду.
— Смотри! — наконец выхватил он Марково запястье из воды.
Глубокий продольный шрам, сделанный по всем правилам хирургического искусства, зиял, обнажая внутренние ткани безвольно плавающего тела Марка.
ГЛАВА 2. УЛИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Глаза устали. Стоило большого усилия фокусировать кристаллик зрачка, чтобы видеть картинку на экране компьютера не в тумане, а четко и в деталях. Хотелось откинуться на спинку кресла, но, когда Ольга делала так — сразу все расплывалось перед глазами, уши не воспринимали, что за звуки шли из динамиков, мозг отказывался анализировать слова.
— К черту, — подумала она. — Хватит смотреть этот балаган. Балаган, балаган, балаган. Жуткие лица, глупые дети, смотреть тут не на что, и хватит терять время на этот… на это… балаган, — снова повторила она найденное слово. — С чего я вообще взяла, что тут может получиться какая-то история.
Ольга резко встала с черного кресла. Оно крутанулось от внезапного движения женщины и развернулось к окну. Останкинская телебашня едва заметным силуэтом виднелась в сером небе дальней перспективы.
— На дачу, — вслух сказала Ольга. — На дачу… Хоть по лесу прогуляюсь. А то совсем ослепну с этим «Зазеркальем».
Уже долгое время она всматривалась в компьютерный онлайн первого канала. «Звездное зазеркалье» разочаровывало ее все больше и больше. Надежда, что там можно выудить параллельный сюжет для нового детектива, таяла. Все казалось постановочным, персонажи — картонными. А как они поют — этого не узнать никогда — все сплошная фанера и компьютерная графика.
Рыжие волосы, чуть тронутые сединой, касались плеч и неровными прядями свисали на лоб. Быстро и ловко она собрала их в узел на затылке. Когда столько времени убито впустую, раздражать начинали даже собственные волосы. Очки, сдвинутые на макушку, собирали челку назад. Она выключила адскую машину, выключила модем, зло выдернула из розетки зарядное устройство для мобильника. Ничего не прихватив, захлопнула дверь. Пока медленно опускался лифт откуда-то из-под крыши, она вернулась и взяла сумку с ноутом.
— К черту, — зло повторила Ольга, заводя машину. — Плевать на все, к черту всех и все, к черту этих блатных детишек, к черту эту фанерную музыку, к черту всю эту ложь… Да кто там мог бы убить, когда все места уже заранее куплены!
Рванувшись с места, она чуть не сбила бабушку, семенившую с мусорным пакетом к бачкам, так нелепо поставленным на выезде со двора.
Волоколамское шоссе было забито. Именно сегодня, когда с неба сыпал то ли снег, то ли дождь, и холодный ветер пронизывал насквозь, все почему-то решили рвануть за город.
Совсем чокнулись, — снова ругнулась про себя Ольга, — что за люди, что им надо в лесу в такую погоду. Размышления в пробке превратились в рефлекторные дерганья рычага. Длилось это недолго.
— Плевать, — снова куда-то и на что-то плюнула Ольга.
Теперь это уже было не абстрактно посылаемый плевок в кибер пространство веб паутины плоскостного Интернета. Это был трехмерный и резко-временной разворот машины, внезапно вывернувшейся из ряда топчущихся железяк и, сопровождаемый смачными ругательствами, не сложно угадываемыми в беззвучно открываемых ртах водителей, изолированных стеклами своих воздушных личных пространств закупоренных консервных банок.
Ольга вдруг передумала ехать на дачу. К черту дачу, к черту лес, к черту топтание под дождем и снегом, к черту свежий воздух. Нужно поставить точку на всем этом, черную и большую.
Ну, нет — так нет.
И сюжета там нет, и талантов там нет. Но надо довести дело до конца.
Все надо делать, как следует — единственный девиз, который она решила себе оставить после всех рухнувших принципов, не выдержавших натиска жизни и неудач.
Точно, сегодня уличный концерт! Как я могла забыть, к черту дачу, я пойду, посмотрю на этих ребятишек, послушаю, какие звуки они могут издавать без машины времени. Ну да, она не эксперт. Не музыкант. Не педагог по вокалу. Но тут, в реальном трехмерье, она могла узнать все, или, хотя бы, — улыбнулась она своему оптимизму, — что-то новое!
Двадцать минут фотосинтеза — стоят месяцев сидения перед компьютерной графикой и монтажом плоских картонных персонажей фанерных героев из «зазеркалья». Объемная, осязаемая реальность вполне способна показать то, что ни за что и никогда не увидишь за плоскими кристаллами расплывающегося экрана. Несколько минут осязаемого реала могли стоить, даже нет, — перекрывали по ценности часы и недели плоскостного вглядывания в экранных персонажей картонной оперы «Звездного Зазеркалья».
Дом, знаменитый звездный дом Ольга нашла сразу, без труда. Не понадобилось даже спорить с навигатором. Хотя, в какой-то момент она подумала, что промахала на скорости мимо нужного адреса. Вдали она видела отлично. Хотя читать уже приходилось в очках. Компьютер здорово подрывал зрение. А куда деться… Впервые в жизни она делала то, что хотела. Она хотела написать книгу — и писала. Хотела высказать все, что накопилось у нее на душе. Но сказать так, чтобы это было интересно и другим прочесть, или выслушать.
Что толку болтать, если все это выражено абстрактно и отвлеченно. Обычно самые истинные и дорогие для тебя самой вещи звучат ненужно и непонятно для других, чужих и неблизких. А так хотелось быть понятой. Быть понятной. Доступной. Доходчивой. Не вывод рассказать, хотя и его тоже. Но и пути подхода к нему — чтобы все вместе с тобой пришли к тому же, что и ты.
Быть понятной. Быть понятой. Этого хотелось больше всего. Чтобы прочел кто-то мое творение и сказал, а ведь точно так есть, она права, я всегда так думал, только сформулировать не мог. Да, так и есть. Абстракции и воспоминания, которые обычно льются на человека из книг — мало воспринимаются. Чтобы разговаривать на эмоциональном уровне нужен материал, нужна эмоциональная канва. Вот хотя бы эта передача. «Звездное зазеркалье». Конечно, подобное шоу впервые идет в онлайне. Это забавно. В этом что-то есть. Ребята поют и живут довольно долго под камерами. В замкнутом пространстве. С концертами в Останкино. После каждой недели кто-то один выбывает. Тут могла быть интрига. Могла! Если все это заранее не срежиссировано. Ну… впрочем… при нашей всеобщей лжи и обмане — вряд ли там все вчистую дают. Но… Ребята живут под камерами. Конечно, сценарное шоу должно иметь проколы, должно показать хотя бы реальных детей, реальных ребят. И потом. Они-то не актеры. Они должны быть, и обязательно проявят себя реальными.
Ольга хмыкнула. В реале. Обычно это слово употребляется не том смысле, в каком она употребила его здесь. Это и с экранов у нас звучит. Да… с экранов. Вот бы еще и фильм поставить по своему детективу. Как бы было здорово. Можно было бы и умереть.
— А сын…
Вот так всегда. Внутренний голос ни разу еще не подсказал что-то верное и в нужную минуту. Ну сын. А чем она могла ему помочь. Каждый набирает ума в своей жизни своими шишками. Свой не вложишь, только покалечишь. А Ольга хотела, чтобы её сын был умным и сообразительным.
Улыбнулась. Ну да, детский мультик. Как же он назывался. Это из того еще времени, когда сын был маленьким, и когда они втроем смотрели мультики. Она, муж и сын. Смешные, детские мультики. Умен и сообразителен. Или там не так это звучало. Это говорилось о говорунах. Говорун — птица говорун –умен и сообразителен. Тьфу, вот привязалось.
Она уже подходила к уличной сцене. Слева высилось мрачным черным кубом заброшенное здание кинотеатра. Эти отдельные монолиты брежневской эпохи все еще стояли в разброс по Москве, напоминая своим объемным примитивизмом программу «Время» с лозунгом — «все о нем и немного о погоде». Ненужность и мрачность этого сооружения делала его похожим на замок, — если бы не отсутствие башен и длинных окон, с полукруглыми окончаниями. Огромная, рамблеровская будка всем и каждому говорила, что тут, и именно тут — происходит главное событие музыкальной и культурной жизни Москвы. — рождение молодых и талантливых звезд, рождение новых зрелищ. Рождение музыки.
Насчет музыки Ольга как-то сомневалась. Никто не писал там под камерами музыку. Никто не писал — почему? Не тех набрали? Не те условия? Если ты музыкант и дело тебе нравится, и ты умеешь — почему бы и не делать это под камерами? И занятие есть, и есть, что посмотреть. И послушать. Ольга с удовольствием думала, что было бы реально неплохо вот так включить комп и послушать десяток ребят, которые в разных комнатах на твоих глазах будут творить, создавать мелодию, складывать звуки, создавать гармонии, писать песни… Она бы, может, даже тоже достала бы компьютерную прогу, и тоже бы попыталась бы вместе с молодым талантом поиграть на компьютерной клаве, узнавая его мысли и удивляясь его находкам. Какие бы тогда были бы споры после еженедельных отчетных концертов! Было бы, о чем говорить!
Сейчас, открыв форум на рамблере, можно было погрузиться только в элементарные переживания малолеток и озабоченных юнцов.
Вопли были смешны. Кто-то защищал одного, кто-то другого. Но всем без исключения нравился Владик. Сын циркача, красивый мальчик, с накаченным телом и голубыми глазами. Нежный голос привораживал всех без исключения девочек младшего возраста, да и их бабушек тоже. А как он пел. А кто его знает… При современной технике –то.
В отличии от будки — сама сцена оказалась небольшой. Крохотной. Буквально три шага в одну сторону от микрофона — три шага в другую. Металлические конструкции, обрамляющие сцену довольно, странно смотрелись на фоне обвешанной звездами стены самого дома. Звезда — фирменный знак передачи, — присутствовала везде. Но сами стены почему-то все еще были в плакатах с героями уже прошедшего и забытого «Звездного зазеркалья». Объекты девичьих грез, вышедшие из этих стен и канувшие в прошлое и небытие, кумиры, растворившиеся в бесконечности серой массы, уныло смотрели выцветшими глазами на вяло собирающийся народ. Им было грустно, хотя они и улыбались гламурно и многообещающе. Картонные и плоскостные, двухмерные, ненастоящие… Забытые уже и теми, кто визжал когда-то при их появлении. Как мультяшки, они ворвались в жизнь занятых чем-то людей, мелькнули, ничего не создав и ничем не заполнив пустоту в душе — ушли, без боли, без сопротивления.
Как их звали?
А пустота осталась — никем не занятая, никем не желаемая быть занятой… а может, и желаемая, но… Пустота, в которой хочет жить красота и гармония звуков, и чувств. Красота, не пойманная еще, которую надо создать, показать и вложить в душу… Нет… Не создать… Уловить… Как транслятор. Уловить и показать всем.
Ольга посмотрела на плакаты. Смазливые мордашки. И куда они все пропадают. Наверное, это смешно ломиться в дверь, где надо продемонстрировать умения и мастерство, которыми ты не обладаешь. Умение петь и мастерство попадать в ноты… Про талант Ольга не стала вспоминать.
Стайка детишек повисли на поперечинах ограды.
— А я маме скажу, что ты не сделала уроки, а пришла к звездному, — малыш толкал стоящую рядом девочку, кривлялся и строил рожицы сестре и окружающим.
Окружающих было немного. Внеплановый уличный концерт. Джаз. Дождь. Или это был снег. Черти что. Ольга поежилась. Хорошо, что не поехала на дачу. Теплая жилетка, зеленая и стеганная, делала ее похожей на английскую охотницу.
Странно, что это сравнение пришло ей сейчас в голову. Надо будет записать. Она не знала, как выглядят английские охотницы. Но жилетка была английской. Не взяла зонтик. Ольга поежилась. Нет, он тут мешал бы.
Сцена не была пуста. На ней не было артистов — обитателей зазеркалья, но суетились рабочие, звукооператоры, специалисты по музыкальной и прочей технике. Даже прожектора крепились в последний момент. Яркий свет их выхватывал пространство по-другому, делая его нереальным, театральным, нарисованным.
Медленно подтягивались зрители. Дети. Но тоже совсем немного. Наверное — погода. Кому хочется стоять тут, на ветру, мерзнуть, ради того, чтобы услышать… Что слышать — предстояло еще выяснить. Объявлялось, что концерты на улице поются в живую. Но как это происходило на самом деле — черт его знает.
Когда отсутствует телевизионный монтаж — понять — как поет человек — не проблема. Конечно, если есть микрофон в руках — то… воспользоваться фанерой — нет вопросов. Это может петь и человек, держащий микрофон и кто-то за сценой, и просто записанный голос.
Двое — пожилой мужчина и неряшливо блондинистая женщина приглядывались к выходу — подъезду из зазеркалья, у которого стояла охрана. Ограждения не давали возможности подойти поближе. Потрогать, спросить, получить автограф.
Хотя… А кто тут пытался получить автограф?
Хотя… Писали и показывали этих ребят, поющих и живущих по ту сторону экрана уже долго. Но! Какие-то все были серые, непонятные, странные, сырые.
Ольга облокотилась на одно из ограждений. Пробовали звук. Рядом встала бабушка. Она посмотрела на стайку ребятишек. Девочки, совсем маленькие, лет 12 — 13, вертели головами во все стороны и переругивались с братом одной из них. Он буквально кувыркался, как обезьянка.
Наверное, отменят концерт. Никто не пришел. Вряд ли ребята в такой холод будут петь перед пустой площадью. Ольга вздохнула. Сзади послышались голоса операторов — техников, связывающихся с кем-то внутри здания. Они вызывали Инну Судакову, спрашивали о готовности.
Забавно, Ольга посмотрела на молодых специалистов, серьезно занятых подготовкой предстоящего действа. Сколько отличных профессионалов возятся, вкладывают душу, таланты, способности, выдумку, чтобы сделать это шоу. Шоу бездарей, попавших сюда благодаря связям, деньгам.
Ольга, — остановила она сама себя. — Давай не будем торопиться… А вдруг… Вдруг ты не права…
Она улыбнулась. Наив. Не права — в чем? В том, что тут все набраны с улицы? Тогда почему нет музыкантов? Впервые все транслировалось в онлайне. Это делало зазеркалье всеобщим, и… и реальным.

Немного кружилась голова, и размывало изображение — сказывалось длительное сидение перед экраном.
Движение вокруг подъезда усилилось.
Парочка с крашеной блондинкой делала узнавательные знаки брутальным парням у входа в дом. Там, чуть в глубине, за лестницей, дверь то открывалась, то закрывалась. Внутри стояли они, те, кто мелькал на экранах домашних компьютеров и телевизоров. Парочка махала кому-то там внутри. Наверняка это были чьи-то родители. Довольно обычные, подумалось Ольге. Её рыжие волосы намокли. Она не помыла голову. Да и все равно это было тут, под дождем, на улице, на концерте каких-то неизвестных ребят из телевизора, на который никто не пришел.
— Идут, идут, — звонко завопил мальчишка рядом.
Он повернулся и наступил Ольге на ногу.
— Влааааад, — заорали девочки, враз позабыв о маленьком брате и его угрозах.
Родительская пара стала делать активные мимические знаки, их лица оживились, и отец вдруг замахал руками и даже что-то стал выкрикивать.
Свидание как с заключенными.
Ольга жадно впитывала происходящее. Вереница молодых людей, появившаяся из стеклянных дверей Зазеркального дома, вызвала крики немногочисленных детишек, собравшихся тут перед легкой, открытой уличной сценой, смонтированной на скорую руку и кое- как.
Реально, чувство восторга, вырывавшееся с криком из душ детишек, передавалось и ей. Да, именно так… Вот, прямо сейчас, прямо перед вами, у вас на глазах… из двери выйдут те, кого вы могли наблюдать на экранах… Ура! ЙеС!
Стало весело. А что, правда, есть магия значимости тех, кто только что находился в экране телека.
Ребята смотрели на тех, кто стоял перед сценой вдоль ограждения.
Вышел хозяин оркестра. Джаз есть джаз.
Пели не все. Музыканты стояли неподвижно, маэстро скучающе ходил сзади. Вот она, лажа. Живые уличные концерты. Ну почему надо постоянно врать? Ольга с грустью смотрела на совсем юного и маленького участника проекта — Влада. Любимец девчонок, на улице он был совсем маленьким, совсем еще ребенком. И это было видно, и при всем желании нельзя было даже сказать, что это парень. Это был мальчик. Маленький, совсем мальчик. Он не смотрелся даже на свои 15 лет. 13… Нет… 14… максимум. Он сам тоже чувствовал себя неловко, суетился, бегал, размахивал руками.
В жизни, на улице, рядом — вся компания звездного зазеркалья, производила еще более странное впечатление, чем на экране. Там, в плоскости, они, хоть и отличалась по возрасту, по опыту, по мировоззрению и интересам, — но это не так бросалось в глаза…
И вот музыканты оживились. Маэстро встал к инструменту. К микрофону подошла Настя. Поверх платья был наброшен мужской пиджак. Она усмехнулась, как нашкодивший ребенок, случайно выскочивший вместо отца на сцену. Она взяла микрофон в руки. Волосы, черные как смоль, были гладко зачесаны назад и собраны в красивый пучок. Это было не модно сейчас. Впрочем, возможно, и модно снова. Когда-то, двадцать лет назад девушки часами просиживали перед зеркалом, чтобы сделать ровный и четкий узел, сформировать его шпильками и расческами. Сейчас это могли быть просто накладные волосы. Шпильки, черные огромнее каблуки, на которых она ковыляла на полусогнутых, еле-еле, делали ее неотесанной и нелепой, деревенщиной, случайно попавшей в Москву на сцену. Оставалось удивляться — кто постарался и похлопотал за такое сгорбившееся, спотыкающееся, смешное и чудное создание.
Раздались первые аккорды, и она пропела первую фразу. Сняла пиджак и кинула его прямо на пол на сцене, перед собой, себе под ноги, оставшись стоять в шелковом красном платье. Тоненькие лямочки казались кровавыми следами разрезов.
С первыми звуками что-то срезонировало. Ольга улыбнулась и уставилась на девочку, раздевшуюся на холодном ветру. Она пела под дождем, но, казалось, что она забыла обо всем. Или вспомнила.
— Энд ё мамми гуууд лукинннн…
Английские слова были просты и понятны, как родные. Смысл проходил в душу помимо знания грамматики и словаря как-то внутренне, сразу от образного их значения.
Голос обволакивал душу, заполнял все щели в голове, заливался между ребрами и позвонками, проникая в желудок и коленные чашечки. С Ольгой происходило что-то невообразимое.
А Настя стояла и пела. Ей было все равно, что перед ней, перед крохотной сценой, да какая там сцена — так, возвышение из железяк и прожекторов, никого не было, что в холодном стекле дождя она стоит почти голая, ей было все равно, что она пела для трех с половиной человек…
Что холод пронизывал ее насквозь…
Или она этого не чувствовала? Наверное, нет. Ольга ощутила полное погружение в звуки, мелодию, слова.
От Насти исходило что-то необъяснимое, что-то сверхъестественное.
Как будто-то великий ктулху медленно поднимается с морского дна и транслирует каждому свои печали и мысли, свои чувства и сомнения по поводу вселенского разума.
Это было нереально.
Это было необъяснимо.
Это было проникновение в звуки мировых сфер.
Ктулху все поднимался и поднимался, черные волны раскачивались, небо сияло луною. Душа замолкала, соединяясь с чем-то большим, возможно, с тем знанием, что ждет нас после смерти, или было до рождения. И это приносило облегчение, вздох слияния с тем, кто все знает и думает обо всех нас, замирал где-то на губах, и легкость заполняла думы и душу.
Ольга очнулась, когда Настя уже сошла со сцены. Девушка накинула пиджак и корчила смешные рожи кому-то рядом.
На сцене был Дима. С кукольным лицом, нелепый и маленький он открывал рот невпопад фонограмме. Конец песни он допел своим голосом, страшно покраснев от напряжения, и голос этот полностью не совпадал с тем, что только что звучал отдельно от него.
«Ничего себе врут, — подумала Ольга, — да это же чужая фанера».
Она кинулась к Насте, на ходу вытаскивая из сумки кошелек. Щелкнув замком, она единым движением вытащила все, что там было — даже не посмотрев.
— Настя, — крикнула как можно громче, ограждения не давали возможности подойти поближе. — Настя!
Настя уже танцевала смешные па с Егором, они дурачились и смеялись, Егор подхватывал ее на руки и крутил, вокруг себя.
Ольга подошла к охране.
— Деньги можно передать?
— Нет, даже не думайте. Нельзя. Сегодня мы деньги не принимаем.
Удрученно Ольга пошла к машине.
«Анд ё мамми гуууд лукин», — звучало в ушах, и она улыбнулась, и, забыв досмотреть концерт, открыла дверцу своей упрямой и капризной сине-голубой тойоты. Сегодня ей стало понятно, как богатые дворяне спускали состояния на певиц. Мда… Так вот как это происходит. Вот что такое сирены!
Что-то вдруг вспомнив, она оглянулась на сцену. Там, нелепо размахивая руками, улыбались две девушки, они пели вместе, хором, весело.
Что-то я совсем очумела, — тряхнула рыжими волосами Ольга.
Надо все-таки досмотреть.
Несколько шагов к сцене, к прожекторам и камерам рамблера вернули Ольгу в «зазеркалье».
Невысокая, с распущенными волосами и косичками, тут уже пела Рита. Ее большие рыбьи глаза бегали растерянно по зрителям. Видно было, что она не знает, что ей тут делать и зачем она вообще тут стоит. Огромный рот открывался широко, издавая странные хрипящие звуки, как будто кто-то клещами тащил и тащил из глубины ее тела звуки, а они не хотели выходить, подчиняясь сознанию Риты, и всеми возможными средствами цеплялись за внутренности, за глотку, за связки, за легкие. Звуки были спрессованные, не похожие на пение, звуки овцы, потерявшейся в стаде, и не знающей, что бы такое сделать, чтобы ее заметил пастух.
— Не, ну это уже через чур.
Ольга провела рукой по мокрому лбу. Челка капала сама по себе, глаза спасали лишь длинные ресницы. Кто там еще будет петь? Или это все. На сцену вышел высокий и невероятно худой парень. Аа, ну да, еще же Марк. Гиршман вышел с улыбкой. Лицо казалось вогнутым. Глаза вглядывались в толпу, пытливо спрашивая, ну что, вам нравится… Это было неприятно, потому что голос, ну голос, обычный… — Ольга вдруг вспомнила безногого парня, что пел в переходе. Парень был еще и слепым, он садился на раскладной стульчик, отстегивал свой протез, доставал аккордеон и пел. Потом, вставал, собирал свой инструмент и уходил, выстукивая палкой дорогу. Как он ориентировался в пространстве — всегда было для Ольги загадкой.
Звуки катились мимо, не трогали. Он был последний.
Ольга решительно развернулась, и стремительно пошла к машине. Доехав до дачного поворота, она снова развернула машину.
Усталость вдруг навалилась на нее. Полдня прошло просто в дороге. В дороге с заездом на концерт.
Зеленые огни светофоров казались перемигиванием дьявольских глаз дракона, который был повсюду. Пробки были и на обратном пути. Ольга вздохнула, подумав о пустой квартире, что ждала ее с новыми впечатлениями. Или не ждала.
На скамейке перед подъездом сидел Евгений.
— Ты чего? Сдурел?
Он опустил голову на грудь и тихонечко посапывал. Ольга прошла бы мимо, если бы не его портфель. Этот черный, потрепанный портфель она узнала бы из тысячи. Он валялся прямо перед ступеньками подъезда. Все шли, перешагивали через него равнодушно, никто не трогал его, не поднимал и не уносил. Рядом, к игровой детской площадке была припаркована его машина.
— Ты еще и на машине.
— Ну пешком бы к тебе я не дошел в таком… таким… — вдруг очнулся Женя и поднял голову.
Серая куртка с капюшоном делала его похожим на школьника.
— Ты бы и сидел тут до ночи? Я вообще-то на дачу уехала.
Ольга уселась рядом с ним на мокрую скамью.
— Ты… и на дачу… гы, — он усмехнулся, ровный ряд белых зубов показались чем-то летним на фоне плакучей и древней осени.
— Ты хоть что-то еще соображаешь? А? — она потрепала его по плечу, то ли делая попытку его поднять, то ли пытаясь его протрезвить простым прикосновением.
— Да куда ты от компа, что я тебя не знаю, что ль? Ты будешь сидеть перед экраном до опупения, пока глаза не вывалятся от старости.
— Не от старости, а от напряжения. Я себе очки купила специальные.
— Гы, ну кому ты это говоришь? Чтобы ты поставила между собой и экраном что-то еще.
— Очки — не ставят.
— А что — содят? — голова его мотнулась, он снова показал свои свежебелые зубы. Ударение было хулигански поставлено на неправильную букву «О». Бывший отличник — его преследовали комплексы неполноценности.
— Садят огурцы. А очки надевают.
— Ну надела. Между собой и компом. Да ты ничего не потерпишь. Слепая, а все будешь носом тыркать.
— Ну, во-первых, у меня есть скайлинк. Я теперь и с ноутом могу на любом пеньке в инете сидеть.
— Модуль? — удивленно глянул он на рыжие волосы Ольги.
— Да, и скорость там будет покруче чем от…
— И плата — тоже.
— Ну плата — это дело времени. Ты пришел тут про скайлинк поговорить?
Ольга подобрала портфель своего одноклассника.
Смешно, но от школы отделяло их уже четверть века. А Женька все еще ходил с тем же портфелем
— Послушай, я пришел к тебе… короче… пойдем, я тебе… нет… короче, помочь мне некому.
— Ты и помощь! Не верю ушам своим, ты же у нас клеишь потолок!
— Это что за жаргон такой?
— Ну я, к примеру, — потолок мою, а ты клеишь.
— Ничего не понимаю, что ты смотришь на меня так критично. У меня дочка оказалась в вертепе. Ты мне помоги ее вытащить оттуда.
— Дочка? Ты говорил, — она во ВГИКе. Хотя ВГИК, конечно, вертеп.
— Нет, она сейчас на «Звездном Зазеркалье».
— Я только что с концерта. Хм, а кто там твоя дочка? Я там твою фамилию не помню.
Ольга вздрогнула. Они не виделись очень давно. Пару лет даже не звонили друг другу. Между ними не было и особенной дружбы. Когда-то, лет десять назад был небольшой роман, как всплеск воспоминаний о юности. Но все это было так невесомо и ушло, не оставив о себе даже воспоминаний.
Рыжие волосы совсем промокли. Хотелось в теплый дом, и было приятно сознавать, что там, на пятом этаже ее ждала теплая ванна и теплая кухня с электрическим чайником и вкусным сыром.
Евгений поднялся. Пошатнувшись и шмыгнув носом, он взял Ольгу под руку.
— Ты еще и простужен что ль? Под носом блестит.
— Ты не понимаешь.
— Что я не понимаю?
— Там у них Гиршмана убили.
— Еще что расскажешь? Я только что с их уличного концерта еду.
— Ты была на уличном концерте? — слова Ольги, наконец, добрались до лобных долей стоявшего перед ней бывшего одноклассника и недолгого любовника.
— Ну да. А говорили, там все блатные. А под какой фамилией дочка-то у тебя там?
— Под фамилией жены. Она мне только что позвонила.
— Кто?
— Ты тупая, или где?
— Я — дома, а вот, что ты тут делаешь?
— Гиршман мертв. Ты что — не улавливаешь?
— Ну он мне и не понравился. Слава богу. Нечего лезть туда.
— У меня там дочка…
Ольга больше не смотрела на промокшего Женю. Она вошла в подъезд. Он шел след в след рядом.
— Ну отлично. Хоть бы похвастался.
— Чем? Ты соображаешь, какие там дети?
— Ну вот этим и похвастал бы.
— Ты все-таки тупая, как и была. Я… Там… труп там, ты понимаешь?
— Ты как-то определись. То хвастаешь, то глаза лупишь.
— Я квартиру отца продал.
— На университетской?
— Да.
— Ну… все решили деньги!
— Ты, правда, такая наивная? Иль придуриваешься. Жена в Германии оперировала нашу примадонну. Только поэтому и взяли.
— Плюс деньги.
— Да.
— Какой блат!
Ольга открывала квартиру. Замок почему-то застревал. Но несколько нажимов на ключ, и все получилось. Давно надо вызвать слесаря — сменить замок. Но все еще теплилась надежда, что заедет сын и сменит все, что надо.
Она вошла в небольшой коридор. Свет не включался. Ольга стряхнула с себя туфли и сразу прошла на кухню. Негромкий щелчок сменился звуком закипающего чайника.
Евгений ходил за ней по пятам.
— А от меня ты чего хочешь?
Не то чтобы визит бывшего любовника был ей неприятен. Но и приятным его назвать было трудно.
— Ты с дочерью моей поговори.
— Зачем?
— Ты что — не врубилась? Там Гиршмана убили.
— Ну и что?
— Это походит на борьбу кланов. Ритуля там — она правнучка Малоземцева.
— Не может быть.
— Что? Что она правнучка Малоземцева?
— Ну да.
— А ты что, правда думала, там простые дети и ни у кого нет никаких таких родителей? — Евгений рассмеялся почти мефистофельским смехом. — На экран попадают только те, кто проверен экраном. В смысле — клан.
— Ну нет, я не думала, что все такие простые, но, чтобы правнучка Малоземцева. То-то она так привыкла говорить, и часто пользуется бумажкой, — усмехнулась Ольга. — Цирк. Но она же из Белоруссии.
— А ты говор слышишь?
— Но как так.
— А вот так. Должна была по сценарию быть девочка с республики. Вот она и стала ею. Девочкой с Минска.
— Ты смеешься? Не может быть такой лажи.
— А какой должна быть лажа?
— И что, совсем никакого отношения к Минску не имеет?
— Нет. Никакого. Ну может, была там в последние пару месяцев перед зазеркальем, чтобы улицы заучить. Пожила у кого-то из знакомых. Может, ей даже там понравилось. Но училась она, сама понимаешь, в Москве, и родилась тут, и жила, и… короче… она такая же белоруска, как я негр.
— Точно, насчет негров она как раз высказывалась. Так вот откуда в ней такая политкорректность! — рассмеялась Ольга. — Это в ней прадед говорит.
— Ну знаешь… — прадед не прадед, а воспитание семьи. Семьи — с большой буквы. Когда ты обязан, потому что ты внук, правнук, ты — несешь гены…
— Да, гены точно, — опять рассмеялась Ольга. — То-то в ней такая тяга к циркачу.
— Какому циркачу?
— Ну, Владу. — он же из цирковой семьи, и сестра у него из цирка.
— Ах это. Не знаю насчет цирка, но говорит она с дефектом прадеда.
— А что такое у деда? Небось, просто беззубый был.
— Ну это-то да. У Малоземцева был пародонтоз. Причем такой острый, что он не мог носить мосты, протезы, у него кровили десна. И все было очень больно и сложно.
— Это стоматит называется.
— Ну ты прям доктор.
— А ты прям семейный историк.
— Не историк, но знаю. И Малоземцев ходил обычно без протеза и ел кашку. Пока не показывали по телеку. А по телеку, когда показывали — над было говорить.
— Ну вот — ему мешал непривычный протез.
— Нет, дело не только в этом. Он… у него был еще и дефект. Маленький такой дефектик. Язык при разговоре в сторону закручивался. И у Риты то же самое. Понимаешь?
— Да ты что? То-то я не могу понять ни слова в ее песнях.
— Ну да, это наследственное и неизлечимое.
Ольга расселялась. Абсурдность ситуации была очевидна.
— Ну а кто додумался сунуть девку с врожденным дефектом в артистки? Да еще петь.
— Ну знаешь. Петь — не говорить. Там можно и подвывать.
Ольга рассмеялась еще громче.
— Ты сдурела что ль? Я к тебе с серьезной проблемой, а ты тут веселишься, как будто я тебе анекдот рассказываю… Ты не понимаешь. Гиршман этот… брат двоюродный… будущей власти… ну сама понимаешь… Волкова.
— Ну извини… Твоя проблема от большого ума. Ты-то как умудрился сунуть туда ребенка, в эту помойку идиотов? Ольга вспомнила о Насте и прикусила язык.
— Значит, теперь там убивают, как при этих… двор-то был кровавый… как при Медичи?
— Похоже на то. Дети поняли, что блат, конкурс блатов.
— А что ты хочешь-то?
— Хочу дочку забрать.
— Что так? Ведь там такое хорошее общество.
— Страшно.
— Что страшно?
— Страшно за нее.
Ольга посмотрела на Евгения. В его глазах был такой неподдельный ужас, что она побоялась даже улыбнуться.
— Вот что. У меня есть знакомый следак. Сережка Потапенко. Он сейчас в отпуске. Не знаю, пустят ли его на место, как ты говоришь, преступления, но попытаться можно. Во всяком случае, он хоть что-то узнает.
— Да нет, ты не понимаешь. Я хочу забрать ее оттуда.
— Так забирай.
— Она не слушает меня.
— А я что могу?
— Ты умеешь убеждать.
— В чем я тебя убедила?
— Послушай, жена в командировке.
— Так вызови ее оттуда. Повод вполне серьезный. Жизнь ребенка.
— Она в Германии.
— И что?
— Я тебя очень прошу. Поговори с ней.
— Легко сказать, но как это сделать?
ГЛАВА 3. СМЕРТЬ В ГРИМЕРКЕ

Примадонна сидела за сценой, в специальном закутке с аппаратурой. Здесь же была и ее гримерная. Было невыносимо жарко и душно. Невыносимо жарко. И невыносимо душно.
Она подняла подол своего коротенького платья и стала обмахивать им лицо, стараясь создать хоть какое-то движение воздуха. Раньше, когда у нее был голос, вернее не так, когда голос ее был настоящим и имел ту силу и мощь, которые и …эх… когда это было. Элла вздохнула. Тяжело было вспоминать об этом. В кого она превратилась. Нет, она еще ничего… Вполне. Правда, юбка теперь была выше самого некуда. Чем больше возраст, тем меньше становится край платья… С чем это связано? А чем еще было привлекать внимание, ускользающее и ускользающее…
Раньше она бегала по сцене в просторных балахонах, в которых с трудом не заплеталась сама. И уже тогда считала себя полноватой. А теперь… Теперь… Пиво было слишком вкусным. Как можно было от него отказаться. Она не могла…
Давно надо было уходить.
Как хорошо было бы сидеть сейчас дома и пить это самое пиво. Но нет… Элла вздохнула и махнула коротеньким подолом. Она уйдет — это конец всему. Конец карьере дочери, конец зятю. Пусть бывшему, но все–таки это был отец ее внука, не чужой человек.
Сейчас все они держались на ней, как на соломинке.
Она снова вздохнула, взглянула на экран аппаратуры. За чем она могла следить тут? Там был и режиссер, и операторы, и художники — все были. Но! Надо было исполнять роль великой примадонны, великой и ужасной.
Как Гудвин. Художественный руководитель. Ну хоть как-то…
Страх вползал в мозг, разворачивался в извилинах, заполняя каждую клеточку, каждый нейрон, каждый аксон.
Что дальше?
Как и что будет с дочкой, как она будет, если придется уйти, если что-то случится…
А чувствовала она себя все хуже и хуже. Не в этом возрасте было ездить по гастролям, изображая из себя звезду. Не в этом… хотя… какой такой возраст был у нее…
Ей не было еще и 60. Но сил почти не оставалось. Сцена забрала свое. Почему так быстро убежало здоровье? Куда? На страсти и мужиков?
Элла посмотрела на монитор. Ее молодой любовник отрабатывал свой номер. Да, она еще хорохорилась. Еще таскала с собой молодого парня. Но это было уже скорее для видимости, для имиджа, для рекламы, для скандала… Для привлечения внимания.
Элла расстегнула белые сапожки. Конечно, нельзя, чтобы кто-то видел ее разутой. Но терпеть эту узкую колодку в такой жаре и духоте она не могла.
Пальцы не слушались. Руки дрожали. Что-то совсем плохо. Скоро это станет заметно всем.
Устала. Как же она устала. Давно. Но как долго она еще будет топтать эту землю, чтобы уходить сейчас? Сколько ей отмерено? Надо еще подзаработать. Надо еще и еще, Или умирать бомжом. Иль распродавать квартиры. Ну, может быть, еще чуть-чуть.
Но уйти, это перечеркнуть дочку. Чем она тогда будет заниматься? Дочь никто тут не потерпит. Ей …она моментально вылетит из всего этого высшего общества… и никто не поможет… никто не засуетится, чтобы сказать слово за…
Надо… придется сидеть тут до смерти, пока есть хоть какие-то силы.
Элла посмотрела в сторону темного проема, ведущего в коридор.
Коридор… Пустой коридор выглядел страшно и напоминал вчерашний день.
Похороны. Вчера похоронили Сашу. Актер, режиссер, — он был моложе ее почти на 6 лет… Как он мучился… Рак. Как он цеплялся за жизнь, как до последнего не верил, надеялся, что не умрет. Саша Авлов. Великий тусовщик.
Сколько женщин у него было, и как все его хотели. Он тоже все… хотел… хотел все и сразу… все работал и работал… Все снимался, снимал, все бегал по рыбалкам, футболам и вечеринкам.
Когда сказали, что у него рак — никто не поверил. Он сам в это не верил. Такие, как я, не умирают.
Все так говорят.
А еще никто не остался в вечности…
Ну не вечность… но в 54 года…
Может, и ее ждет такой же точно конец.
Она вспомнила, как Авлов несколько лет назад внезапно прилетел на день рождение Равнининой. Его уже никто не ждал. Он был на спектакле в Питере. И вдруг. Он входит. Весь в белом… Великолепен, как всегда…
Оказалось, что он до спектакля позвонил кому надо, чтобы задержали самолет. И самолет три часа ждал окончания спектакля, и вот… Он в Москве на дне рождении. Как он был жаден до впечатлений. Метался и туда, и сюда… Все хотел ухватить за хвост. Боялся не успеть что-то, не увидеть, не услышать, не получить, не сыграть.
Элла вдруг ясно и отчетливо представила самолет, поздний рейс. Ночной. Между Питером и Москвой, и лететь-то всего ничего. И вот… уже ночь, все сидят и ждут, когда вылетит самолет, чтобы оказаться дома в своих кроватях. И вот целый самолет три часа ждет актера Александра Авлова….
Она невольно зажмурила глаза. Весь самолет в тот момент проклял его. И неоднократно. Проклинали, наверное, каждые полчаса.
Да, последние годы он не сходил с экрана. Почти как я, — не удержалась от сравнения Элла…
Она опять зажмурила глаза. Потекла предательская слеза. Опять придется поправлять грим.
Чем больше мелькаешь — тем осязаемее конец.
Может, и так. Но что это меняет?
Она все равно не оставит тут дочь одну. Она не может оставить ее тут одну. Если уходить — то вместе.
Нет, не так. Уходить придется вместе. Сейчас уже все катится под откос. Уходить придется вдвоем.
Почему-то опять в голове раздался голос Авлова. Зачем он стал звонить по редакциям? Что за шило сидело у него в заду? Он и ей зачем-то позвонил.
— Я не лечусь козьим дерьмом. Это неправда. Зачем вы пишите это. Люди будут следовать этому и…
Элла покачала головой. Всего неделю назад. Он звонил. Люди будут следовать этому… Чему?
Везде кланы. Все держатся друг за друга. У Авлова был свой круг. Круг друзей, которые всегда готовы были ему помочь, достать денег, сценарий, дать роль, задержать самолет.
А вот жизнь задержать не смогли….
Она снова вспомнила, как он все собирался в монастырь. И его друзья звонили, чтобы оповестить о времени посещения…
О времени посещения…
О времени ухода оповещает не Авлов…
Тягучая боль в области сердечной мышцы напомнила о себе. Она была привычной, но странной. Странной, потому что… Наверное, тоже надо ложиться в больницу. Но выйти из струи — и все… — больше в этот поток не войти. Как в Греции. В одну и ту же реку нельзя войти дважды…
Но сейчас дело не в ней. Дело в ее дочери. Она еще молода, чтобы остаться вне потока.
На краю канавы, — вдруг почему-то подумалось Разиной.
Странно. Такие ассоциации. Но канава — да, все это стало напоминать ей сточную канву.
Пропадет девка, ох пропадет тогда. Куда мне уходить, — тяжелые, мрачные мысли наваливались, морщили лоб. Столько пластики. Сколько операций она сделала. Все зря.
Больше нет. Хватит. Сил нет. Так будет доживать. Она все же примадонна. Имеет право быть любой.
Она вспомнила, что у Авлова осталась годовалая дочка. Только женился, только обзавелся ребенком.
Да, жизнь выбирает момент, чтобы ударить как можно более остро.
Почему мы не умеем даже умирать достойно? — искры мыслей в голове уводили не туда, куда должны были бы.
Вот умер человек. Моложе ее. Известен всем. Неужели нельзя было спастись?
Не верится. И он не верил. Он всемогущий, все может, а тут умирать. Нет.
Умереть достойно. Это как?
Наверное, без суеты.
Вот и награду какую-то пошел в кремль получать. На фига ему эта награда нужна была? Что она ему жизнь продлила? Зачем ему нужен был это визит в кремль, этот звонок в редакцию?
Интересно, что человек и правда считает себя кумиром и легендой. Откуда приходит это чувство собственной значимости и значимости?
Почему нет? Вот она же, Элла Разина, считала себя легендой отечественной эстрады. И он хотел быть легендой.
Хотел стать легендой, или быть легендой.
Настоящие легенды, наверное, об этом не задумываются.
Наверное, истинные легенды просто живут и умирают достойно.
А все остальное уже сатира, пародия… картография…
Элла поежилась. Ей вдруг стало холодно… как будто смерть дотронулась до нее своим ледяным лезвием.
Рак… Что надо делать, чтобы остаться здесь, на земле…
Такая длительная и мучительная смерть — это, конечно, наказание… Но за что. За славу… Но ведь раком болеют не только…
Надо будет менять все. Круто менять жизнь. Если у тебя рак — надо просто менять жизнь. Если ты был везде — тебе надо уходить, запираться, закрываться, уходить… менять…
Но зачем менять, если все равно умираешь? Еще чуть-чуть пожить… Это хочется всем…
А может, они просто не верят в чудо?
Обыкновенное чудо… Элла верила. Она верила, что…
А если ты, наоборот, был заперт и вел уединенный образ жизни, ученый, иль отшельник? Тогда что? Нужно идти в люди получать по мозгам?
Эллочка скривила губы. Получать по мозгам. А что еще можно было ожидать чужаку, пришедшему в мир?
Здесь никто никого не ждал. С распростертыми объятиями. Никто и никого. Будь ты супер-пупер, талант расталантище. Везде уже все было схвачено, везде все было занято. Все теплые местечки были поставлены на контроль — везде была очередь.
Очередь была даже на место у гроба.
Разина вспомнила вчерашний скандал на похоронах Авлова. Его друзья отгоняли его молодую жену.
— Ты кто такая, чтобы тут стоять!
Кто это сказал?
Ответный крик молодой женщины до сих пор звенел в ушах.
Кто же так цыкнул на нее?
Вот она жизнь. Друзья. Отгоняющие вдову от гроба. Драка за место у гроба.
— Ты кто такая, чтобы его хоронить.
Абсурд. И кто тут идиот? Жена, или друзья?
А на нее еще говорят — мафия. Ну какая она мафия?! Она всего лишь старая, больная женщина, которая не может отойти от сцены, потому что хочет, чтобы ее дочка не оказалась у разбитого корыта.
И что — неужели она не заслужила этого? Не заслужила, чтобы ее дочка была пристроена — прикормлена, чтобы у нее было куда пойти, что надеть, кем быть?
Не так уж плохо она и пела. Временами и вовсе хорошо.
Получше многих сейчас. Конечно — не так, как она когда-то.
Драка у гроба стояла перед глазами.
Какая чушь лезет в голову.
Похоронили и забыли. Жизнь, смерть. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы ты был успешным, состоявшимся, чтобы тебе все завидовали, чтобы ты делала то, что хочется, чтобы ты была… была кем-то…
Вот и дочка… Сейчас она певица. А что будет делать, если с ней что-то случится? Ну что?
Руки опять предательски вздрогнули.
На ее место тоже уже стояла очередь. Примадонна.
Мест было мало.
А талантов… А где они таланты?…
Коротенькое платье, как обычно — колокольчиком, сегодня было из белого шифона. Белое немного омолаживало лицо, отбрасывая дополнительный свет и создавая игру бликов, отвлекающую от ничем уже не скрываемых дефектов.
Толстый слой грима затушевывал и заштукатуривал мелкую сеточку характерных морщин, свойственных артистам.
Кожа становилась как древний пергамент. Вялой, блеклой, вислой, как тряпка… половая… От грима, от плотного слоя этого профессионального грима было еще жарче.
На ее место…
Смешно. Место примы. Место главной певицы страны. Место бесспорного и заслуженного таланта.
Да, голоса у нее уже не было. Тот хрип, что раздавался из нее теперь, трудно было даже рядом…
Но все же она пела… она пела еще. Она могла петь.
А главное — петь хотела ее дочь.
Но на все эти места уже стояла очередь.
И люди в ней стояли очень серьезные.
Смешно, она боялась человека, который сейчас выйдет из «Звездного зазеркалья».
Смешно. Но смешно — это когда ты ничего не знаешь. Не знаешь, кто и как стоит за этим Гиршманом.
Когда Разина думала об этом, у нее потели ладони.
Она вытянула руку. Пухлые пальцы дрожали. Старательно наведенный маникюр, длинные ногти лишь усиливали предательское дрожание пальцев.
Страх…
Страх остаться в стороне, если не сделать то, что требуют.
Страх оказаться на обочине канавы, если сделать то, что требуют.
Она давно уже ничего тут не контролировала. Все, что она могла, всем кому могла помочь — она помогла.
Не бесплатно, конечно.
Вот — Лютикова — поет, глупенькая девушка, что ей стукнуло вломиться сюда, на сцену. Дом ломится от всего, — сиди и празднуй. Чего ей тут не хватает?
Да, она, Элла Владимировна Разина взяла ее за ручку и вывела на сцену.
Да, это всего лишь платье, вешалка для новых и модных нарядов, нелепо и безвкусно напяленных на эту богатенькую самочку, так воспылавшую любовью к музыке.
Но …это живые деньги. Эти деньги получала она… Это все пойдет на старость, когда она останется не у дел. Когда уже ничто не способно будет удержать ее тут.
Ее и ее дочку.
А время это уже заглядывало в окно, ползло по крыльцу, принюхивалось к вентиляционным трубам.
Гиршман. Кузен Волкова. А это правительство. Это власть. С которой не поспоришь. А то не сыщешь потом и косточек.
Волков организовал для своего кузена все последнее «Зазеркалье». Целиком. Целая передача, которая должна была открывать новые таланты, — функционировала для раскрутки кузена Волкова.
Правительство. Не последний человек. С какого края? Этот Волков не сегодня — завтра станет совсем не последним. Совсем не последним. Остались считанные месяцы, что будет… что будет…
Гиршман явно претендовал на ее место.
Да. Он был всего лишь кузеном. Он не имел голоса, такого, как был у нее. Был… Когда-то был… Теперь и у нее не было голоса…
Эх, черт возьми, не она ли сама виновата, что тут на этой сцене нет, не оказалось сейчас ни одного реально талантливого, сильного и хорошо стоящего организатора, таланта, музыканта.
Одни свои.
Как оказалось, — чужие…
Как в той новой песне… «Чужой… и фильм совсем не о любви»…
Да, она тоже двигала и проталкивала на сцену своих. Своих старых друзей, знакомых, мужей. Пусть так. Но куда-то им надо было деваться.
Вот как аукалось все это ей.
Теперь ее сталкивали, как гнилой, повисевший плод с трухлявой яблони.
Ей ставили в вину, что сцена опустела, что слушать некого, что нет ни песен, ни музыки…
А что взамен?
Кузен Волкова? Смешно…
Он не имел и голоса… а песни, которые он писал, были похожи на…
Но в «Звездное зазеркалье» Волков устроил не только своего кузена.
Видно, он решил, — раз уж его «зазеркалье» — так его.
Там был его любовник, мальчик, который вообще не умел петь. Не мог. Обман был настолько грандиозен, что даже видавшие виды фанерные обманщики удивились. Содрогнулись.
Канализация.
Мальчик — пел в «зазеркалье» под чужую фанеру. Вот так просто.
Но и этого Волкову показалось мало. Гулять, так гулять. Раз позволено многое — значит, позволено все.
Он решил сделать певицей и юную стриптизершу — мулатку, участвовавшую обычно в его оргиях.
Такой маленький Волков, а столько всего мог напридумывать. Он был большим выдумщиком, хотя и болтал ногами под обеденным столом, не доставая до пола.
Огромная мулатка обычно ходила в кожаном фартуке и время от времени хлестала огромной плетью по девушкам стриптизершам.
Элла закрыла глаза.
Она представила, как Офелия Ванго ходит в блестящем, лаковом фартуке по комнате. Комната огромная. Говорят, у Волкова самая большая квартира…400 квадратных метров… В центре, на роскошной огромной кровати сидит маленький Волков. Рядом лежит белокурый мальчик. Он улыбается своими мягкими губами, заискивающе заглядывая в карие глаза хозяина. Сам Волков смеется. Обнаженные и полуобнаженные девушки танцуют, плавно освобождаясь от одежды. И огромная, как авианосец мулатка, с толстыми, жирными бедрами и широким тазом смачно ударяет хлыстом по полу, или по обнаженным частям «тяней», маленьких и изящных. Они кажутся рядом с ней невероятными статуэтками, карлицами, червячками, немыслимыми в стране великанов.
И Волков — как главный карлик, командует всеми, в том числе и великаншей — Офелией, весело смеясь и хохоча, отдавая распоряжения и переглядываясь с миниатюрным мальчиком-блондином.
Какой он разноплановый, горько усмехнулась Разина. И мальчики, и девочки…
Элла услышала голоса в коридоре. Обуваться не хотелось. Не хотелось застегивать молнию на сапожках, не хотелось наклоняться. Не хотелось двигаться. Слабость разливалась по всему телу…
На ее место шел Гиршман. Уверенно, нагло. А тот великий член, что стоял за его спиной, требовал, чтобы она, она сама вывела его за ручку на сцену, поставила на свое место и еще раскланялась, и расшаркалась в благодарность. Правительство. Да это было реально круто.
Она даже вообразить такого не могла, что вообще возможно такое. На сцену, в полном составе, на телевидение, в «Звездное зазеркалье» засунуть свой собственный бордель.
Куда катится все. Куда катится.
И что она может?
Только пассивно смотреть и с ужасом думать о том, что будет дальше. Не с ней. Уже не с ней. Что будет дальше с дочкой. Ее дочкой.
Эстрада превращалась в простую канализацию. В клоаку. Грязь. Здесь были любовницы, любовники, дети любовниц, какие-то родственники, дальние и левые…
Подрыгаться и покрасоваться хотели все.
Что же это такое.
Концепции, концепции… Элла вдруг вспомнила, как на каком-то интервью у нее спросили… Сейчас-то никто уже не задавал ей вопросов. Никто. Она сама пыталась отвечать, — но никто уже не слушал. Кому она была интересна. Хотя и цеплялась всеми коготками пухленьких ручек. Вот и радио свое сделала.
Концепция современной эстрады. Концепция современной музыки…
Разина улыбнулась, вспомнив, как хохотала тогда этому напыщенному вопросу молодой журналистки.
Концепция…
Да, она понимала, она видела и осознавала, что тут уже давно никто не пел. Голос — это было неважно.
Сцена стала прибежищем картинок — фонограмм. Не больше, не меньше. Сразу, изначально задача была — выучиться петь под фанеру. Раскрывать рот. Вот вопрос. Теперь сюда лезли все. Все, кто мог.
Она ждала приезда из звездного зазеркалья Гиршмана. Сегодня она выведет его за ручку на большую сцену.
Он не первый, да… Трудно было отказываться от живых денег.
Но в этот раз решили ее заменить.
Это четко читалось в нагло усмехающихся глазах члена правительства, того самого Волкова, который еще не стал первым…
Гиршман шел на ее место.
Всем было все равно.
Кому какое дело — кто открывает рот под фанеру — любовник Волкова, или любовник кого-то еще. Бордель в полном составе.
Такое было впервые.
Публика…
Неужели это совсем лохи? Неужели им без разницы, поет человек, или трясет своей использованной попкой? Неужели душа уже стала не видна?
Или сами зрители стали абсолютно бездушными? Смотреть на мальчиков, открывающих рот под чужие фонограммы!
Все-таки пора уходить. Или она не выдержит. И кого-то просто потрясет за грудки.
А всем было все равно. А она, как полная дура, покрывала весь это беспредел.
Беспредел российской сцены.
Она вспомнила, как совсем недавно к ней пришел директор «Звездного зазеркалья».
Юрий Милюта убедительно и долго, потея лицом и ладошками, слащаво говорил о столе и щенках.
Что это была за присказка. Какой-то бред. К чему он ей –то все это говорил?
Про щенков, что отбираются для… чего там он отбирал щенков? Ах да, он рассказал, как отбирают щенков для направляющих в упряжке.
Щенки, ползающие по столу. Кто не свалится — тот и направляющий. Его воспитывают отдельно.
— Интересно — кто в «Звездном зазеркалье» щенок?
Направляющий, конечно, Гиршман. Он всем правил. Его кузен. Одна стриптизерша на двоих. Один на воле пользовался Офелией, другой в «Зазеркалье».
Хорошие направления у нас…
Элла… не будь старухой… занудство все это… ну пусть, пусть…
Что пусть? Щенки на столе.
А что — хороший образ….
Только, кто пустил щенков на стол?
Дерьмо, кругом сплошное дерьмо.
Ммммррразь, — смачно выругалась про себя Элла.
В коридоре все еще громко кто-то разговаривал. Что там такое. И так долго. Она прислушалась. Это был голос Максима.
Она неохотно застегнула молнию на сапогах и вышла.
Палкин стоял перед двумя молодыми женщинами и что-то тихо говорил им. А они громко вопили в ответ.
— Что тут происходит? — Элла сразу признала этих двух женщин.
Уже месяца два они постоянно появлялись рядом с Максимом. Они не пропускали ни одного его концерта, или съемки.
Элла медленно подошла к ним, стараясь двигаться как можно величественнее.
— Вы кто такие, — начала она издалека, хотя вдруг поняла, что зря, совершенно зря она вступила в этот разговор. Ничего она не выиграет, а только потеряет. Прошлого не вернуть и, вот, даже и Палкин, если захочет — уйдет. — Я вас предупреждаю. Чтобы не видела вас рядом с Максимом больше никогда.
Вот это я зря сказала, — сразу пожалела Разина. Что за ерунду я несу. Какое мне дело. Это истерика. Не иначе, это уже истерика. Надо уходить.
Она посмотрела на Палкина. Он стоял, как провинившийся школьник, тихо, не смотря, или старясь не смотреть ни на кого.
О чем я думаю. Что тут решать. Тут не я решаю. Скоро уже и так уйдут меня, Гиршман сейчас приедет, и… сколько мне еще концертов отыграть.
Может, сегодня я в последний раз в качестве художественного руководителя, в последний раз выйду на сцену, В последний раз что-то решаю.
Впрочем, а что я вообще решаю?
— Максим нас не гонит, — ответила одна из поклонниц.
— Это пока, — усилила голос примадонна, показывая на обвисшую фигуру Палкина.
— Фамилию вашу можно узнать? — не нашел ничего лучшего этого вопроса вдруг оживший любовник.
— Максик, ты же знаешь нас, — фанатка смотрела обожающе.
Элла Владимировна теряла терпение.
— Во-первых, не тыкайте, — начала было она.
Но ее тут же прервали. Фанатку тоже понесло.
— Во-первых, не вмешивайтесь.
— Если вы больные, девочки, если вы больные, — примадонна не хотела уступать, но мысленно уже ругала себя на чем свет стоит. С больными не разговаривают. Разве не так. А где найти здоровых, усмехнулась она про себя. И потом, почему Максим с ними тут так долго стоял?
— Мы с консерваторским образованием. Мы музыкальные критики, — достоинство так и выпирало из девушек.
Элла Владимировна попыталась изобразить на лице искреннее презрение. Но мысли были заняты другим, а играть не получалось.
— Да посмотрите на себя в зеркало… пару раз, — махнула рукой примадонна и пошла в комнату с монитором.
— Ты сама на себя посмотри, — пронеслось вслед, но это было уже за пределами добра и зла.
Посмотреть на себя… У кого получается посмотреть на себя со стороны? Элла усмехнулась. Все мы либо переоцениваем себя, либо страдаем комплексами. Или состоим из смеси…
— Как твоя фамилия? — раздалось уже где-то сзади… Максим пытался сохранить лицо…
В гримерке перед монитором стояла Лора Краснельщикова. Жена, друг соратник… Еще одна начальница телевидения.
Элла неприязненно посмотрела на нее. Тоже мне, командирша.
Белый воротничок на черном строгом платье Лоры был главной загадкой ее манеры одевания. То ли это был символ монашества и строгого обета, что при таком муже — гуляке, было несколько неуместно… Хотя… Гулял-то муж. Знала ли она… Должна была знать. Чтобы сидеть таким начальником на голубом экране и быть непорочным…
Почему Краснельщикова из себя строила такую непорочную монашенку — было непонятно…
Хотя…
Может, смысл белого воротничка и черной одежды был в другом? Может, она и вправду вообразила себя наставницей в «Звездном зазеркалье»?
Смешно… Бордель на выезде с монашкой во главе….
Элла сама одевалась однообразно, но наряды с белым воротничком у Краснельщиковой ее убивали. То ли школьница… Тогда все становилось на свои места… наверное, она играла гимназистку в этом борделе… Интересно, Лора в курсе, что в зазеркалье любовница ее мужа…
— Вы привезли Гиршмана?
Странный вопрос. Он бы зашел. Вообще, сегодня какой-то странный день.
Разина села. Она внимательнее посмотрела на бледное лицо Краснельщиковой. Та молчала. Дым от выкуренной сигареты висел в воздухе.
Даже покурить тут успела. И так дышать нечем.
— Гиршман мертв.
Тихие слова повисли вместе с сигаретным дымом. Смысл их еще не обозначился для одной из собеседниц.
Тишина.
— Значит, замены мне не будет, — только и мелькнула мысль у Разиной.
— Он покончил с собой.
Краснельщикова решила продолжить эту тему, хотя вопросов со стороны примадонны не следовало.
Смерть вообще вызывает желание рассказать, как и почему это случилось, как, при каких обстоятельствах, долго ли болел, тяжело ли умирал. Это странное, патологическое желание обычного человека поведать о случившейся с ним рядом смерти всегда умиляло Разину. Умер. Ну, умер и умер. — Мы все, как говорится, там будем. Не сегодня — так завтра. Внезапная смерть — вот все, о чем мечтала лично она.
— Он в джакузи взял и покончил с собой, — почему-то повторила Краснельщикова, словно оправдываясь.
И тут только до примадонны дошло, что в «зазеркалье», где камер больше, чем людей, невозможно умереть незаметно.
— То есть, как покончил с собой? А вы, разве у вас они не под постоянным наблюдением? — басом пробормотала она, хотя задала этот вопрос исключительно, чтобы поддержать упавшую духом Лору.
Осунувшееся лицо той, хотя она всегда выглядела каким-то недокормышем, еще более осунулось. Длинный нос заострился и теперь торчал уж совсем по буратински. Белый воротничок был чем-то закапан.
— Не знаю, сама еще не знаю. Так непохоже на Марка. Он такой жизнелюб.
— Был, — почему-то поправила ее Элла.
— Такой выдумщик, такой заводила, такой жизнелюб, такой…
— Весь в своего кузена, — опять припомнила бордель с мальчиком и мулаткой Разина.
Краснельщикова странно посмотрела на Эллу.
— Что?
— Ничего. Нельзя заполнять эстраду чьими-то левыми дочками.
— Что вы хотите сказать?
— Хороший у вас набор в этот раз. Левая дочка Перестроева, родственник его жены, родственники его самого… Может хоть раз попробовать отбирать по музыкальным способностям? Я уж не говорю о блондинистых мулатах…
— Не вам судить. Сами… разве не вы привели своего друга, который умеет работать только ногами и задом? Разве не вы заполнили эстраду…
— Он один. И это не бордель. Моя дорогая, — примадонну тоже понесло. Наверное, ее заразила фанатка Палкина. Уж чего чего, а связываться с Краснельщиковой явно не стоило. Она уже убрала двоих только за то, что они высказали свое «фа» в сторону мулатки…
— Ну, мы еще посмотрим, — явно не к месту произнесла Краснельщикова, сузив злобно маленькие глазки.
Она хлопнула дверью.
Максим, все еще выяснявший отношениям с двумя фанатками, преградил ей путь.
— Лора Алексеевна. Как там наш Гиршман? Элла уже отошла от скандала?
Лора промчалась мимо него, даже не посмотрев.
Пухлые губы Макса удивленно скривились.
— Максим, ну…
— Погодите- ка, девочки. Надо взглянуть, что происходит.
— Ну ты хоть разреши щелкнуть тебя в этом костюме? Это ведь новый? Да?
Фанатки явно решили получить хоть что-нибудь.
Пара снимков решила дело.
Палкин спокойно шел в гримерку. Он знал, что Элла долго сердиться не умеет. А сейчас и вообще ей было не до того.
Он открыл дверь, заранее изобразив самую очаровательную свою улыбку.
— Элла, дорогая, — только и смог произнести он.
Облокотившись на светящийся голубым светом монитор, истекала кровью примадонна. Белое платье было все в красных разводах, как будто кто-то вытер свои руки об него, как о полотенце, или гаражную тряпку. Шифон обвис мокрыми, странными комками. Лужа была и на каменном полу.
— Что, что, — Максим приподнял Эллу и попытался что-то услышать. Губы Разиной едва шевелились.
— Он…
— Кто он? Что?
— Гиииршмааан… — шепнули на последнем вздохе накрашенные губы великой Эллы….
ГЛАВА 4. ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.