
Бесплатный фрагмент - Август, в который никто не придет
Выходит Бог…
Выходит Бог
На небосвод на голубой,
Выходит Бог —
На поясе трепещут молнии,
Выходит Бог
В мир подопечный — как на бой,
Выходит Бог —
Тревоги за людей исполненный.
Выходит — быть.
На колыбели и гробы
Смотреть вдали
На быстротечное — из вечности,
Слова судьбы
И нити тонкие судьбы
Переплелись
В потрепанном мешке заплечном.
С большим мешком,
В котором спрятаны миры,
И так легка
Его походка по барханам,
Идет пешком,
И за волшебным звоном крыл
Не услыхать
Его тяжелого дыхания.
Ступает в лед,
Которым тронута луна,
По небесам
Висят созвездия заплаканные,
А Бог идет,
И после трех ночей без сна
Бежит спасать
От зла — какую-то галактику.
А впереди
Изгиб галактики — как руль,
Дороги новые
Зовут — манящие и разные,
И лунный диск
Звенит, повязанный на грудь,
И шар земной
Дрожит тихонечко за пазухой.
Летят дождем
Большие звезды на тайгу,
Выходят быть —
И праведные, и неверующие,
А Бог идет,
Решает судьбы на бегу
И нить судьбы
Кому-то обрезает бережно.
Ища тропу,
Он под собой не чует ног,
Дней перечет
Летит пронзительными выстрелами,
Выходит в путь
Неистово уставший Бог
И мир несет
Через вселенные — неистово.
Но на покой
Он никогда не поспешит,
В покой не спустится
И неожиданно не скроется,
Ведь шар земной
За теплой пазухой дрожит
И Млечный Путь
Впотьмах болтается на поясе.
Улета-нец
А это не больно, хочет спросить Мая.
И не спрашивает.
Спрашивать не у кого, никого нет, только обшарпанный коридор больницы, и еще один человек в продавленном кресле, человек, с которого все началось.
А это не страшно, хочет спросить Мая.
И опять не спрашивает, спрашивать опять не у кого. А ей хочется спрашивать, спрашивать, а это что, а это как, а череп сверлить не будут? А то если будут, Мая вперед трусов отсюда убежит, только вы её и видели.
Пустой коридор молчит.
— Мы хотим выступить на внеконкурсе, — говорит Сов.
Председатель вежливо кивает, с пониманием, так же вежливо объясняет, что внекорнкурса в олимпийской программе, к сожалению, не предусмо…
— …значит, будет, — говорит Сов.
И так говорит, что председатель уже понимает — будет, еще как будет, вотпрямщас внеконкурсная программа и будет.
И только когда обговаривают все детали, подмахивают все бумаги, когда уже закрывается за Совом дверь — председатель спохватывается, это что вообще было, какой еще Сов, откуда Сов, почему Сов, так он даже имени его не знает, Сов — потому что глаза желтоватые, и таращит круглые кольца глаз, как сова. А так он по договору… председатель разбирает каракули в договоре, тьфу ты, ё-моё, что творится вообще…
— …а почему внеконкурс?
— Ну, понимаете… — Сову трудно говорить, он вообще со словами не в ладах, — мы использует запрещенные приемы… Не, не, не допинг, не бойтесь, ничего такого… Но тут дело… тут речь в том… ну, что мы покажем человека за пределами человеческих способностей…
— Ваша воспитанница, Мая Цветущая… она же профессионально занимается?
— …да, с младых ногтей, спасибо её родителям…
— Они будут присутствовать на выступлении?
— Они хотели, я отговорил, не надо им это, смотреть, как их ребенка истязать будут…
— Истязать?
— Ну, не истязать… но то, что мы показать хотим, это за гранью… возможностей человеческих… за гранью…
— Мая, а что тебе дядя говорит?
— А дядя не говорит, а он молчит.
— А как же он тогда учит вас?
— А мы так понимаем…
Мая хочет, чтобы мама её вот так спросила, а она чтобы вот так ответила. А мама ничего не спрашивает, мама Маю домой ведет, сердится, мама всегда сердится, Мая не знает, почему.
А дядя вот не такой, дядя вот все понимает, когда Мая хочет, чтобы дядя что-нибудь спросил. Вот например, когда Мая рассказать ему хотела, как она первый раз сюда пришла и заблудилась, и по лестнице побежала, потому что опаздывала куда-то неизвестно куда, и упала, и ушиблась, и больно было, а мама увидела, и не пожалела, а наругала, что Мая сидит и ревет… Вот дядя все понял, он сам Маю спросил, ну как она первый раз сюда пришла, как ей тут было…
А так дядя Маю ничему не учит, Мая — она же умная, она вот пришла, она сама все знает, вот как на манеж пришла, так все и знает, как прыжки прыгать, как танцы танцевать. Дядя только подсказывает, вот ты видишь, что танец к концу движется, вот ты расслабляешься, а расслабляться-то не надо. Вот ты сейчас думаешь, что ты Катьке этой сказала, а думать-то о деле надо… И как знает дядя, что Мая про Катьку думает…
А не могу больше.
Это Мая говорит.
И на дядю с вызовом смотрит. Вот дядя сейчас закричит, как мама кричала, а ты моги…
А дядя не кричит. А дядя говорит, а давай еще шаг.
И — шаг.
А дядя говорит, а давай еще прыг.
И — прыг.
И — еще шаг.
И — еще прыг.
И еще.
И еще.
И Мая раскрывается, разворачивается, спадает какая-то шелуха, распускается в душе что-то бесконечно скрытое от самой души, — Мая, настоящая, какую она сама себя не знала.
Шаг.
Прыг.
Порх.
— А это что за штука у вас?
Охрана волнуется, мало ли что за штуку тут человек на трибуны принес, да какой человек — Сов, Сов и есть…
— А это для трехмерных эффектов.
— А не положено.
И снова Сов смотрит:
— А положено.
И попробуй, возрази. И не возразишь, Сов ведь, Сов.
Мая горит огнем.
Мая уже не Мая, Мая уже — полчища осенних листьев, которые падают вверх, а потом вспыхивают ослепительно ярким пламенем. Мая сгорает, падает горсткой пепла.
Мае не больно.
— Ну… понимаете, надо подчеркнуть личность девушки… самую её суть…
Это Сов.
— Ну, у Маи цветотип осени… странно так, имя весеннее, а цветотип осень… значит, надо ей что-то в опавших листьях, в белом тумане над рекой…
— Это хорошо все, только вот не все осень-то любят… надо что-то такое, чтобы у всех душа откликнулась, общее что-то…
— Что общее?
— Ну, не знаю даже… огня, что ли, добавить…
— Листья в огне? Слушайте, а здорово будет… листья падают и сгорают…
Танец листьев.
Шаг.
Танец осени.
Шаг.
Танец огня.
Прыг.
Седой туман.
Скок.
Трава, подернутая инеем.
Порх.
Черные силуэты деревьев бесконечно далеко, то ли есть, то ли нет.
Взлет.
Память об уходящем лете.
Порх.
Предвестие зимы.
Порх.
Эти вот памяти и предвестия уже никакой проектор и никакой танец не передаст, это уже Сов старается, смотрит на зрителей, глазами желтыми смотрит, чтобы чувствовали, да нет, — чтобы растворились в памяти о лете, в предвестии далекой зимы…
Толпа восторженно ахает, когда Мая взмахивает лиственными крыльями, раз, два, три, пять минут, десять, двадцать…
…не опускается — почти падает в изнеможении, взмывают в воздух в последний раз осенние листья, выпархивают на сцену еще две девушки, кто-то хлопочет — нельзя, нельзя, танец сольный, кого-то одергивают — надо, надо, она же сама уже на ногах не держится, они её подхватят, вот так, красиво, бережно, девушки в белых зимних одеяниях, с рожками из голых торчащих веток, с голубовато-белыми крыльями, под легкое дыхание зимнего ветра, чуть слышный шорох еще не метели, а первого снегопада.
А зрители ничего не поняли.
Вот это обидно, что зрители толком и не поняли ничего.
Ну да, где им.
Это же надо в этом спорте крутиться, чтобы тонкости такие знать, что абсолютный рекорд — пять минут сорок две секунды в воздухе, но уж никак не двадцать в таком вот сложном летящем танце, ладно, девятнадцать минут сорок восемь секунд, там еще доли секунды…
— …да нет, это она все… это всё её… её заслуга полностью, вы думаете, я бы так каждого… нет, я бы так не каждого, я бы так не каждого, вот если простого человека брать, который всю жизнь там за конторкой сидел, а его на сцену, вот я так бы его не смог… я только это, то, что в ней было… раскрыл… что было… что само было, только раскрыть надо, барьеры снять… чтобы забыла, что это невозможно…
Мая лежит за кулисами в гримерке, Яна и Дека снимают листья с маиных крыльев, — крылья дрожат, пульсирует каждая перепонка, испещренная раздувшимися сосудами, бешено грохочет в висках кровь, горячая-горячая…
Люди выходят на улицу, со слезами на глазах, все еще в памяти ослепительно яркие чувства, листья, летящие вверх, пылающий полет осени, память об умершем лете, предчувствие колючей зимы с черными рожками, а сейчас — летящий танец в легком тумане, полет в никуда, в куда-то никуда, где все будет совсем по-другому…
— …ну, знаете, летанцы, это вообще спорт жесткий, очень жесткий, там из тысячи человек один останется, и то неизвестно, что там с этим одним будет. Вот так вот детей тащат в летанцы, ах, у них крылья, ах, они летать рождены — да вы хоть понимаете, что крылья-то сами по себе ничего не значат, вот приводят какую-нибудь девочку поперек себя шире, крылышки малехонькие — и чего мы с ней делать должны? Ну и даже если у девочки крылья большие, это еще ничего не значит, это уметь надо пользоваться, а не каждому дано, тут бывает, сколько ни бейся, все равно бестолочь будет…
— Да нет, нет, быть этого не может…
— Ну как не может, мы же видим!
— Да это он нас обманывает!
Зрители смотрят, не верят, не понимают, не может быть, чтобы вот так —
— на сцене зажигается свет, шаг, прыг, взмах, взлет — и бесконечное парение, бесконечное кружение, танец в воздухе, мечутся огненно-лиственные крылья…
— …скажите… Мы понимаем, что вы воздействовали на зрителей, вы заставили их увидеть то, чего не было… Но насколько же все-таки поднялась в воздух Мая?
— Ни насколько.
— Простите…?
— Ни насколько.
— Значит, она…
— …её там не было.
— Не было?
— Не было.
— Но…
— …а мне и не нужно, чтобы она была…
— Что вы имеете в виду?
— Я же помню её… каждое движение… каждое… движение… движение… каждое…
— И передаете зрителям её образ в памяти?
— Вот даже не её образ… а… ну вот… как я её вижу… как я хочу, чтобы какая она была…
Сову трудно говорить, Сову проще думать, а говорить, это Сову трудно.
— А… а я что?
Это Мая спрашивает.
А Сов ничего.
А Сов молчит.
Ну не скажет же он вот так, в лоб, что Мая-то больше не…
А почему нельзя, спрашивает Мая.
Не понимает.
Почему через год — нельзя.
Вот в этом году можно. И в прошлом можно.
А через год — нельзя.
Мая не понимает.
Мае не говорят.
Потому что про такие вещи не говорят, про это сами знают… ну, откуда… ну, ниоткуда… ну, знают….
— Почему? Почему вы мне не сказали?
Это Мая кричит. На маму. На Сова. На всех, на всех, на всех.
Сов смотрит. На Маю смотрит. Чтобы ей не больно было, что сначала ничего не сказали, а теперь вот так…
…крылья отмирают обычно к восемнадцати годам — в последнее время этот срок сократился до шестнадцати лет. У профессиональных спортсменов, вопреки расхожему мнению, крылья истощаются и отмирают намного быстрее…
— …на финале она с Декой соревноваться будет.
Это не Сов говорит.
— Танец холода и огня.
Это Сов говорит.
— Да… и кто-то один победит, кто-то другой упадет, разобьется насмерть…
Это не Сов.
— А… кто?
— А вот это мы посмотрим…
Сов понимает.
Последний танец.
Там, где не на жизнь, а на смерть.
А охрана не понимает.
Хочет спросить, но не спрашивает.
Почему на этот раз не будет проектора, который с эффектами.
А потому что, говорит Сов.
Сов уже так может, без проектора, у Сова хорошо получается, что зрители сами все видят, и листья, летящие вверх, и седая предрассветная дымка, и огненно-красное пламя уходящего лета (это Мая), и голубоватые всполохи холода, белой зимы (это Дека), и переплетение тончайших ветвей, и легки туман, в который неуловимо превращаются танцовщицы (иллюзия? Иллюзия!), и взлет — выше, выше, выше, причудливое кружение…
…общественность в который раз выражает обеспокоенность устоявшейся традицией позволять летанцорам умирать на сцене — многие люди считают это варварским пережитком прошлого. Есть организации, готовые пойти на уступки и позволить летанцорам тихо умереть за кулисами, но большинство организаторов все-таки остаются верны древним традициям, и последний летанец кончается тем, что спортсмен поднимается выше всех и падает, потому что уже нет сил держаться в воздухе…
Шаг.
Прыг.
Вспорх.
Взлет.
Зал замирает…
Мая взмахивает крыльями — в последний раз…
…плавно опускается на сцену, отступает, уступает зиме, сворачивает огненные крылья, догорает, рассыпается горсткой пепла.
— Вы… вы с ума сошли, я вам за что плачу вообще, а?
Это не Сов.
— А что такое?
А это Сов.
— Какого… какого черта…
— Она будет жить.
— Жить? Слушайте, вы совсем уже или как? Вы хоть думайте вообще, её что ждет в этой жизни, а? Крылья отсохнут, и дальше что? Из окна шагнет, уже без крыльев? Или лет через двадцать будет сидеть дома на кухне поперек себя шире? Или сопьется через пару лет? Вы хоть сами думаете, куда ей, она же больше не умеет ничего, или кассиром будет, здравствуйте, пакетик нужен?
Это не Сов.
А Сов вот:
— Она будет жить.
…видел её в толпе, даже не понял, она, не она, еще бы, через столько лет, вся какая-то потрепанная, и без крыльев, ну, это само собой, без крыльев, а потом растворилась в куче народу, и так и не понял, она, не она…
— …все… все хорошо…
…вот это важно, говорить, что все хорошо, вымученно улыбаться, — только бы не потерять сознание, а то сегодня же вечером посыплются новостные заголовки, величайший тренер…
(…да какой, к черту, тренер, когда уже давным-давно тренера и близко нет, только мозги людям пудрит…)
…потерял сознание после представле…
…а то и вовсе —
…умер после представления, на котором показывал свою новую уникальную…
…да то-то и оно, что не новую и не уникальную, а самую что ни на есть старую программу, простенькую, где умирающее пламя осени, незамысловатый танец, и Мая какая-то… немайская…
— Вы с этим завязывайте давайте…
Это не Сов.
— А жить тогда зачем?
А это Сов.
— Ну… живут же как-то…
Сов фыркает.
— Как-то…
— Ну, мое дело вас предупредить, а дальше уже вам решать, как тут…
А это не больно, хочет спросить Сов.
Не спрашивает.
Нельзя здесь такое спрашивать, потому что… ну… потому что нельзя, потому что Сов большой, Сов сильный, Сов умный, у Сова глаза желтые, и сверкают, Сов не должен бояться и спрашивать, —
— А это не больно?
И будут ли череп вскрывать, или так, по-другому как-то — это тоже спрашивать нельзя.
А вот что можно:
Sov: Мне еще понадобится сама Мая.
…печатает сообщение…
Сов ждет.
Mozgolov: Зачем вам нужна Мая?
Сов пытается объяснить, зачем, и правда, зачем, ведь Сов помнит Маю, как сейчас помнит, хотя уже сколько лет прошло, да каких лет, это же в нулевых еще было, а сейчас… ё-моё, тридцать пятый год, время, что ты делаешь, прекрати…
Мне нужна Мая, — повторяет Сов.
Mozgolov: Вы можете найти Маю? — спрашивают там, те, которые могут… могут что… Сов даже объяснить толком не может, что они могут, только что дело Сова не умрет, только что во пройдут десятки лет, и не будет никакого Сова, и Маи не будет (или уже нет?) — но останется летящий танец, шаг, прыг, взмах, взлет, листья, летящие вверх, робкий туман, воспоминание об умершем лете…
…номер, набранный вами, не существует…
…ну еще бы он существовал, думает Сов, еще бы он через столько лет существовал, уже нет никакого номера, и той, которая была по ту сторону этого номера, тоже нет. Или выйти на улицу, где развилка возле метро, где Сов случайно заметил её в толпе прохожих, а может, это была не она, а может, это был не Сов, а может…
Сов не хочет думать про Маю.
Не хочет.
Потому что…
Потому что — потому что, потому что это когда еле-еле умеешь летать, вот тогда отпадут крылья лет в шестнадцать, а то и раньше, и все реже и реже будешь спохватываться, что уже не вспорхнешь, не полетишь, как горько и забавно смотреть на молодежь, как они подпрыгивают, вскидываются в воздух, неуклюже падают, вспоминают, что уже все, все, все, уже взрослая жизнь, экзамены какие-то, работа какая-то с девяти до шести, гипермаркет по выходным, детей дергают за руку, не летай, не летай, ногами ходи, детская комната при магазине, где порхать можно…
А если по-настоящему крылья, когда всю жизнь — для крыльев, потом без крыльев уже не жизнь, потом только последний летанец, после которого только вниз, навзничь, насмерть.
Длинный больничный коридор.
Сов ждет.
Выходит женщина в белом, а здравствуйте, а пойдемте со мной, а все готово. Сов не хочет — пойдемте, Сов хочет, чтобы Мая, Маи нет, это неправильно, что Маи нет, и вообще…
— …Мая?
Сов не понимает, Сов смотрит на женщину в белом, это же Мозголов должен быть, Мозголов, с которым переписывались, который…
Сов хочет спросить у Маи, а что, Мая правда Мозголов, или неправда, — и не спрашивает. Сов много что хочет спросить у Маи, как она, где она, что она, — не спрашивает, потому что… потому что это Сов во всем виноват, непонятно, в чем — но виноват, потому что…
А это не больно, хочет спросить Мая.
И не спрашивает.
Спрашивать не у кого, никого нет, только обшарпанный коридор больницы, и Мая не знает, больно будет, или не больно, потому что на себе она этого никогда не делала, никогда-никогда-никогда.
А это не страшно, хочет спросить Мая.
И опять не спрашивает, спрашивать опять не у кого. А ей хочется спрашивать, спрашивать, а это что, а это как, а череп сверлить не будут, потому что они же (они, все, во главе с Маей) они же до последнего решить не могли, как надо, сверлить, или не сверлить, или еще как, говорила им Мая, что от сверления ничего хорошего не будет, только если не сверлить, тоже ничего хорошего не будет, так и непонятно до конца, как оно должно быть…
Пустой коридор молчит.
Лицо закрывают чем-то темным, так надо, Мая рядом, так тоже надо, Мая знает, что и как делать.
Сов спохватывается, он же должен слышать Маю, слушать Маю, прочувствовать Маю до последнего чувства, до последней самой крохотной мыслишечки, все тайны, потаенные страхи, безумные мечты, все, все, все…
Сов слушает.
Не понимает.
Нет, это не Мая, не может Мая быть такой, тут нейронные сети какие-то, погрешности какие-то, нейронные связи какие-то, архитектоника какая-то, плюс-минус ноль, запятая, и еще много каких-то цифр, это не Мая, это… или нет… какие-то слезы, истерики, я не могу, не могу, не могу, не понимаю, не получается, все бросить, не моё, не моё, не моё, ну почему я такая тупая, почему все могут, а я нет, и хочется все, и сразу, и вотпрямщас чтобы понятно было, а вотпрямщас не бывает, это еще Сов говорил, то есть, ничего он не говорил, он думал только, думал, и Мая сама понимала, что он думает, Сов. Сов, потому что глаза совиные, поэтому Сов, у него еще какое-то имя есть, только Мая не знает, а знает, что Сов. Сову тогда понравилось, когда Мая первый раз так подумала — Сов, так он и стал — Сов.
Все-таки Мая, думает Сов.
Мая уже и сама понимает, что она — Мая, сколько лет она не вспоминала, что она — Мая, а тут вспомнила — Мая, а тут вспомнила, удачно вспомнила, когда опять, опять расслабилась глупая Мая, думала, что уже все-все сделали, и сейчас все хорошо будет, а сейчас-то все только начинается, самое сложное начинается, когда кажется, что уже все.
Потому что нечего записывать, какие еще сововы воспоминания, нет никаких воспоминаний, потому что нет той Маи, а ему надо прочувствовать Маю, ту Маю, которая когда-то, которая бежала по ступенькам куда-то в никуда, заблудилась где-то нигде, и ушиблась, и больно так, больно, и страшно, что мамы нет, что одна, а мама увидела, заругала… а потом Сов был, а потом он говорил… ничего не говорил, а Мая как будто сама все знала, шаг, шаг, прыг, порх, взлет…
…вертится мелодия в тумане осени, в хороводе сияющих листьев, выше, выше, только бы не оступиться, только бы удержаться в пустоте так долго, так бесконечно долго, как еще никто, махать, махать крыльями, которыми уже не машется, держаться в воздухе, парить, когда кажется, что сейчас упадешь, не бояться, что упадешь, не бояться, безумная пляска полыхающего листопада, шаг, взмах, вспорх…
…все.
Люди в белом восторженно смотрят на навеки запечатленный танец, один и тот же, и в то же время каждый раз новый, пробирающий до самой глубины души в шорохе пылающих листьев, в последних шагах уходящего лета, в первом вздохе зимы где-то там впереди…
Люди в белом вывозят две каталки, накрытые белыми простынями, в лифт, вниз, в голубоватую ледяную зимнюю пустоту…

Дом Деневич и Лес Лунович
А Домка-то чего виде-е-е-ел…
О-о-о-й, чего видел Домка, ой чего ви-и-иде-е-ел!
Прям, ух, ты, чего видел.
Прям, ой-ой-ой.
Тут бы слова какие порезче вставить, только Домка не знает слова порезче, не принято у них.
А Домка видел…
И вот никому и не расскажешь, вот что обидно-то, ничегошеньки-ничего никомушеньки-никому не расскажешь, потому что нечего было Домке по ночам на берегу шариться, по ночам по кроваткам надо спать, и месяц по небу плывет, проверяет, все в кроватках, или нет. А Домка что выдумал, штору задернул, чтобы не видно было, в кроватке Домка, или нет, и из дома потихохоньку выбрался, и на речку…
А там на берегу такое…
Ух ты…
Прям, ой-ой-ой…
А на том берегу что было..
Домка…
…а?
Ну да, Домка, ну а что, имя такое, Дом, Дом Деневич, хорошо получилось, а пока ему еще только двенадцать стукнуло — Домка.
Так вот Домка видел.
Там.
По ту сторону речки…
И ведь не расскажешь никому, потому что…
— …ты чё, дурак, что ли?
Это сеструха скажет.
— Ты че, дурак, что ли?
Это мамка скажет.
— Ты че, дурак, что ли?
Это папка скажет, папка вообще серьезный, он в какой-то конторе серьезной работает, рано-рано уходит, и возвращается, когда уже поужинали все.
— Ты че, дурак, что ли?
И Леська так ска… нет, Леська так не скажет, вот Леська-то так не скажет, Леська-то не такой, он-то скажет:
— Ух ты!
И вся семья леськина скажет:
— Ух ты!
Леська, это не Леся, это Лес, Лес Лунович, вот имя-то крутое, папка у него Лун, а маму зовут Ночь. Вот с ними интересно, и дома у них круто вообще.
Потому что у них поющие сказки.
Папка вот у Домки поющие сказки терпеть не может, так и сказал, чтобы в доме и близко ничего такого не было. И мама тоже так сказала. И сеструха так сказала, дурища поганая, кто вообще сеструх выдумал, не было бы никаких сеструх, вот здорово-то было бы. Домка вот пару раз сказки ловил и тайком протаскивал, только папка как потерпевший орал, чтобы сию минуту назад отнес, а то ухи пообрываю вместе с башкой.
А у Леськи не так.
У них дома сказки.
На диване сказки, на кровати сказки, на столе сказки, под столом сказки, сидят, когтями скребут, фыркают, крылья поправляют, а то и на люстру — хоп! — и люстра — дз-зы-н-н-ь! — в чан с кукушаньем, а леськины все смеются только.
Любят тут сказки.
Сказки-то, они же непростые, они же поющие, ну да где вы простые сказки-то видели…
Вот собрались у Леськи вечером, за столом у камина, и чан с кукушаньем, и сказки вокруг сидят, попрошайничают, что им перепадет.
Вот тут Домка-то и сказал…
Что он видел-то…
Ой, что видел…
Ух, ты…
Там, короче, это…
Там, на реке…
Там, короче, мертвые сказки… да нет, не валялись, а их эти несли, ну, которые сказки убивают и уносят куда-то, продают втридорога, по столько-то за тушку, столько-то за шкурку. Большие люди, взрослые, пацаненок еще там маленький был в куртешке красной был, тоже тушки сказок таскал…
Леська слушает.
И семья леськина слушает.
Классная у Леськи семья, не то, что у Домки, там-то все скуу-учные, папка вечно в работе весь, и мама вся в работе, только зудит уроки-уроки-уроки, и сеструха, дурища, если бы Домка правителем стал, он бы вообще сеструх запретил под страхом смертной казни…
А у Леськи не-ет…
Все слушают, охают, ахают, да ты что, да неужели, да совсем эти браконьеры с дуба охренели, с луны спятили, сказки убивать. И сидят за столом, кукушанье едят, и сказок гладят, много-много сказок, вот здорово-то.
А потом говорят — а пойдемте.
Да, сегодня ночью.
Вот так сегодня ночью на берег и пойдемте, и посмотрим все, как оно там.
И Домка прямо-таки из штанов выпрыгивает, вот здорово-то, прям-таки здоровски здорово, вот оно как, на всю ночь, на берег реки, чтобы только черный лес, и плеск воды, и звезды, большие, колючие, тяжелые, висят гроздьями, их можно срывать и есть, прямо с неба.
Домой, конечно, Домка поз… не-е, Домке домой позвонила мама Леськина, суперская такая мама, она все сказала, а вы не переживайте, а Домочка ваш у Лесеньки моего побудет, да нет, вы не беспокойтесь даже, у меня и мысли нет их на улицу выпустить, да какая речка, дома сидеть будут, у очага, слушать треск поленьев, слушать сказки…
…ой, зря мамка Леськина про сказки ляпнула, не любит папка Домкин, когда про сказки ляпают.
Ну и мама тут же что-то добавляет, ну вот, у нас окно приоткрыто, а там ветки, а на ветках сказки…
…а потом на речку пошли.
Все.
Удочки с собой взяли, сказки ловить, и бинокли с собой взяли, на тот берег смотреть.
Ночь потрескивает, почирикивает.
Сосны шумят.
Звезды звенят, свешиваются низко-низко.
Шепчет черная гладь реки.
А на том берегу — ничего.
Тянется ночь, плывут звезды, машут плавниками.
Проклевывается рассвет, разбивает острым клювиком темноту неба, расправляет неумелые крылышки.
А никого нет.
Никого.
А здорово мы их спугнули, говорит Леськин папка.
А здорово, говорит мама.
И Леська говорит, а здорово…
А Домке дома попало.
Что дома не ночевал.
Не-ет, это не тогда, когда тайком все на речку ходили, а через неделю, когда Домка сам тайком на речку ходил, и такое увидел…
Ух ты…
Ай-яй-яй…
…опять их увидел, двое больших, и пацаненок в куртешке красной, опять они мертвые сказки в лодку таскали, сбрасывали, тушки отдельно, шкурки отдельно, потом отчалили, поплыли куда-то к городу, где шкурки продать можно, и тушки тоже, и до чего наглые, уже прямо в лодке тушки коптят, дух идет такой, сказковый, дразнящий, тут бы слюнки потекли, если бы не знал, что за диво они там убили и коптят…
А Домка…
…а что Домка?
А что один Домка сделает, куда он один против целой банды-то, да никуда. Разве что камнем в них запулить, да каким камнем, каким камнем, в Домку в самого потом так запулят, что вообще мало не покажется…
Вот и попало дома Домке.
Крепко попало.
Ну, тут Домка не выдержал, тут-то и сказал все, как есть, все сказал, что там ух ты, что было, что там ай-яй-яй…
Тут-то Домке и попало, так попало, как раньше никогда не попадало, а тут нате вам… Ух, папка вопил, и думать не смей, и подходить по ночам к реке не смей, и вообще…
Обидно Домке.
До слез вообще обидно, до слез, это ж надо же так, он же как лучше хотел, он же старался сказки спасти, а тут нате вам.
Это папка потому что злой, и потому что скучный, делает какую-то свою скучную работу, а на Домку наплевать ему, и на сказки — самое главное, на сказки — наплевать.
То ли дело Леська…
Домка вечера ждет, Домка терпеливо дома выслушивает, аа-а-а-а, неделю из дома не вы-ы-ы-йдешь, а-а-а-а, да если еще узна-а-а-а-ю, что ты-ы-ы-ы-ы…
…а ничего.
Как стемнеет, как все в кроватки лягут, и месяц над окном пройдет, посмотрит, все ли спят — вот тут-то Домка осторожно окно откроет, и по веткам дерева спустится, и к дому леськиному поспешит. Через заброшенный сад, через калитку, через аллею, чуть подсвеченную фонарями, хорошие в этом году фонари выросли, хочется сорвать, с хрустом надкусить, только некогда, некогда, спешить надо, к Леськиному дому, дернуть колокольчик, — колокольчик рвется с поводка, заливается лаем…
И Леська выскакивает.
И мама леськина выскакивает.
И папа леськин выскакивает.
И Домка рассказывает, что ух ты, ай-яй-яй…
И все сразу засуетились, заахали, заохали, Леська куртешку свою красную набросил, и все к речке пошли, тихохонько пошли, не спугнуть…
А Домка не унимается, шепотом рассказывает, вот ужас-то, ужасный ужас, кошмар кошмарный, Домка же папке все рассказал, а папка Домку наругал, чтобы тот к речке не хаживал…
И Леська подхватывает, вот ужас-то, ужасный ужас, кошмар кошмарный.
И мама леськина подхватывает, вот ужас-то, ужасный ужас, кошмар кошмарный.
И папа леськин подхватывает, вот ужас-то, ужасный ужас, кошмар кошмарный.
И к речке пришли, по шаткому мостику бережно перебрались, а на том берегу глянь — лодочка стоит, та самая, и сказки по клеткам рассажены…
Домка в ладоши хлопает, вот, вот и здорово, давайте-давайте освободим их скорее, вот хорошо-то будет.
А папка Леськин мушкет достает, и к голове домкиной приставляет, пиф-паф-ой-ой-ой.
А мама леськина уже готовится клетки открывать, сказкам шеи сворачи…
— …не сметь!
А это папа домкин.
И мушкет к голове папе леськиного приставляет.
И за папой домикиным весь его отряд полицейский выходит, и мушкеты направляет:
— Не сметь!
И — всем лежать, руки за спину, и клетки открывают, сказки выпускают.
Тут-то Домка и спохватился, захлопотал, ы-ы-ы-ы, а-а-а-а-а-а, а можно мне одну сказку, ну хоть самую маленькую сказочку, ну самую-самую маленькую сказкеночку, ну пожа-а-а-луйста…
Тут уже папка всполошился, крыльями захлопал, да ты хоть понимаешь, дурище, что не живут сказки в доме, не живут, мрут они в доме, мрут, сказка — она сказка вольная, ей в лесу летать надобно, песни петь! Ишь, напридумывали, сказки им в дом… вот из-за таких-то дурищ потом продают эти сказки по клеткам, за деньги за бешеные… О-о-ох, ну сам я виноват, сам, сына запустил, вот он и творит черт-те-что…
А вечером сказки прилетели.
На дерево под окном.
Много их, и большие, и маленькие, и желтые, и синие, и красные, и золотые, и хрустальные, и всякие. Сидят, поют, свиристят, радуются.
А дома все за столом собираются.
Сеструха, дурища, сказкам раненные крылья бинтует, которые браконьеры подбили. Сеструха здорово бинтовать умеет, зря, что ли, медсестра.
И все у очага собрались.
И кукушанье едят.
И сказки на деревьях поют.
И хорошо.
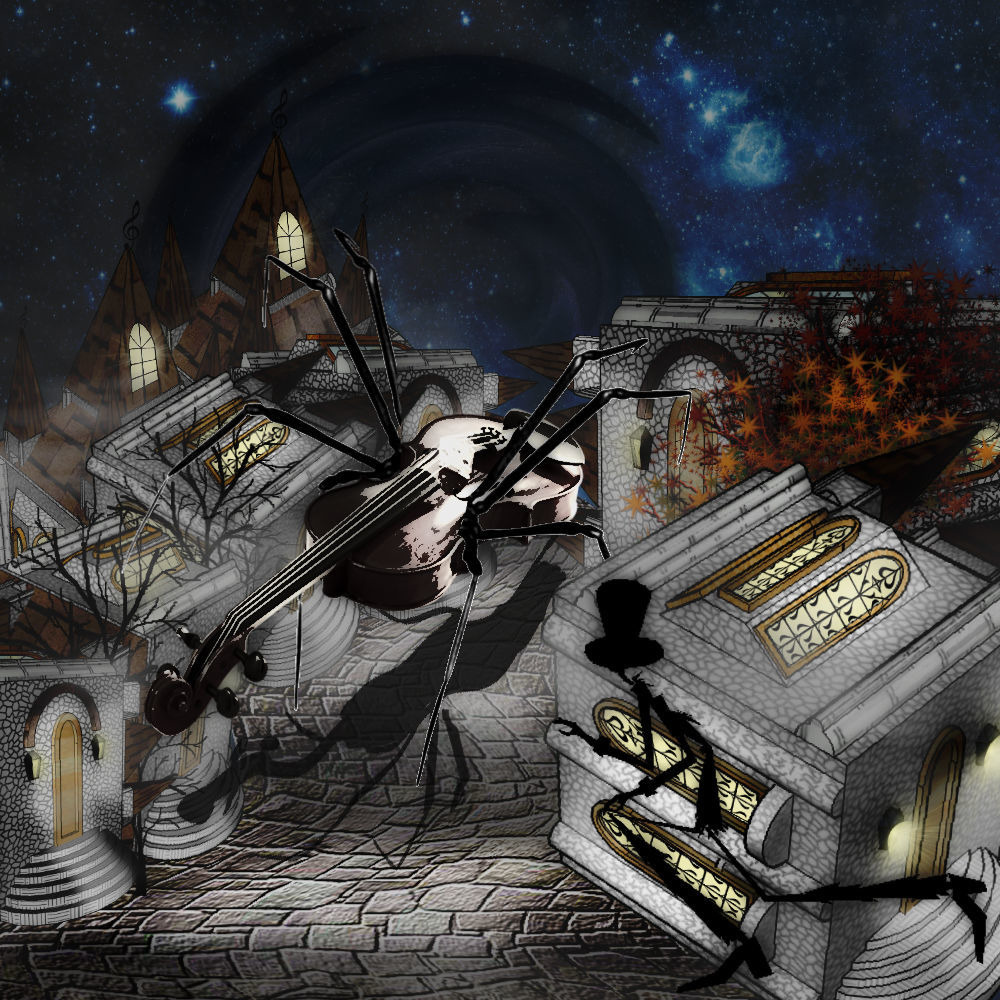
Нехорошие сны
Нехорошие сны
Никому, никому не нужны,
Нехорошие сны,
От которых не сыщешь ты места,
Но кому-то должны
Приходить эти вещие сны,
Но кому-то должны
Приходить эти темные вести.
От луны до луны
От порога их гоним сурово,
Прогоняем печали,
Что мешают цветам и мечтам,
Но кому-то должны
Эти вестники темных миров
Приносить по ночам
Беспощадной судьбы начертания.
Свечи-ладанки кружим,
Дескать, знакам печальным — не верьте,
И из ночи наружу
Мы выходим — улыбку размазывая,
Но кому-то же нужно
Предсказывать близкую смерть,
И кому-то же нужно
С дорогими — разлуку предсказывать.
Ни лихие года,
Ни разлуки — увы, не нужны,
Безмятежный не станет
По ночам ворошить суеверия,
По большим городам
Ходим мы — нехорошие сны
И с плохими вестями
Стучимся в закрытые двери.
Мы бледнеем, худеем
И теряем мы перья-печали,
При вечерней звезде
Подлетаем к каминам-свечам,
И все больше людей
Смотрит светлые сны по ночам
И все меньше людей
По ночам выбирает печали.
А спокойные люди
Дни грядущие знать не хотят,
От уютных домов
Гонят сны — несвятые, неладные,
Бросят крестик на грудь,
Окна-двери закроют шутя
На амбарный замок,
И повесят над окнами ладанку.
От ворот до ворот
Провожает нас молча луна,
Неприютные, бедные
От постели к постели кочуем
Снова ищем кого-то,
Кто захочет всю правду узнать,
И грядущие беды
В темных снах беспокойных почуять.
От луны до луны
Ходим мы — от страны до страны,
От весны до весны
Горько тешим свое одиночество,
Ведь кому-то нужны
Нехорошие вещие сны,
И кому-то нужны
Нехорошие наши пророчества.
Человек без тайны
— …Вы понимаете… что это просто неприлично?
Пол уходит из-под ног. А на что, собственно говоря, я надеялся, когда сюда пришел. Ну, хотя бы… хотя бы там — мы рассмотрим вашу заявку, или там — мы вам перезвоним, даром, что телефоны у нас еще не изобрели…
А тут — вот так — в лоб — сразу:
— Вы хоть понимаете… что это неприлично уже?
— Ну… — мысленно хлопаю себя по затылку, ну неужели не мог ничего поумнее сказать, ну там, хотя бы, а что вы против меня имеете, или там — почему вы считаете это неприличным, — а тут нате вам, ничего кроме му да ну сказать не могу, еще с самого детства, училка начнет прикапываться, почему тетрадь забыл, а ты в следующий раз себя забудь, и я вместо того, чтобы — да со всем моим превеликим удовольствием забуду — вот так вот стою, мычу что-то, только колокольчик на меня повесить и в коровник пустить…
Констебль смотрит на меня. Пристально.
— Кого вы убили?
Меня передергивает.
— Да никого я не убивал, я…
— Ну, хотя бы признайтесь, скольких человек…
— …да нискольких, говорю же вам…
Снова смотрит, снова пристально:
— Что вы украли?
Чувствую, что краснею, какого черта я краснею, я же не крал ничего…
— …да ничего я не крал…
— Что. Вы. Украли.
— Ничего, — отчаянно пытаюсь вспомнить хоть что-то, какие-нибудь яблоки у соседей, да ничего подобного, отродясь на дух не переносил яблоки эти, все крыльями хлопают, ах, витамины, ах, полезно, а меня с одного запаха воротит…
— Может… жизнь кому-то разрушили?
— Да… как-то так больше мне жизнь рушили… все, кому не лень…
Констебль оживляется:
— Вы… мстили?
— Да ну вас, делать мне больше нечего, мстить… если всем и каждому мстить буду, так это проще сразу весь город взорвать… и весь остров вообще…
— Так-так-так… — констебль оживляется, — значит… хотите взорвать остров?
— Боже упаси, что вы, в самом деле…
— Но вы же сами сказали — весь остров вообще взорвать!
— Да то-то и сказал, что я это делать-то не буду ни за что в жизни вообще!
— Но вы же сами…
Понимаю, что уже не отвертеться, что чем больше буду с пеной у рта доказывать, что ничего такого и в мыслях не было, тем больше будут думать, что было, еще как было…
Хватаюсь за соломинку:
— Тогда… тогда это будет уже не тайна…
Констебль вздрагивает, смотрит на меня, расстреливает взглядом:
— А тайна у вас какая? Тянем, тянем черта за хвост, и все без толку…
— Ну… э… — мысленно добавляю, ты еще «му» скажи, ну скажи «му», — ну а почему что-то плохое должно быть? Может… может, там тайно влюблен в кого, или мечта какая… невозможная… несбыточная…
Презрительный смешок:
— Мы мечтами и влюбленностями не занимаемся, колышек вы наш квадратный в круглой дыре… Вы хоть вообще отдаете себе отчет, чем полиция занята?
— Преступлениями…
— Совершенно верно! Преступлениями! Так и дайте нам преступление, убийство, грабеж, разбой, присвоение чужого наследства, козни, интриги, безумные планы по уничтожению мира в конце концов!
Хватаюсь за соломинку:
— Я думал, для полиции это не так важно…
— Друг мой, это важно для всех, понимаете, для всех! Как вы думаете, для чего вообще живет человек?
Понимаю, что ответа — жить, чтобы жить, — от меня не ждут.
— Тайны, друг мой, тайны! Скелеты в шкафах, мыши под крышей, игрушки в избушке, гномики в домике, тайны, тайны, тайны! Вон, посмотрите на улицу!
Смотрю, — осторожно, как будто улица может меня укусить.
— Ничего не замечаете?
— Дома… пешеходы… экипажи…
— Дома! Что вы заметили в домах?
— Ну… свет горит… а там не горит…
— Вот именно, друг мой, вот именно! И как вы думаете, почему есть дома, в которых никогда не зажигается свет?
— Никто не живет?
— Ошибаетесь! Живут, и еще как живут!
— Но…
— …тайны! Друг мой! Там живут тайны! Люди умерли, дом опустел… а тайны остались, тайны, как величайшее сокровище… город, наполненный тайнами… А вы хотите прожить свою жизнь впустую? Спустить все семьдесят лет псу под хвост?
— Но…
(му, еще скажи — му…)
— Я вынужден арестовать вас.
— Но…
— …а как вы хотели, а? Думали и дальше жить, ничего не делая, да…
— …господин констебль…
Поворачиваюсь к вошедшему, желторотый юнец, смотрит на меня с подобострастным восхищением.
— Слушаю вас.
— Я нашел тайну умершей графини…
— Отлично. Позаботьтесь, чтобы тайна получила поместье графини и что там полагается в наследство…
…говорю, сам себя одергиваю, сейчас окажется, что никакого поместья у графини отродясь не было, а по завещанию все отходит племяннику, в том числе, и тайна…
— Будет исполнено. А…
— …что такое?
— А этот… который вчера приходил…
— …мне жаль, но пришлось его казнить.
— Ничего себе… вы меня пером с ног сбили…
Приказываю себе запомнить, сбить с ног пером, хорошая фраза…
— Позовите людей, пусть уберут тело из подвала…
Поправляю униформу, получилась широковата в плечах, ну да, констебль был помясистее меня, держу пари, сейчас каждый второй, если не каждый первый будет мне сочувственно говорить, что-то вы исхудали сильно, болеете, что ли…
Юнец ускользает за дверь — моя тайна только того и ждет, соскакивает со шкафа, потягивается, забирается мне на плечо. Почему мне кажется, что у тайны глаза убитого, ведь ничего подобного, ничего похожего, желтые звериные глаза с узкими зрачками..

Плывущий вдоль ночи
…проще сделать вид, что ничего не замышляю, проще самому себе сказать, что ничего не замышляю, и все будет, как всегда, и я устроюсь в челноке, который ударит в весла, вместе со всеми, которые улягутся в челноках и ударят в весла…
…не сейчас.
А когда мы дойдем до берега, и очередная ночь заплещется перед нами, глубокая, темная, таящая в себе мириады неведомых и невидимых опасностей. И мы устроимся в челноках, положим головы на подушки, укроемся одеялами, и прикажем своим лодкам плыть к другому берегу, и весла забьются по темноте, отталкивая студеную гладь ночи…
Я ничего не замышляю.
Ничего.
Уходящий день — шумный, суетливый, беспокойный, кричащий, вечно куда-то несущийся — не увидит в моих мыслях ничего такого, после чего он в гневе прикажет своим людям (своим! Людям!) связать, скрутить меня, бросить на дно челнока, стреножить мой челнок и повести под уздцы.
Я сам не вижу в своих мыслях ничего такого, я прячу их от самого себя, я даже сам не знаю, что дождусь берега ночи только для того, чтобы лечь в челнок, завернуться в тяжелое одеяло — ночи плывут холодноватые, — и направить свой челнок не поперек ночи, как велели отцы, и отцы отцов, и отцы отцов отцов, и отцы отцов отцов отцов — а вдоль…
…вдоль…
Я не говорю себе этого слова, этого слова нет, нет, нет, я не знаю такого слова — скользящего в-в-в-в, спотыкающегося дддд, звучного, тягучего — о-о-о-о-о-о, гладкого, глянцевого — л-л-л-л-ь, такого слова нет, нет, нет, его даже не придумали…
…проще вот так — забыть, что задумал (да ничего я не задумал), прийти в себя, когда мой челнок уже неслышно ускользнет прочь от большой флотилии, от уютного света фонарей — в непроглядную чернильную тьму, которую не в силах осветить далекие звезды. Спохватиться — когда самые огни скроются в темноте, и я останусь наедине с ночью, и шумный суетливый день не найдет меня, хватится, — когда уже будет поздно, когда я буду уже далеко, когда останемся только мы вдвоем — я и ночь.
Вот только тогда можно будет сказать себе — получилось, и поуютнее устроиться в челноке, и смотреть в едва различимые очертания ночи, прислушиваться, не мелькнет ли где-то впереди бурлящий водопад. И ждать, пока извилистое русло маленькой ночи впадет в огромную, бескрайнюю ночь, настолько глубокую, что она сама не знает, как далеко простирается в бесконечность….
…но это будет потом, потом, когда прохладное, темное полотно ночи покажется перед нами, и заскучавший челнок наконец-то закачается на волнах полуночи. А пока не думать, не думать, бежать, бежать, бежать во весь дух вслед за всеми, по суетливому, слепящему дню, вечно подгоняющему самого себя — бежать во весь опор, ждать, когда появится темная полоса ночи, почему так долго, почему так нескоро, почему её все нет и нет, ждать, ждать, не слушать какие-то безумные пророчества о том, что кончится время ночей, и все дальше и дальше будет тянуться бесконечная равнина, залитая светом ослепительного вечного дня….

Ищет душа
Ищет душа не минувшего — вечности, вечности,
Ищет душа не созвучия — тишины,
Хочется судеб каких-нибудь нечеловеческих,
Хочется высей каких-нибудь неземных.
В городе, каменном городе тесно нам, тесно нам,
И под ногами на улицах — холод и лед,
Хочется граней каких-нибудь сверхъестественных,
Хочется мыслей каких-нибудь — без пустот.
Что-то далекое, зыбкое, манит и манит меня,
Белые блики на вещей, хрустальной реке,
Хочется далей каких-нибудь затуманенных,
Хочется знаков каких-нибудь — вдалеке.
Манит туманное прошлое — рунами, ведами,
За измерения, дали и за года
Хочется тварей каких-нибудь нам неведомых,
Хочется странствий каких-нибудь в никуда.
Белые звезды из сумерек падают, падают.
Не поднимаются сызнова в облака,
Хочется таинств каких-нибудь неразгаданных,
Хочется миссий каких-нибудь — на века.
Давят на плечи тяжелые здания, здания
Люди живут, как на разных на полюсах,
Хочется знаков каких-нибудь — знамений, знамений,
Тонко написанных кем-нибудь на небесах.
В каменных стенах наедине с одиночеством
Ищешь каких-нибудь мыслей, каких-то идей,
Хочется далей каких-нибудь — не перехочется,
Хочется неба — на тесной земле людей.
Не все карты
— Давно работаете? — спрашивает он.
Смотрю на него, чувствую, что-то с ним не так, понять бы еще, что…
— Двадцать лет.
— Я так понимаю, в психиатрии что-то сечете…
— Да, и немало…
— Очень хорошо, — он снова смотрит на меня, снова пытаюсь понять, что с ним не так, — городок тут один есть… ну да, вы уже читали в объявлении… Рамсбург… вот вы тут и поживете, с жителями пообщаетесь… посмотрите… что с ними не так…
— Не так?
— Ну да… у них не все карты в колоде, просекли?
— Понимаю… весь вопрос, что это, обычные невинные странности… или что-то более серьезное…
— Ну вот, вы и разберетесь, серьезное или нет. Поговорите с ними…
Меня передергивает:
— Вы что, хотите, чтобы я ходил из дома в дом, стучался в двери и спрашивал у хозяев, все ли карты у них в колоде?
— Именно так.
Какого черта я соглашаюсь, какого черта я не разворачиваюсь и не ухожу восвояси, какого черта я вежливо интересуюсь, где в городе гостиница…
— …будете моим гостем, — не теряется мэр, — сочту за честь принимать вас у себя…
Меня передергивает, этого еще не хватало, ночевать под одной крышей с этим… с этим…
…черт меня дери, что же с ним, все-таки, не так…
Обреченно смотрю на городок, неожиданно уютный, как будто обнимающий со всех сторон. Вычурные домики закутались в цветники, над рекой изогнулись мосты, в узких окошках свет лампад…
Дергаю колокольчик, что я делаю, черт меня дери, что я делаю…
Дверь распахивается — как будто сама собой, и правда сама собой, потому что сухонькая хозяйка стоит где-то в глубине комнаты, на круглом коврике, ахает, вздрагивает, когда видит меня…
— Э-э-э… вечер добрый… я… я пришел проверить… все ли карты… у вас в колоде…
Что я несу, что я несу, хоть бы соврал что-нибудь, что заблудился, да где тут можно в трех улицах заблудиться, или дом перепутал, да они все разные, как их тут перепутаешь, или… или… ну не так, не так, врываться к человеку, и спрашивать, все ли у него в порядке с головой…
— А, да… конечно… — дребезжащий голос, — проверьте… пожалуйста… я и сама вот знаете, замечаю… что у меня не все карты в колоде… знаете… бывает такое…
— Ну, не волнуйтесь, может, ничего серьезного, нервное расстройство, не более, — говорю то, что обычно говорю всегда, оглядываю зал, куда бы сесть, никуда, а вот по обе стороны от зала комнаты, что-то вроде гостиных, может, поговорим там…
Только сейчас замечаю в руках хозяйки кухонный нож, что она делает, что делает, стой-стой-стой — поздно, поздно, она рассекает себе горло одним ударом, голова катится к моим ногам…
Ошарашенно смотрю на безголовое тело, оно идет ко мне, беспомощно шарит руками, наклоняется, ищет голову… какого черта я делаю, какого черта услужливо помогаю ей, вкладываю голову в ладони…
— Ох, спасибо… вот, пожалуйста, посмотрите… — снуют торопливые пальцы, открывают голову, как шкатулку, оторопело смотрю на карты, разбросанные в черепе, двойка пик, семерка червей, четверка крести…
Складываю. Карта к карте, аккуратно, бережно…
Черт…
Вот оно что…
— Спасибо, доктор… и правда, так лучше стало… ясность какая-то…
— Видите ли… — осторожно помогаю приставить голову на место, — у вас не хватает восьмерки пик.
— Да вы что?
— Точно вам говорю.
— А это… это опасно?
— Ну… нежелательно, конечно… вот что… а вы когда последний раз голову открывали?
— Ой, да не помню уже…
— Так вы посмотрите по дому… может, завалилась куда карта, вы и не заметили…
— Ой, спасибо большое, доктор, обязательно посмотрю…
— …доктор…
— Да?
— А если мне эту двойку трефовую… гхм… подарит кто-нибудь…
Настороженно смотрю на молодого парня.
— В смысле… подарит?
— Ну… у меня вот двойки не хватает… может… может, кому из друзей не жалко будет… родственникам там…
Спохватываюсь:
— Исключено.
— Думаете?
— Точно вам говорю, исключено… это же не ваша двойка трефовая будет, а чужая…
Холодок по спине, понимаю, что это уже слишком, что они все думают одно и то же, даже те, кто не говорят прямым текстом, но думают, а что, если вот у меня этой карты нет, а у моего соседа она есть, и…
…черт…
Хлопаю себя по лбу, надо было соврать, что у всех не хватает одной и той же карты, тогда бы никому и в голову не пришло, а что будет, если возьму у другого… Можно было бы вообще отвлечь их внимание, пустить слух, что кто-то похищает одну конкретную карту…
Кто-то похищает…
Черт…
— …разрешите… я посмотрю вашу голову…
— Простите? — мэр оторопело смотрит на меня, ну еще бы, не ожидал, сидели у очага, пили чай, и нате вам…
— Разрешите осмотреть вашу голову.
Короткий смешок.
— Можете не сомневаться, у меня-то все карты в колоде…
— Тем более давайте посмотрим, докажите, что вам нечего скрывать…
Он невозмутимо снимает голову, открывает череп, показывает мне безупречно укомплектованную колоду, все аккуратно разложено по полочкам…
— …вы украли карты.
— Что, простите?
— Вы украли карты.
Мэр смотрит на меня с презрением:
— Не клевещите.
— Не клеветать, говорите? Ну, давайте посмотрим… вот… рубашки карт…
— Вот уж никак не думал, что карты носят рубашки…
— Ну а как вы хотели… и брюки, и смокинги… Вот, посмотрите на рубашки… они все разные. Вот в таких рубашках в клеточку ходят карты у леди Мун, а в таких вот в полосочку у мистера Муна…
— Вы… вы ничего не докажете… ничего не сделаете… не посмеете!
Не отвечаю, вытряхиваю карты, они разлетаются, подхваченные ветром, каждая к своему дому, к своему хозяину. Еще надеюсь посмотреть на то, что осталось от того, кто называл себя мэром, уже понимаю — ничего не осталось, потому что все карты были не его…
Белые тайны
Спит серебро, дремлет под снегопадом,
Ветер ласкает лик холодной рукой,
То ли свеча гаснет, то ли лампада
Там, на последнем окне, так высоко.
Я поднимаюсь по лестнице старой башни,
Вижу монашьей рясы черную тень
Глядя в пустые глаза, становится страшно
Здесь, посреди зимы, и в темноте.
Шорохи на страницах, запахи чайные,
Белые руки книгу тронут едва,
Будет мне говорить вещие тайны,
Будут белые губы шептать слова,
Будет свеча полыхать до рассвета,
Будут мерцать всполохи на ветру,
Грянет в окно удар снежного ветра,
Вздрогнут сухие страницы — снова замрут.
Белая башня, месяц, запертый в клеть,
Зори, огни забытого всеми града —
Кто-то хранит тысячи, тысячи лет
Белые тайны, белые снегопады.
Улитка с бородой и платье с телом визиря
— Когда это началось?
— Никогда.
— В смысле?
— Никогда не началось.
— В смысле?
— Не началось. Потому что никогда и не заканчивалось.
— Ну а все-таки…
— …я увидел кровь.
— Кровь?
— Да, кровь. Мне тогда было лет десять, не больше, я проснулся среди ночи… я еще знаете, таим пугливым ребенком был, боялся всего… и на ночь просил, чтобы мне ночник оставляли, красивый такой, в виде месяца… И вот просыпаюсь я, смотрю, а там, где свет ночника обрывается, там на краю света и тени из-под стены кровь, и как будто стонет кто-то…
— Вы испугались?
— Да я орал, что весь дом сбежался… показываю на кровь из-за стены, люди охают, ахают, не видят ничего…
— Не видят?
— Ага, вот что меня поразило больше всего… я отчетливо видел кровь, а остальные качали головами, говорили что-то про мою богатую фантазию… Матушка наутро так и сказала, Дэнни, у тебя богатое воображение, но будь любезен не демонстрировать его окружающим.
— И вы… старались не демонстрировать?
— Да, насколько это было возможно. Но тайком продолжал исследовать вещи, мне непонятные. Например, мне было лет пятнадцать, когда я услышал, как за стеной рыдала женщина, опять же ночью… А наутро я пошел искать комнату, где плакала женщина, и что думаете, за стеной вообще не было никаких комнат… Там начиналась улица и ров с водой…
— Понимаю ваше замешательство…
— Да, я с самой ранней юности задавался вопросами, которые больше никого не волновали… вот, например, почему в нашем доме есть второй и третий этаж, а первого нет. Или почему между домами то и дело пустое пространство — хотя туда можно было втиснуть еще один дом, а то и несколько.
— Вы спрашивали у старших?
— Знаете… я вовремя догадался, что о таких вещах спрашивать нельзя. Просто нельзя, и все. Не принято. Не положено. И если я хочу занять свое место в обществе, я не должен задавать такие вопросы. Я… я просто смотрел. Наблюдал.
— Наблюдали… например, за чем?
— Ну, больше всего мне понравилась девушка в тумане… прозрачная девушка… она каждое утро выходила с прозрачного крыльца рядом с нашим домом, и шла к прозрачному колодцу… иногда плакала…
— Прозрачное крыльцо… прозрачного дома?
— Нет, дома не было видно, только проступали очертания крыльца… иногда я еще видел на улице окна какие-то, висящие в пустоте…
— Вы не думали, что это всего лишь… м-м-м…
— …плод моего больного воображения? Думал, еще как. Более того, какое-то время я был почти уверен, что я безумен, и все, что мне остается — тщательно скрывать свое помешательство. Знаете, порой это давалось мне нелегко, ну согласитесь, ну не так-то и просто не свернуть, когда прямо перед тобой стена, полупрозрачная, но все-таки стена… Приходилось зажмуриваться, даже задерживал дыхание, будто собираюсь нырять… И знаете, не удержался, не выдержал, когда прямо на меня несся автобус, многоэтажный такой… вздрогнул, отскочил… Знаете, думал, все, конец карьере, — а нет, ничего подобного, остальные тоже отскочили, как черти от ладана. Я еще ждал, кто-нибудь что-нибудь скажет про это, знаете, неловкое такое молчание повисло в воздухе, хотелось разбавить его шуткой какой-нибудь… и никто ничего, ни полслова…
— И тогда вы поняли…
— …что это не бред, не наваждение, это взаправду… И от этого, знаете, стало еще страшнее…
— Страшнее?
— Да, намного страшнее. Знаете, почему?
— Почему же?
— Потому что теперь невозможно было не замечать… вот, например, девушка… в комнате у меня за стеной… К ней иногда приходил человек в черном и закалывал её ножом… И понимаете, уже невозможно было просто так не замечать этого, я понимал, что нужно что-то делать, вмешаться, только вот как… потом голос…
— Голос?
— Да, каждый вечер в половине десятого, один и тот же голос, одна и та же фраза, — завтра все кончится… голос… в таком отчаянии, с таким надрывом… этажом ниже, под нами…
— И тогда вы начали составлять карту города?
— Ну… собственно, карта уже была у меня в голове, я уже достаточно изучил город за двадцать пять лет, и даже сам удивился, как легко все получилось, город вырисовывался слой за слоем, уровень за уровнем…
— Уровень?
— Да, я насчитал их семь… Уровень богатейших парков и дворцов. Потом уровень роскошных особняков. Потом уровень зажиточных апартаментов, ну типа тех, где я родился и жил. Уровень скромных квартирушек. Уровень маленьких комнат где-то, куда никогда не попадает солнце. Потом трущобы, они были в самых неожиданных местах. И… и еще что-то, какой-то уровень уже под землей, где-то там, там… И знаете… такое чувство, что это было еще не все…
— Не все?
— Ну да… было какое-то ощущение, что есть еще какие-то слои города, вот, например, мне доводилось видеть силуэт рыцаря или очертания женщины в старинном платье, знаете, такие пышные носили, прямоугольные…
— …это называется, когда украла телевизор и незаметно пытаешься пройти мимо кассы…
— Украла, простите, что?
— Телевизор.
— Что, простите?
— Телеви… вы не знаете, что это такое?
— Простите… нет…
— Ну да, современному поколению это все уже каменный век, у вас сейчас айподы, айфоны…
— Простите, не понимаю.
— Как же так, вы…
— …а-а-а, вы, наверное, оттуда?
— Откуда — оттуда?
— Ну, кроме тех, кто были когда-то, тут попадаются и те, кто еще только будет когда-то, в свое время… они еще такие книжечки маленькие все время с собой носят, читают, только страницы не перелистывают, там сами как-то страницы меняются, и картинки двигаются… Я видел, один так шел через дорогу…
— Машина сбила?
— Вы тоже это видели?
— Так что тут видеть, оно постоянно так…
— Постоянно? И власти… ничего не делают? Не запретят?
— Что запретят?
— Книжечки эти… или повозки…
— Ну, знаете… это все равно как от средневековья от какого-нибудь требовать, чтобы людей на кострах не сжигали…
— Да с чего вы вообще это взяли, а? Кому ни скажешь про среденевековье, сразу начинается про людей на кострах… да там такие вещи раз в три от силы случаются, когда какого-нибудь мерзавца казнят, один по пьяни жену с маленьким ребенком топором зарубил, что его, по головке погладить нужно было?
— Вы так хорошо разбираетесь в средневековье?
— Ну, когда видишь мириады мириад слоев города, рано или поздно начинаешь разбираться во всем… Знаете, однажды я видел на улице нечисть какую-то… вот так иду по аллее, и что-то бросается мне под ноги, насекомое какое-то, мерзость какая-то, но великовата для насекомого… и только потом спохватываюсь, что в это время вокруг меня как будто волны были, а значит, гадость эта была не здесь, не сейчас, а миллионы лет назад… Или вот еще, я видел улитку размером с человека, ну, почти… знаете, поразительная картина… вот так вот площадь, на ней дома из кусочков, из кусочков, призрачные такие… кусочек того уровня, кусочек этого… и по той же площади улитка ползет, почти с человека ростом, морду свою бородатую из домика высовывает… И мимо дама идет в платье, вот как вы сказали, с телом визиря… А напротив человек стоит, одет так по-дурацки, ну вот как вы сейчас одеты… Ой, из-звините… И книжечку свою, которую вы читаете все, вперед выставил, как будто показать ей что-то хочет, а она не видит, потому что на другом уровне…
— Ну, не показать… так сказать… запечатлеть этот образ… в ваши времена он бы с мольбертом стоял, кистью по холсту водил, а в наши времена вот, книжечку вперед выставил, и у него в книжечке картинка появилась, дама с улиткой на площади… только там не отобразится такое, там на картинке пустая площадь будет и кусочки домов от его эпохи… и все… А он на что-то надеется, снимает, ну вот такой же чокнутый, как вы… Ой, из-звините…
— Да, я все понимаю… сколько ни заставлял себя не видеть, не замечать… не получалось… Было однажды, званый вечер, и я знаю, что если я на этом вечере себя достойно покажу, будет мне повышение… Ага, как бы не так… Дернул меня черт заметить, там, на лестнице над обеденным залом, женщина стоит почему-то в брюках… а сзади грязный такой мужлан подкрадывается, с костяным ножом, сам в шкурах, волосья нечесаные… и я при всем честном народе на мужлана бросаюсь, ты что делаешь, тварь ты эдакая…
— Я уже догадываюсь, что было дальше…
— …все верно, повышения я так и не увидел… а этот в патлах разделывал тушу какого-то зверя… когда-то давным-давно…
— И все-таки если вы снова и снова смотрели туда, куда не следует, значит, что-то тянуло вас туда… не давало покоя…
— Вы верно подметили… девушка…
— …та, в брюках?
— Да нет… девушка из низов, из трущоб… я видел её каждую пятницу вечером, когда заходил домой, поднимался на крыльцо, а её в это время убивали в переулке… каждый раз один и тот же человек с кинжалом, он вырезал ей сердце…
— А полиция?
— Как вы догадываетесь, полиции в этот момент там не было…
— А что писали газеты?
— Наши газеты пишут только то, что происходит в нашем мире, то, что творится в двух шагах, но на другом уровне, никого не волнует.
— Кроме вас…
— …верно, кроме меня. Но как вы понимаете, я ничего не мог поделать… Только смотреть на это снова и снова изо дня в день… Каждый вечер…
— А потом вы открыли у себя способность…
— Знаете, я бы не назвал это способностью… Это есть у всех, все в детстве видят что-то такое, только кто-то приучается не замечать, а кто-то наоборот, замечает все больше…
— То есть, хотите сказать, я тоже смогу, как вы?
— Ну, я бы так не сказал, это надо тренироваться подолгу… с детства… знаете, вот я даже точно не могу сказать, в какой момент у меня получилось подвинуть чашку, которая стояла на столе у королевы…
— У королевы?
— Да…
— И вам за это ничего не…
— …знаете, это было настолько дико, настолько безумно… что никто и не задумался, что я сделал…
— То есть, вы могли безнаказанно проникать в королевские покои, и…
— …отнюдь. То есть, конечно, мог бы, только… только после этого я стал бы изгоем, если бы это раскрылось… меня бы не приняли ни в одном из миров, я стал бы… вне времени и пространства… и дело здесь не в краже из королевского дворца, а в том, что я нарушил что-то гораздо более важное…
— И, тем не менее, вы собирались нарушить… хотя и понимали, что вас ждет?
— Верно. Понимал… д и другие люди намекали, домашние за ужином вскользь упоминали границы, которые нельзя преступать, правила, которые нельзя нарушать…
— Вы не боялись, что он убьет вас?
— Ну, я собирался стрелять в него с крыльца… только знаете, не надо мне тут сейчас, а-а-а, в спину стрелять, а-а-а, подло… ага, а девушку ни в чем не повинную убить прямо верх благородства…
— И все-таки у вас не получилось?
— Отчего же не получилось, убил одним выстрелом… голова вдребезги, девчонка в крик, и бежать…
— Тогда… тогда почему вы мертвы?
— Мое умение обернулось против меня… знаете… вообще странно, что я этого не предвидел… вот когда видел, когда эти повозки безлошадные кого-то сбивали, всегда такое чувство было, что… холодок такой по спине…
— И когда вы стреляли в убийцу…
— …ага, я стоял посреди улицы, еще видел, что на меня повозка несется, да что повозка, целый дом на колесах, красный, в два этажа… Еще знаете, предвидел это ощущение, когда вот так вот сквозь тебя что-то проносится на огромной скорости, и ничего не чувствуешь, но тебе кажется, что обдает ветром… и знаете… когда я понял, что случилось на самом деле, так страшно было, хочется орать во все горло, а орать уже нечем, тело мое растерзанное лежит…
— Ваши родные отвернулись от вас после вашего поступка?
— Надо думать… да поступок-то тут и не при чем уже, с мертвыми кто ж общаться будет… Ну вот вы разве что, слушайте, я даже удивлен, что вот вы так со мной беседуете, что журналисты наконец-то вспомнили, что в мире еще и мы есть…
— А девушка, которую вы спасли…?
— Что девушка?
— Ну… неужели вы не пытались с ней заговорить?
— Пытался, конечно, только не вышло из этого ничего путного…
— Ну… может быть… замужем она, или есть у неё кто-то на примете, или, знаете, даже в те времена такие бывали, что не хочет она крепкую семью, другие какие-то мечты… в столицу ехать, в университет поступать, изучать движение небесных тел… или там на сцене петь…
— Да нет, дело-то не в этом…
— А в чем?
— Так говорю вам, я же мертвый, она живая… это, считайте, все…
— И тогда вы её убили?
— А вы… а вы откуда…
— …позавчера её кто-то убил, выстрелом в спину, так что лица убийцы она не видела…
— Так может, этот, скотина, до неё дорвался…
— Этот, скотина, между мирами ничего делать не умеет, и этого, скотину, в мире мертвых сразу арестовали, там с этим делом строго… ну вы же её пристрелили?
— Честно? Я. Понимаете… не мог я так… что она там… а я… да не здесь я, нигде, нигде… она даже не замечает меня, не видит, хоть бы сказала что, что пошел ты далеко и надолго, или еще как, как они говорят — я не имею чести быть знакомой с вами… а я для неё вообще пустое место… да не для неё, а вообще…
— И чего вы добились? Теперь вам приходится скрываться от последнего мира, который мог бы вас принять, от мира мертвых…
— А вы… а, вы, простите, кто?
— Я пришел арестовать вас… и ликвидировать… вы сами признались, что убили девушку…
— Слушайте, ну а как я должен был поступить? Вот вам хорошо говорить, вы сами в такой ситуации не были…
— Был, представьте себе… и ничего подобного не сделал… Так что…
— Вы… стоп, вы как это делаете?
— Вы настолько наивны, что пытаетесь от меня спрятаться, скачете с уровня на уровень?
— А у вас-то как это все так легко получается?
— Ладно, хватит болтать, пора уже… ч-чер-р-р-рт…
— Алоэ… алоэ… Преступник ликвидирован.
— Очень хорошо, мы в вас и не сомневались.
— А это… у меня тут что-то уровни барахлят, можете меня отсюда вытащить?
— Да без проблем можем… алоэ… алоэ…
— Ну что, этот-то выбыл…
— Сбежал?
— Да нет, убили его…
— Вот как?
— Ага, поперся в одиночку убийцу ликвидировать, молодец какой… преступник его и прихлопнул… потом еще нам звонил, за убитого себя пытался выдать… На алоэ прокололся…
— На алоэ?
— Ну да, начал в телефон, алоэ, алоэ… Ему что алоэ, что алло…
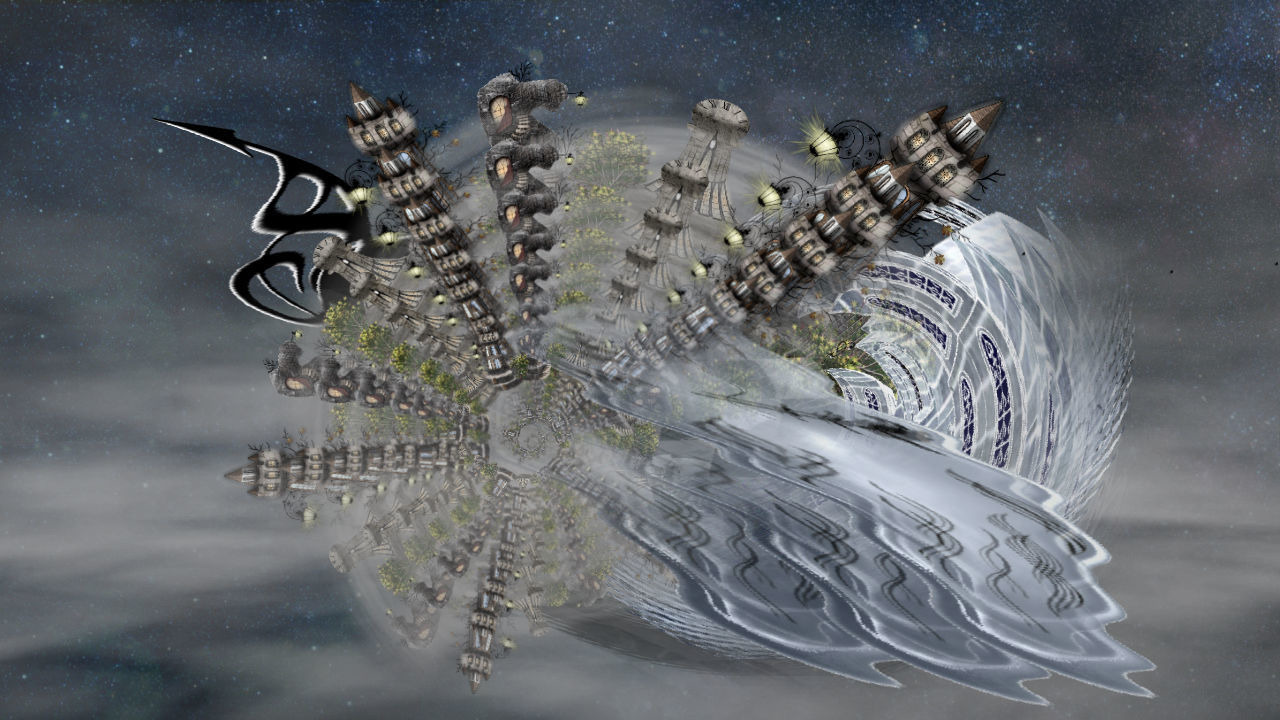
Никто не скажет…
Осенний ветер обглодает кроны,
Смахнет туманы с крыш,
Никто не скажет, где я похоронен,
И где зарыт,
Какие там закаты розовеют,
В каких дворах,
И над какой речушкою развеян
Мой черный прах.
Я помню, поражения не ведал
Семнадцать лет,
Я вел кого-то к пламенным победам,
Я верил в свет,
Я шел по свету, лаврами увитый
Шел налегке,
Я был сражен в своей последней битве
Незнамо кем…
…Вернулся из небытия на землю,
Искать своих,
Но здесь моим словам никто не внемлет
И мир затих,
Проржавлены доспехи и кинжалы,
Забиты в пыль земли:
Где воины мои? Куда бежали?
Куда ушли?
Гуляю по чужбине по немилой,
Ищу из темноты,
Куда приносят люди на могилу
Мою — цветы,
И рвало на куски — какое пламя
Меня в кострах,
И где гоняет ветер по полянам
Мой черный прах.
Интервью с городом
— Уважаемый Таймбург, почему и как вы решили стать городом?
— Ну, знаете… у меня было много желаний… было время, я мечтал стать кораблем и плавать по морям, по волнам…
— …право, не представляю вас в роли корабля…
— Я тоже… по крайней мере, сейчас… но тогда я вдохновенно представлял себя кораблем, плывущим через океаны…
— Но все-таки кораблем вы не стали…
— Знаете, я столько всего хотел, что сейчас уже и не вспомнить. Одно время я мечтал быть месяцем на небе, всерьез готовился к этому, даже сдал экзамены…
— И… что же?
— Я думаю, вы уже догадались, что случилось.
— А… что?
— Я слишком поздно спохватился, что вакансия месяца в небе всего одна, и она уже занята.
— Да, не повезло вам…
— Знали бы вы, какое это было сильнейшее разочарование! Я был в отчаянии… правда, юность тем и прекрасна, что горести и беды быстро забываться. Меня разрывали противоречия, то я мечтал быть уличным фонарем, устало скрипеть на ветру, освещать дорогу путникам, то мне хотелось быть светом в окне под самой крышей, то мечталось мне стать одинокой башней высоко над городом, а иногда мне снилось, что я — мост над рекой, тонкий, изогнутый мост, а иногда я видел себя причудливой оградой или деревом, а то и улочкой, которую будешь искать — не найдешь, можно только заметить случайно, проходя мимо…
— И вы не знали, что выбрать…
— Вот именно… метался и разрывался между мечтами, еще и старшие подливали масла в огонь, ах, надо выбрать что-то одно, непременно-непременно… И знаете… я не сдался. Я сказал себе, что пойду за своей мечтой до самого конца.
— И вы…
— И я решил стать всем сразу. Фонарями, улицами, светом в окнах, мокрыми от дождя крышами, мостами над рекой, деревьями, посеребренными первым снегом…
— …стать городом…
— Вот именно. Причем, тогда я совершенно не знал, что такое город, тогда вообще никто не знал, что существуют какие-то города, я был первым городом в мире. Тут бы для драматизма сказать, что меня отговаривали, но этого не было — всем было просто наплевать, что я делаю. Тут бы еще добавить, что ко мне сию же минуту пришел головокружительный успех — и это тоже будет неправдой, всем по-прежнему было глубоко наплевать. Прошло немало времени, прежде чем ко мне потянулись первые туристы, даже не туристы — одинокие странники, которые искали ночлега… Они возвращались домой, рассказывали обо мне, окутывали меня легендами и мифами, заботливо укрывали слухами, придумывали обо мне то, чего нет… И вот так мало-помалу я стал знаменитостью…
— И все-таки… вас не оставляет чувство, что, делая свой выбор, вы что-то упустили, что-то потеряли?
— Знаете, вы верно подметили… оно и сейчас меня не оставляет, это ощущение… и вот сейчас я как раз намеревался наверстать упущенное…
— В смысле?
— В прямом смысле… я стану месяцем.
— Но вы же…
— Что я?
— Вы же… город…
— И что, почему город не может быть месяцем? Знаете, надоело мне это слушать, ты не можешь быть сразу домом и улицей, ты не можешь быть сразу светом в окне и одиноким фонарем на углу! Я буду месяцем и городом — и точка!
— Позвольте… уважаемый Таймбург… как же так… как же мы без вас… господин Таймбург!
— …это подлинная запись вашего интервью?
— Клянусь честью.
— И вы, уважаемый Букбург, полагаете…
— …я не полагаю, я видел собственными глазами, как город стал луной и поднялся в небо.
— И… и где нам сейчас прикажете искать Таймбург?
— Боюсь, что нигде. Мы потеряли его окончательно и бесповоротно.
— Удивительно… значит, мы можем увидеть Таймбург высоко в небе… сегодня ночью…
— Будем надеяться.
— Это что же получается, уважаемый Букбург… теперь вы будете столицей?
— Боже мой, никак не думал, что на меня ляжет такая ответственность… но что поделать, похоже, у меня нет выбора…
— …почтенный Букбург, у меня для вас плохие новости…
— Что такое?
— Мы нашли Таймбург.
— Разве это плохая новость?
— К сожалению, да.
— Отчего же?
— Мы нашли Таймбург на дне океана.
— Хотите сказать… он упал с небес, и…
— Да, к сожалению…
— Уж-жасно… быть не может, какая потеря… какая огромная потеря…
— Почтенный Букбург…
— Да?
— А что вы скажете об этом?
— Это… это что?
— Это ваше сообщение Таймбургу… в котором вы приглашаете его сделать театральную инсценировку… интервью с городом, который хотел стать луной…
— Как… как вы нашли это?
— Ну, знаете, это было не так-то и сложно… Что, уважаемый Букбург, сообщим в полицию, или сможем договори…
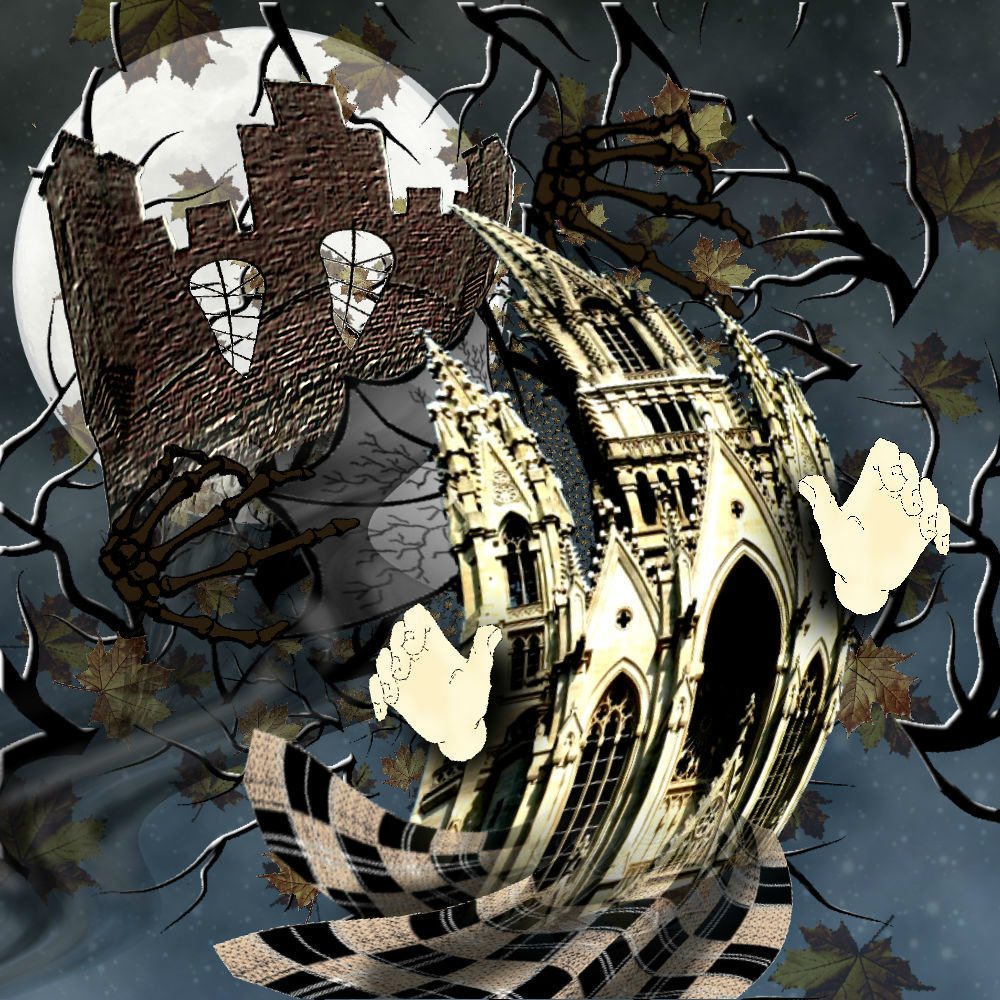
Хлеб, чтобы печь, печь, чтобы хлеб
А это съедобно, спрашивает Лара.
А съедобно, говорят Ларе.
А вкусно, спрашивает Лара.
А Ларе не говорят, руками разводят, да кто знает, вкусно или нет, кому-то вот вкусно, прямо всеми четырьмя зубами вцепится, хотя нет, четыре обычно руки… или ноги… или лапы… а рук две… а зубов тоже может быть четыре, бывает такое. Да и у кого х сейчас больше. А кто-то попробует, держит на кончике языка, и хочется выплюнуть, и не получается, нельзя вот так, еда-то на вес золота, не меньше. И глотает, как горькое лекарство, и даже заставляет себя не морщиться.
Вот так посидели, поели, и говорят, про что говорят, ну известно, про что, как всегда, про цены, вот в ближневосточных регионах там за центнер отбросов килограмм еды, это ещё справедливо, а в Европейских регионах килограмм еды дадут только за тонну отбросов, несправедливо это.
Еще посидели, поворчали, как они (кто они? Они, там!) землю делят, вот так, по линиям, по квадратикам, по регионам, и человек в одном регионе живет, а на соседней улице следующий регион начинается. И у тебя тут запаришься, пока отбросов наберешь на ужин себе, а на той стороне улицы всего-то ничего нужно собрать, чтобы еды дали…
Еще посидели, поговорили. Говорят, государство хочет все себе прибрать, чтобы государству все, а людям ничего. И продавать мусор будет. И менять его на это вот, непонятно какое на вкус. И будет между людьми еду делить, о-ох, знаем мы, как оно делить будет, одним ничего, другим… тоже ничего.
У этих, хоть, все по-честному.
Сразу скажут, что сколько стоит.
Это столько за кусок, это столько за кусок.
По честному, а обидно.
Тут ты хоть ревмя реви, хоть криком кричи, что дети у тебя, дети маленькие, кормить нечем, да где я вам этот мусор возьму, да свалки-то уже разгребли все, это раньше хорошо было, грязи было… как грязи, а теперь не то, что там свалку какую, окурок на улице не найдешь, огрызок какой.
…власти обеспокоены тем, что люди в поисках отбросов пытаются выдать за отбросы то, что ими не является: обломки веток, стекла, которые они сами же и разбили, — однако, напрасно власти беспокоятся, продавцы (продавцы?) прекрасно могут отличить настоящий мусор от созданного специально…
А у Амы остров был.
Ама на острове жила.
Они все там на острове жили.
А теперь у них острова нет.
Отобрали.
Да нет, не прогнали никого и сами жить стали, а просто… отобрали.
Ну, вот так.
Остров-то у них был в Тихом океане, большой такой остров, размером с Австралию.
Только его ни на одной карте мира не было.
Потому что.
А теперь его растащили. Все пластиковые бутылки, обломки все, осколки все, обрыки.
На еду меняли.
Где-то там, там.
А острова не осталось.
А где теперь Ама будет жить и остальные, так это и не волнует никого.
Дети играют.
Берут гайки, камушки, землю рыхлят ровно-ровно, в землю закапывают.
Поют песню урожая, чтобы взошел высоко-высоко.
— А что такое урожай?
— А это… чтоб взошел.
— А потом?
— А просто… ну… чтоб взошел…
И смотрят, и не понимают, а что, разве нужно от урожая что-то еще, взошел и взошел… то есть, не взойдет, конечно, он ненастоящий, но как бы вот по игре…
Дети играют.
Хлеб пекут.
— А что такое хлеб?
— А… что пекут…
— А пекут, это как?
— Ну… это хлеб!
Смотрят недовольно, что непонятно-то, хлеб, чтобы печь, печь, чтобы хлеб…
Люди поднимаются по высокой трубе, снимают с трубы сетку.
Несут сетку, залепленную пылью, несут туда, где они, они возьмут сетку, они дадут еду.
Вечером собираются.
Спрашивают, а зачем этим это вот все нужно.
Не знают.
Кто-то говорит, а может, экологию выправить хотят.
Над кем-то смеются, ну да, сказанул тоже, кого она колышет, экология эта, да никого она не колышет, кроме нас самих, она и нас самих не колышет тоже, если уж на то пошло…
Не знают.
Молчат.
Боятся.
Ната рыдает.
Еще бы ей не рыдать, дети-то что есть будут.
И сама она, Ната, что есть будет.
Додумались.
Безотходное производство у них, а дальше что?
Радовались.
Гордились.
А теперь нате вам.
Ната бросает в землю зерна.
Поет песню урожая, сама не знает, зачем.
Уже понимает — ничего не произойдет.
Ничегошеньки-ничего.
А в Африке война.
Там свалка была.
Большая такая свалка, знатная свалка.
А одна страна говорит — моя свалка.
А другая говорит — нет, моя.
Вот и подрались.
Мир замер, ждут, что эти скажут.
А эти молчат, ничего не говорят, им что война, что не война.
Вот так вот, значит.
Люди говорят.
Много что говорят.
Кто-то говорит, скоро за мусор по всей земле воевать начнут.
Кто-то говорит, так может, они того и добиваются, чтобы друг друга перебили.
Кто-то говорит, так уже и осталось-то полтора человека, было бы кого перебивать.
Ната идет.
Идет к ним.
К ним. К этим.
Несет горсточку сора к этим (к каким этим?), только бы не придрались ни к чему, только бы не догадались, что сор… не совсем Наты сор, а…
— Почему так мало?
Это переводчик спрашивает. У них переводчик есть. Так-то они по-нашему не понимают, по-какому по-нашему, да не по-какому…
Ната руками разводит, ну, что есть, то есть, вы уж извините…
Переводчик не унимается:
— Почему? Так? мало?
— Ну, это… производство у нас безотходное… батареи солнечные…
Переводчик торопливо что-то втолковывает тем, там, безотходное, безотходное. Тут хочется добавить ещё что-то, втолковать, объяснить, только вот понять бы еще — что именно, а то только хуже получится…
У меня дети еще, говорит Ната. Тут же спохватывается, а может, они детей этих на дух не выносят, сейчас и не дадут ничего…
— Хорошо… пройдемте…
Ната вздрагивает, это еще что, это новенькое что-то… Тут же тушуется, сдает назад, да нет, да что вы, да не надо, да ладно, да обойдусь (как обойдусь? Как????), да…
А не выйдет:
— Пройдемте.
Проходят. Куда-то в никуда. Имя. Год рождения. Еще что-о такое, не пойми, что. Зачем все это. Зачем. Зачем им все это знать, какая разница, в самом-то деле.
А у меня дети дома, говорит Ната.
А детей сюда приводят.
Вот так.
Ната рыдает, а детей-то за что…
Вечереет.
Ната детям сказку рассказывает, старую какую-то, сама когда-то давно краем уха слышала, был у крестьянина сын, и сливовое дерево, и хотел крестьянин сына женить, и собрал с дерева сливы, и поехал продавать за сор… Дети не понимают, дети шумят, младший вопит, а давай про этого лучше, у которого один глаз вместо башки, — Ната про такого не знает…
— …можете идти домой.
— А?
— Можете домой идти.
Ната не верит, что вот так просто отпустили, и хорошо, и отпустили, и больше туда ни ногой, а интересно, тогда — куда…
…домой…
Ната оглядывается.
Не понимает.
Не верит.
Как такое вообще может быть, почему трава, как на картинках, как в кино, да нет, не так, а… по-настоящему, в кино не показывают, как трава от ветра колышется, как шелестит, как живет… раньше Ната траву только в кино видела, Ната не застала, когда трава была…
Хорошо здесь.
Здорово здесь.
Розы на клумбе.
Под потолком под крышей кресло подвешено в виде луны.
И светильники в виде звезд.
И хорошо.
И не хочется думать про то, что осталось где-то там, там, далеко…
Ната готовит черничный пирог.
Дети орут, а давай в МегаДрим сходим, а там классно. И не объяснить детям, а придется втолковать, что нет больше никакого МегаДрима, и города самого нет, и в Москву дети хотели, а Москвы тоже нет, тут вообще непонятно, что есть… розы на клумбе и кресло над самой крышей, пока дети на нем не раскачались, не оборвали к черту, и черничный пирог еще есть…
Да как нет, еще как есть, да вот же, да там же…
Ната идет за детьми, ну что, ну что там еще…
А вот.
МегаДрим на окраине города, как стоял, так стоит, только людей…
…только людей нет…
Только людей…
…Ната спохватывается, оглдяывается, ищет этих, этих, каких этих, черт пойми, но этих, переводчика нет, они без переводчика не понимают…
— …вы… вы что сделали, черт бы вас побрал? Вы что сделали-то?
Переводчика нет, а так они не понимают, а Нате плевать, что не понимают, срывается на крик…
Странник
Хожу под непонятной звездой,
Горящей для одного.
Нет у меня чужих городов,
Потому что нет своего —
Все города в единый массив
Сливаются за окном.
Я не отвечу, о чем ни спроси —
Независим и одинок.
Я потерялся среди столиц,
В скором поезде жду рассвет,
Нет неродных человечьих лиц,
Потому что родных — нет.
Серые камни лежат у ног
Переулков и дальних трасс,
Женские лица слились в одно —
С холодным оттенком глаз.
Видятся, видятся мне в окне
Пустого, ночного купе
Руки, протянутые не ко мне,
Единственному, как перст.
Но знаю, что со мной навсегда
Останутся до конца
Чужие женщины, города,
Чужие руки, сердца…
Безвременье года
После Нового Года в городе начинается Дрезден — вступает в свои права, раскидывает повсюду заснеженные шпили, уютные магазинчики, откуда веет дразнящими запахами, развешивает по стенам узорчатые фонари, расстилается чуть подснеженными мостовыми, раскачивается резными вывесками, играет огоньками новогодних ёлок. Кто-то не любит Дрезден за холода, кто-то, наоборот, обожает за неповторимый уют.
Ближе к последним числам Дрездена уже проступают черты Эдинбурга, например, самые зоркие горожане уже видят гору, на которой расположен замок, или видят башенные часы, а порой не понимаешь, то ли едешь по ровному месту, то ли поднимаешься в гору. Но все-таки это еще не совсем Эдинбург, а вот когда поднимешься на холм, увидишь памятник-ротонду, хлопнешь себя по лбу — ба, да это же Калтон-Хилл, — вот тут уже не отвертишься, пришел Эдинбург, ветреный, промозглый, продувающий со всех сторон, кое-как пытающийся согреть сам себя кружкой эля и теплым пледом у очага. Стаи волынок порхают по веткам, тянут заунывные песни, жмутся к теплу витрин.
Мало-помалу отступают холода, робко-робко пробиваются на деревьях розовые цветы, а какой-нибудь шпиль вытягивается в Эйфелеву башню, разбуженную теплом. На улицах вырастают столики под зонтиками, балконы покрываются цветами, а с дерева, укрытого нежной весенней листвой, можно сорвать свежеиспеченный круассан.
Чем становится теплей, тем больше проступают очертания Колизея, и уже не поймешь, настоящее, где бесконечно далекое прошлое, времена хитонов и тог…
Римские ночи мало-помалу сменяет раскаленный Каир, где сам воздух, кажется, пропитан зноем, и отчаянно ищешь хоть какую-то тень, чтобы укрыться от палящего солнца. Бывают года, когда Каир не появляется, все тянется и тянется солнечный Рим, а за ним Мадрид с темными ночами — но чаще всего все-таки не отвертеться от палящей жары, причудливых мечетей, улиц, пропитанных душистыми пряностями, обломками загадочной старины. И изнемогаешь от зноя, и умоляешь кого-то, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну посмотрели, полюбовались, ну давайте теперь что-нибудь не такое жаркое, ну очень-очень просим…
Погода не спешит смиловаться, погода нескоро и нехотя меняется на Мадрид, помпезный, торжественный, с жаркими днями и темными ночами, которые скрывают в своих переулках немало тайн. Мадрид пролетает незаметно, как-то слишком быстро, и вот уже падают с неба первые желтые листья, и вот уже останавливаешься потому, что что-то чиркнуло по плечу, покатилось к ногам, глядь — а это нота, ми-минор или фа-бемоль, летят, падают, падают, укрывают площади. Вена пришла.
А где Вена, там и скрипки, летят стайками, рассаживаются по веткам, наигрывают замысловатые мелодии. Рояли выходят из кустов, подбирают ноты, меланхолично жуют, деревья покрываются марципановыми конфетами, люди собирают небывалый урожай, из-за деревьев возвышаются шпили городской ратуши, Собора Святого Стефана, Карлсикрхе.
Мы не хотим, чтобы Вена уходила, Вена и сама не хочет, чтобы она уходила, — тянется и тянется, кажется, до бесконечности. Но Петербург все больше вступает в свои права, дует холодными ветрами с Невы, окружает дворами-колодцами, разливается каналами, раскидывается мостами, окутывает студеными сумерками. На больших улицах вроде бы еще марципаново-скрипочная Вена, а как шагнешь в переулки, окутает промозглой сыростью, сами откуда-то слетаются стихи, чуждые, пугающие, призрачные…
Мы и сами не замечаем, как туманы Петербурга мало-помалу превращаются в совсем другие туманы, подернутые тайнами, интригами, заговорами, силуэтами призраков, а уж если вы увидели, как по деревьям порхают перепончатокрылые тыквы, а по мостовым прохаживаются многоэтажные автобусы, можете не сомневаться — наступил Лондон. Лондон с холодными ветрами и туманами, призрачными замками, потерявшими самих себя. Чем больше подступают холода, тем больше проступают черты рождественского Брюсселя, украшенного ярмарками и пряничными домами в натуральную величину. А там уже и Адвент, и Рождество, и Новый Год скоро, и ветви деревьев сгибаются под тяжестью картин Дрезденской галереи, вот они слетелись, и сидят, щебечут, и стены домов укрываются флейтами водосточных труб…

Душа с канделябром
Сколько-то лет.
Как-то выглядит.
Где-то работает.
Где-то живет.
Неважно, неважно, все неважно.
Говорит:
— …вот вы скажете, что это безумие какое-то, что я из ума выжил — и будет в чем-то прав….
— Ну, я бы так не сказал. Знаете, сюда все приходят, с этого начинают, а-а-а, я, наверное, с ума сошел — а потом оказывается, что и по правде такое случилось, что сам бы не увидел, не поверил бы…
— Есть у меня знакомый один… ну как, знакомый… ну не знакомый, ну… ну вот его страница в Сети…
Смотрю страницу в Сети, какие-то скандалы, ну, а у кого там нет скандалов, жалобы какие-то, ну так то сейчас не жалуется, фотографии чего-то там не пойми, чего, нет, в смысле, вот он в машине едет, вот он луну снимает, вот он с друзьями… а не то, что вы подумали.
Все, как у всех.
Ничего такого.
Вопросительно смотрю на посетителя, если можно назвать посетителем того, кто в тысячах километров от меня:
— И…?
— Он канделябры собирает.
Зависаю. Отчаянно припоминаю, канделябр, канделябр, это же оружие какое-то, это дело серьезное, как бы не застрелил кого…
— Оружие?
— Позвольте, но канделябры не…
Выжимаю остатки памяти, хоть убей, не знаю…
— А что?
— Так это… подсвечники… красивые такие…
— А-а-а… ну… тоже дело…
— Ну вот, он выброшенные подсвечники подбирает, чинит их, красит, у него весь дом в канделябрах этих… потом людям дарит…
— В смысле… продает?
— В смысле, дарит. Еще и смотрит так придирчиво, хороший ли человек, где живет, как там канделябру у него будет, хорошо или нет… одному даже продать отказался, потому что, видите ли, в доме сыро, подсвечник чугунный заржаветь может…
— Ничего себе… и… и что случилось?
Сос!
Срочно!
Отзовитесь, кто может!
Сегодня выискал в подъезде старого дома чудесный канделябр, настоящее произведение искусства, себе оставить не могу, сами знаете, весь дом полон, они уже меж собой дерутся! У меня уже просто рука не поднимается возвращать его в грязный подъезд, после того, как я его отмыл, покрыл лаком, подлатал сломанное крыло! Видели бы вы, как он летает, это ни на каком видео не передать, а как светит! Я вас умоляю, возьмите хотя бы на время, кому не трудно!
ВАМ СООБЩЕНИЕ ОТ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Здравствуйте. Мы по поводу канделябра.
Здравствуйте. Где вы находитесь?
В нашем доме.
А дом где?
В нашем городке.
А городок?
А городок наш не существует.
Да как же вы живете-то?
А нас тоже не существует. Но это нам не помешает, мы можем приютить канделябр. Вот у моего отца в доме канделябры были, я знаю, как с ними управляться…
А дети у вас есть?
Есть, я знаю, вы семьям с детьми не отдаете, ну у нас же ненастоящие дети, так что проблем не будет… Да вы и сам тут немножко ненастоящий, так что согласитесь…
Ну, хорошо, я вам ближе к вечеру канделябр подвезу, посмотрю, как у вас там…
Дом, два этажа, большой зал внизу, семь комнат… четверо детей… адрес счас скинем…
— Ну вот, однажды увидел я у него запись на странице… подобрал канделябр, себе оставить не может, возьмите, кто может… А я, понимаете, тоже себе взять не могу… Сами же видите, комнатушку снимаю, и вообще, я здесь, в Таймбурге, а он в Букбурге…
— И вы…
— …а у меня, знаете, есть городок…
— У вас?
— Ну да… маленький такой городок… ненастоящий…
— Игрушечный?
— Да нет же, он вообще ненастоящий!
— В смысле… — наконец-то догадываюсь, — вымышленный?
— Ну да, да… давно он у меня… я туда от проблем всяких убегаю… нет, вы не думайте, что я целыми днями на кровати лежу, в потолок плюю, я вообще архитектор… Но вот знаете, работа за день так мозги высосет, что только и сил остается домой вернуться, лечь и воображать городок… уютный такой… теплый… пахнущий имбирными пряниками… люди там добрые… и вот я стал придумывать, что вот, жители этого городка берут канделябры к себе… пишут этому человеку в личку, он с ними беседует, проверяет, может, даже сам лично канделябр этот привезет, на дом посмотрит, на условия, что за люди там живут, еще насторожится, если семья с детьми… Он так-то в семьи с детьми не отдает, но то в реальности, а то в вымышленном городе…
— …а что на самом деле было с этими канделябрами?
— Вы не поняли? — презрительно смотрит на меня, — они на самом деле отправлялись туда… в дома… в семьи… стоять на камине, зажигать свечи от очага, мурлыкать у огня, взмахивать перепончатыми крыльями…
— Простите, н-не понимаю…
— Да я и сам не понимаю, как оно так… но это работает, вот в чем дело-то, это работает… и вот знаете, я сегодня вечером напридумывал… ну, этот человек, который с канделябрами… он постоянно в разъездах во всяких, нынче здесь, завтра там… и вот я выдумал, что он заплутал, поздно вечером далеко от дома, ему переночевать надо было где-то…
Смотрю на страницу в Сети, не понимаю:
— Что-то не сходится, он тут пишет, что дома с друзьями выпивает… и вообще, тут такой человек, с ним что случится, сразу начнет на весь мир об этом трубить, вон, потерял телефон, а, нет, не потерял, я с него же пишу…
— Ну да, да, на самом-то деле он с друзьями сидит, а я вот сочинил, что он заблудился, и надо ему где-то переночевать, хоть где, хоть на полу, лишь бы в доме, ночи-то сейчас холодные… И вот я решил, пусть он в каком-нибудь доме в городке заночует, заодно и посмотрит, как там канделябры его обустроились… Понимаете, мне хотелось, чтобы кто-то еще на мой городок посмотрел, как там хорошо, как там здорово… вот он волнуется, а вдруг плохим людям канделябры отдал, а так посмотрит, какие дома уютные, и народ там хороший…
— Так… в чем же проблема-то?
— Так понимаете… я только сейчас понял, что натворил…
— А что натворили?
— А то… Это же был мой город, только мой! Только для меня одного…
— А вы пустили…
— …пустил… в большом зале постелили на диване, подушки взбили, одеяла достали, канделябр хозяина признал, сразу же к нему на столик у постели перебрался… И вот понимаете, вот он там спит… а утром проснется… и все жильцы дома проснутся… и умоются… и сядут за стол завтракать… — И он будет сидеть с ними… пить кофе… а это мой город, только мой… понимаете?
— И… и что вы хотите?
— Ну… я вот не знаю, что придумать, чтобы… Ну, я не знаю… чтобы не было вот этого утром…
— А если вам вообще просто придумать, что всего этого не было, и не заблудился он…
— …да как же можно, что придумали, то обратно уже не раздумаешь, понимаете вы?
— Гхм… да? Ну, хорошо… что-нибудь… придумаем… еще что-нибудь…
— …спасибо вам огромное. Выручили.
— А… а что такое?
— Так ему утром позвонил кто-то, он из городка как ошпаренный выбежал, даже кофе пить не стал, дети хозяйские его проводили, он бегом-бегом ботинки шнуровать и бежать, и в экипаже уехал… А что там за звонок был, если не секрет?
— Так убили его.
— В смысле?
— Настоящего его… убили… то есть, он сам себя…
— К-как?
— Да вы сами-то на страничке-то посмотрите в Сети…
Люди, это нечто… вчера тут один знакомый мой, ну, не знакомый, ну, в Сети друг на друга подписаны, так вот он меня к себе в городок в гости пригласил, городок у него есь вымышленный… здоровски так, и в каждом доме по канделябру по нашему, парень, ты крутой, ты спаситель канделябров, респект тебе. И что думаете, пока я там гостил… ну как гостил, он придумал, что я заблудился и в городок его попал… А сегодня с утра пораньше звонок, приезжайте скорее, вас убили. Оказывается, пока я там гостил, меня настоящего полиция арестовать хотела, в дом ко мне пришли, арестовать меня хотели… я от них через черный ход ломанулся, в машину прыгнул, скорей, на газ… ну и правильно, и в столб, и насмерть… Я, главное, понять не могу, что полиция-то прикопалась, вроде и не шумели мы с пацанами сильно, да и вообще, если бы на шум жаловались, чего бы я от полиции убегал…
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
Ты чего, самого себя не знаешь, что ли?
Да то-то и оно, что нет, я же не настоящий, сетевой, я себя знаю только вот такого, в Сети, а какой я на самом деле, хрен пойми…
— А что он на самом деле?
— А то… Вы бы знали все его махинации, вы бы в осадок выпали… Любитель канделябров… там на миллион уголовных статей он дров наломал, там и убийства за ним числятся, и много чего…
— Ничего себе…
— Так что это вам огромное спасибо, без вас бы не стали с ним разбираться, не докопались бы до истины…
— Знаете… а я еще один город построил…
— Ну, вы вообще молодец.
— Там канделябры живут… сидят по вечерам у камина, пьют кофе по утрам, ездят на работу…
— Вот я почему-то знал, что вы это сделаете…
(прямой эфир)
— …особенно благодарен человеку, которого и не знаю толком, он же что сделал, когда от меня один аккаунт остался, и дом арестовали, меня тогда трясло всего, канделябры же, они же погибнут… Он же тогда что сделал, он же целый город для моих подопечных соорудил! Ну и для меня, получается, тоже… сейчас вот, еще парочку на помойке нашел, вот, смотрите, красавцы какие… один погнулся малость, ну это ничего, поправимо… Все починим, будут лучше прежнего…

Герой
Живут и рушатся империи,
Клинки и палицы звенят —
Упорно не могу поверить,
Что этот мир — не для меня.
Не верю, что мой путь не выверен
И по страницам не разбит,
То, что не я героем выведен
В сюжетной фабуле судьбы,
Что, думая о послезавтрашнем,
Ночами долгими без снов,
Глаза внимательные автора
Следят пытливо — не за мной,
Что устремлениями чистыми
Какой-то творческой души
Не для меня весь мир неистовый
Придуман, склеен и прошит
Для моего святого имени…
Не верю, что на смех толпе
Сюжетная, большая линия
Идет не по моей судьбе,
Не для меня живет и стелется…
Не верю я, что всю судьбу,
Интриги и хитросплетения
Не мой прочерчивают путь,
Что хор многоголосых зрителей
Нет, не из-за меня страдал,
И не моя рука решительно
Последний нанесет удар,
Не для меня живут империи
И просят факелы огня —
И автор всемогущий бережно
Оберегает не меня,
И что в побоище стремительном
До финиша не доживу…
Не верю, что не победителем
Войду в последнюю главу.
Многоклеточное время
— Многоклеточное время.
— Что, простите?
— Время. Многоклеточное.
Еще хочу спросить, что нужно делать с этим многоклеточным временем, тут же спохватываюсь:
— А разве… разве время может быть многоклеточным?
В ответ я слышу недоумение, изумление какое-то, а разве нет, а разве не так, а разве может быть иначе.
— Многоклеточное время, — повторяет он.
Спохватываюсь. Спрашиваю себя, кто он. Потому что не может быть никакого его, и вообще никого не может быть, после того, что случилось, я не видел этого, но знаю, — случилось, что-то, после чего остались только пустые города, где одинокий ветер гонит мертвые листья. Я даже не могу сказать, хорошее что-то случилось или плохое, — он не знает, хорошее или плохое, ему все равно, что случилось с людьми в этом городе, — через тысячи лет после моей смерти.
По крайней мере, я не вижу на улицах истлевших черепов, уже это радует, хотя, может, случилось такое, что и черепов не осталось…
Он не дает мне задуматься, он не дает мне спросить — что случилось.
Он не знает.
Хочу спросить, как я умер.
Не спрашиваю.
Уже понимаю — не ответит.
И уже понимаю — здесь, сейчас, это не имеет никакого значения, или меня сбила машина, или я тихо уснул в возрасте девяноста с чем-то там лет…
Здесь это неважно.
Здесь.
Так далеко от привычных сегодня, завтра, вчера, что само время уже не имеет значения.
Время…
— Многоклеточное время, — повторяет он.
— Что?
— Время, — он начинает сердиться, — многоклеточное.
В его сержении я улавливаю, что он разочарован, что он вернул меня в бытие, в жизнь, ненадолго — чтобы я что-то сделал с этим многоклеточным временем, нашел его, собрал его, создал его, ё-моё, я ему что, физик, что ли, да это и физики с таким не справятся, это, извините, не к нам, не к двадцать первому веку, это к какому-нибудь тридцать седьмому или пятьдесят четвертому…
Он повторяет. Собирая остатки терпения в кулак, которого у него нет:
— Многоклеточное. Время.
Время. Время. Отчаянно хватаюсь за остатки разума, иду по опустевшему городу, оглядываю витрины, ну же, ну же, ну пожа-а-алуйста, да не марки почтовые, и не открытки, и не пироги… хотя в пироги надо будет наведаться, и не…
…а вот.
Часы.
Вхожу в крохотный магазинчишко, уже понимаю, он зайдет за мной, зайдет — это громко сказано, он как-то иначе перемещается, если вообще перемещается, а не находится во всех точках пространства одновременно. Оглядываю ряды часов, растерянно показываю на тикающие круги:
— В-вот…
Он смотрит. Терпеливо. Внимательно. Ищет. Замирает разочарованно:
— Не то. Не то.
— Из-звините…
Пытаюсь вложить в это «Из-звините» все свое неподдельное разочарование, ну, извините, не понимаю я, что вы тут про время говорите, вы бы пояснили как-нибудь, что надо-то, да как пояснили, я все равно не пойму, уж слишком мы… разные…
— …одноклеточное, — выдает он, наконец. И понимаю, что это он не в адрес моих умственных способностей, это он про время, которое развешано тут, отдельными циферблатами…
— Мне надо многоклеточное.
— А… да…
— Найдите…
Понимаю, что у меня нет выбора, что остается только искать, понять бы еще, что искать…
— …упадешь, разобьешься ко всем чертям!
…голос тетушки откуда-то из ниоткуда, из воспоминаний, из прошлого, орет таким тоном, будто хочет, чтобы я упал к чертям и разбился, как будто она расстроится, если я не упаду к чертям и не разобьюсь насмерть.
— …быстро слезай, пока ремня не получил!
Это мама. Оттуда же. Из прошлого. Из памяти. Думаю, как она мне ремня задаст, если я тут, наверху, а она внизу, а думается что-то другое, ну ма-аам, ну столько тысяч лет не виделись, столько веков, а ты опять орать, хоть бы обнялись, что ли, когда мы обнимались, да никогда, хоть бы по душам поговорили, когда мы по душам говорили, да никогда, хоть бы порадовалась за меня, что я… а что я, а ничего я, в Прагу перебрался, соотечественникам своим устроиться помогаю, да что, я хоть бы президентом планеты был, мама бы и то рычала, то, что ты нашел, это не работа, а вот дашенька-сашенька-какашенька с третьего этажа мусор подметает, вот умничка…
Тьфу, блин.
Приказываю им исчезнуть. Всем. Всем. Все не хотят исчезать, я тоже не хочу их слышать, я прогоняю их всех, остается только препод откуда-то там какой-то там, смотрит на меня презрительно с истлевшей много лет назад кафедры, а чего по лестнице-то, по стремянкам-то, там же внутри лестница винтовая есть, нет, мы же не ищем легких путей…
Тут бы хлопнуть себя по лбу, только если хлопну по лбу, свалюсь ко всем чертям тетушке на радость…
Он рядом.
Я чувствую.
Он рядом.
Здесь.
Показываю на часы, с легким оттенком гордости, как будто я сам эти часы мастерил…
— Вот, пожалуйста… Орлой… башенные часы…
Он недоволен, ему не нравится Олрлой, потому тчо…
— …одноклеточный…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.