
АРМЕЙСКИЕ НЕБЫЛИЦЫ-1
Как я стал военным.
Как я стал военным
Вообще-то я собирался стать юристом. Для этого были все предпосылки.
Во-первых, мама у меня была юрист.
Она окончила Ленинградский Университет, и предполагалось, что я пойду по её стопам. Это не она предполагала, а я. Мама у меня очень демократичная особа, по-современному — толерантная. Не единым словом она не обмолвилась о таких моих перспективах с её точки зрения. Но я так сам решил. После того, как поработал на общественных началах у неё в нотариальной конторе секретарём. Мне очень понравилось сидеть с важным видом у мамы-нотариуса под дверью, записывать в очередь граждан, печатать разные бумажки на машинке и торжественно приглашать к нотариусу-маме в кабинет «следующего». Народу было! И все жаждали попасть к маме на приём как можно скорее и «первее». И регулировать эту очередь было очень почётно и ответственно. И я очень гордился. И мама мной тоже гордилась. «Хороший ты помощник, сынок», — говорила она. Но ни разу опять же не выразила своего пожелания, чтобы я пошёл по её стопам. Может, тогда уже понимала, что другое по жизни занятие мне будет милее, а главное — нужнее.
Это всё было — во-первых.
Во-вторых, было то, что мне действительно нравилось сидеть вот так вот под дверью кабинета мамы-нотариуса, в костюме- троечке, специально сшитом по мне, с часами-луковицей на цепочке, купленных по моему пожеланию. Я сидел весь чистенький такой, аккуратненький, благородный даже (на фоне всех этих китайских курток, штанов «адидас», белых тапочек и прочего китайского ширпотреба). А вечером после работы мы с мамой садились в машину, — иногда мама даже давала мне порулить, — и ехали домой, предварительно заезжая в местные магазинчики и покупая всё, на что падёт глаз. А дома нас ожидал пир. И так каждый день: с деловым видом печатать нужные бумажки, регулировать очередь и вызывать «следующего».
Ну, а в-третьих, было то, что в конце месяца мама выдавала мне жалованье, чисто символическое, конечно, но для меня очень даже приятное.
Вот и казалось мне тогда, что именно так и обстоят дела у всех юристов: не пыльно, почётно и прибыльно. Я же не осознавал тогда, что мама в поте лица, можно сказать, не покладая рук и не отдыхая головой, изо дня в день трудится на этом поприще. Мне казалось тогда, что ей так же легко там, за дверью кабинета, как и мне здесь — перед этой дверью.
Кроме всего прочего, я каждый день наблюдал, как счастливые и довольные выходили все эти люди из маминого кабинета, и как все наперебой благодарили её и желали здоровья и счастья.
Скажите, разве всего этого мало, чтобы захотеть поступить в университет, который закончила мама, и стать потом успешным юристом?
Так вот…
И вся эта моя такая славная жизнь протекала на Дальнем Востоке в начале 90-х. Я заканчивал школу, а мой брат — уже закончил. Он был натурой творческой, ранимой, а вскоре перед ним должен был встать вопрос службы в армии. Творческий потенциал и армия. Трудно совместимые вещи. И в этот напряженный момент мама предложила ему, так сказать, запасной вариант. «Поступай в военное училище, сынок, — сказала она ему, — три года отучишься, и, если поймёшь, что это твоё — продолжишь. А не твоё — уйдёшь. Зато долг Родине честно отдашь, бегать от армии, как другие, не станешь, позорить отца твоего, подполковника запаса не будешь. И меня тоже».
Так решилась судьба брата. А я юристом собирался стать.
Пока то да сё — мама в Ленинград вернулась, с расчётом, что и отец вскоре к ней туда подтянется. Но вместо него, мы с братом вслед за ней туда подтянулись. Взяли билеты, сели в поезд «Владивосток — Санкт-Петербург», отец загрузил нам пару ящиков рыбных консервов и китайской лапши (очень ходовой, и даже — престижный — тогда продукт), и мы поехали. Брат едет в училище поступать, я — в университет, на юридический.
А ехать семь суток.
И вот ехали мы с братом, ехали, а когда к Питеру подъехали, обожравшись до горючей изжоги этой самой лапши с консервами — оба уже в училище приехали поступать. Даже и не знаю, как так получилось.
Вообще-то мы с братом с малолетства дружные очень были. Почти не разлей вода. Он, как старший на два года, всегда меня хороводил. Ну и я за ним, как нитка за иголкой. Он умный, вундеркинд от рождения, всё на лету схватывает, а я — не очень интеллектуальный, зато трудолюбивый и упорный. Видимо, это и сыграло основную роль для принятия такого решения — ведь вместе мы точно не пропадём в суровых армейских условиях! А поодиночке… Брат, как пить дать, поступит, а служить в одиночестве ему тяжеленько будет. А я в университет вряд ли поступлю, если… Ну, да чего уж там! — если мама не поможет. Зато службу тягостную армейскую точно смогу вынести и братишке в этом помогу. А он мне — поступить…
Вот, наверно, потому и решили в училище теперь мы уже тоже вместе идти. Почему «наверно»? Потому что таких рассуждений и разговоров мы с ним тогда не вели. Всё как-то само собой решилось, по ходу нашей совместной поездки Владивосток — Санкт-Петербург.
И мы поступили.
Впоследствии я стал военным, а брат — нет. Как мама и сказала: отучился брат три года и помахал училищу ручкой — занялся свободным творчеством.
Как говорится — каждому свои угодья.
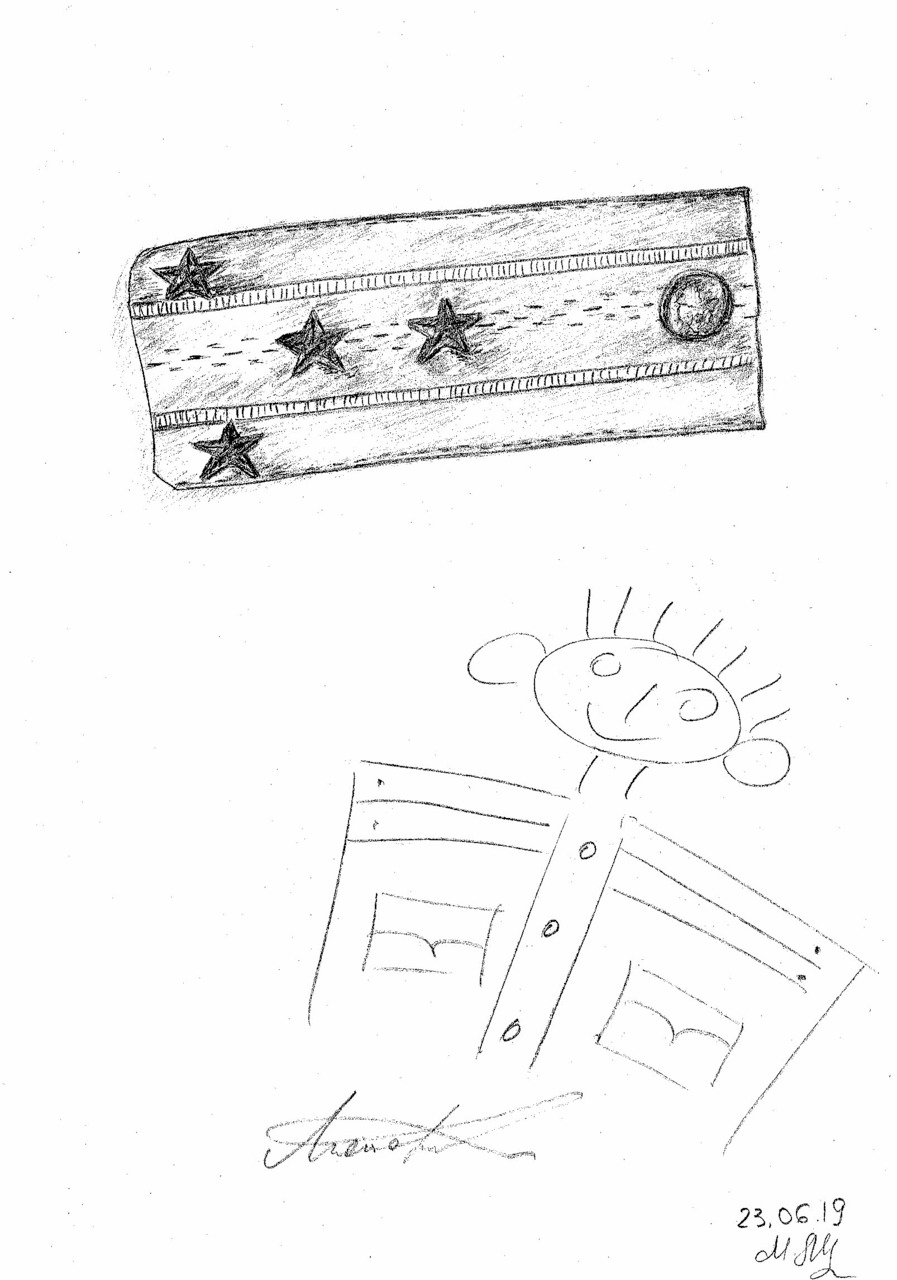
Правда, тогда, уже в середине 90-х, когда подползал поезд «Владивосток — Санкт-Петербург» к Витебскому вокзалу, и нас с братом мучила изжога от лапши с рыбными консервами, ни я, ни мой брат, ни мама, которая шла встречать нас, ничего об этом не знали.
Боюсь, что сейчас кто-то из маститых литераторов, упрекнёт меня в употреблении штампа. Но не могу не использовать его прямо здесь, поскольку именно посредством этого штампа только и могу передать обстановку, что царила в тот незабываемый первый месяц нашего пребывания на абитуре в учебном центре «в полях», а именно — стоял чудесный-расчудесный июль! Лето в самом разгаре. Прекрасные его рассветы и закаты! О, эта, как говорится, макушка лета..! Обычно, как ни покажется вам это странным (шучу, конечно), именно июль, почему-то в Питере самый тёплый месяц. А временами — даже жаркий. Но тогда, в год моего с братом поступления в училище, месяц июль был самым настоящим пеклом: шли игры Доброй Воли. Но пеклом июль был не по этой причине, хотя косвенно — точно по этой. Дело в том, что для достойного проведения этих самых игр, учитывая переменчивость Питерской погоды, облака регулярно расстреливались. И солнце, можно сказать, сутками не заходило в закат.
А мы ещё даже и не курсанты полностью — это та самая абитура, о которой я упомянул ранее, — то есть, абитуриенты мы — это полевые лагеря, с утра до вечера мы под солнцем, самоподготовка к экзаменам, ну, и — само собой — их сдача (или — не — сдача, это как у кого получится), все ещё в гражданке ходят, кто в чём приехал, никого не стригут. А у меня волосы до плеч — хайры, так называемые. Это, как мама уехала, так я и начал их отращивать. И вот отрастил… я в то время под панка косил… вот что значит молодо-зелено и мамы рядом нет! А когда приехал в Питер — сразу в училище поступать пошёл. Так и попёрся, как был. И ещё мало того, что хайры — полоски всякие на висках выбриты!
И тут, практически на первом построении, командир взвода замечание мне делает: с такой причёской, говорит, ты госкомиссию не пройдёшь и о поступлении можешь сразу забыть. Короче, не поступишь ты, салага.
И я решил, что если побреюсь налысо, то уж тогда точно поступлю, так как замечания по поводу волос не будет. А парикмахеров в полях нет. Поспрашивал, кто постричь сможет — не нашлось никого. И тогда братишка мой родной на экзекуцию эту решился. Почему экзекуцию? А вы, как думаете, если теплой воды нет — она только из-под земли, природная, холоднющая бьёт и в мойки сразу поступает, — ни машинки для подстрижки, ни ножниц нет. Значит, берётся тупое лезвие, и, смывая этой самой холодной, из-под земли бьющей водичкой, остатки хайр и оставшиеся ростки волос соскребаются прямо с черепушки…
Соскребал так мои хайры братик три часа. Все ребятишки дивиться на такое представление бегали. Облысил наконец меня брат. А ни кепки у меня, ни панамки, хоть какой завалящей. И, как сказано было выше, в полях мы. С утра до вечера. Под этим самым родным палящим солнышком, под невозможно синим и ясным, из-за расстрелянных облаков, небушком. На открытой природе, красиво говоря… И, заметьте — я лысый! То есть стриженый под НУЛЬ! Конечно, в первый же день черепок до мяса, вот честное пионерское, у меня обгорел — кожа лохмотьями с него начала падать. Обновил кожу. Молодец!
А мы всё бегом. И всё колонной.
И такое у меня стремительное падения веса произошло! — на целых десять килограмм за три недели.
Нет, кормили хорошо. Но всё бегом. Всё колонной. Ну, и волнение, конечно. Экзамены, как никак!
Фу-у-у-у! Даже вспоминать устал!
…И так прошёл первый месяц — месяц абитуры, когда мы стали всего лишь абитуриентами и сдавали экзамены….
В общем, экзамены я сдал. …Об этом можно ещё целую историю записать. Да-а-а… В следующий раз, наверно. А вот как зачисление меня в курсанты произошло — об этом сейчас расскажу.
И вот пришёл день госкомиссии. Стоим мы перед палаткой, куда надо зайти абитуриентом, а выйти — курсантом военного училища.
…А можно и не выйти таковым…
Первым братик мой пошёл. Он экзамены, конечно, без осложнений сдал, и даже физподготовку. А я немного оплошал. И с экзаменами, и с подтягиванием на турнике.
Стою, очень волнуюсь — зачисление на волоске висит.
И вот брат первым в ту палатку пошёл. И вышел, конечно, курсантом. Улыбается и меня ободряет.
Я, внутренне мандражируя, после него вхожу.
Сидят офицеры строгие, а во главе стола — сам начальник училища! — цельный генерал-майор! — глазом в документы и на меня поочерёдно смотрит. Сверяется. Напряжение моё, чувствую, совсем до предела доходит…
И в этот самый момент позади меня раздаётся голос братишки моего — он неслышно, оказывается, вслед за мной вошёл:
— Товарищи начальники, это мой брат родной. Я только что вами зачислен в училище. Прошу о его зачислении тоже. Мы из семьи военного, отец наш боевой офицер, подполковник запаса. Всю свою сознательную жизнь мы с братом по гарнизонам с ним, по полевым выходам (это братик, конечно, приукрашивает, поскольку только в Венгрии в малолетстве нам довелось с батей в полях «повоевать», но звучит — красиво!) — Мы с братом всю свою жизнь мечтали военными стать, дело отца продолжить, чтобы династия наша военная продолжалась, — (это тоже он привирает, но тоже красиво звучит!) — Поэтому прошу вас зачислить его вместе со мной! Мы не подведём!
Я стою, оторопев, но такую благодарность к брату испытываю! Конечно, часто он меня из всяких передряг выручал, но на этот раз!..

И тут слышу…
Короче, зачислили меня. Спасибо брату.
Но и я его не подвёл — все наряды вместо него в училище ходил и ещё много чем помог ему.
Однако творческая натура в нём всё-таки верх взяла…
А я стал военным.
Секретная операция
АРМИЯ 80-х
Лейтенант Строгий сидел рядышком со своей юной супругой на армейской железной койке. Та скрипела при каждом их вздохе и опасно начинала двигаться на расшатанных металлических ножках при каждом неловком их движении.
Обстановку довольно просторной комнаты, кроме бывалой кровати, вынесшей к этому времени на своих пружинах вес множества солдатских тел, составляли покосившийся деревянный шкаф со скрипучими дверцами, перекочевавший сюда по воле офицерских судеб из далёких советских пятидесятых, пара таких же доисторических, колченогих стульев, квадратный обеденный стол с затёртой до блеска предыдущими жильцами столешницей, и главная достопримечательность комнаты — плита, топившаяся дровами, тоже родом из пятидесятых, а может, и сороковых — кирпичная, крытая тяжёлой чугунной пластиной с двумя чугунными же вьюшками, для усиления или уменьшения её жара — она служила и прекрасной плитой для готовки еды, и, одновременно — печкой — обогревателем в зимнее время.
Недавние жених и невеста, а сейчас — полноценные супруги, лейтенант Строгий и его жена Сашенька, — сидели на кровати, как было сказано выше, рядышком, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу.
— Сашок, а ведь, пожалуй, операция может быть опасной, — задумчиво произнёс лейтенант Строгий.
Юная Сашенька вздрогнула и подняла испуганный взгляд на супруга.
— Нет-нет, ты не бойся, — сразу поспешил успокоить жену лейтенант, но улыбнувшись всё же, не без снисходительности к такой женской её чувствительности, он, впрочем, ещё крепче ласково прижал её к себе. — Ты же знаешь меня — я выносливый, и силёнок у меня на двоих.
Последнюю фразу Строгий выговорил твёрдо, отбросив задумчивость, и Сашенька почувствовала, как под рубашкой напряглись мышцы рук и спины мужа.
— Конечно, знаю, — вздохнула она. — Но всё равно… побаиваюсь. Сборы-то какие суровые. Вон и чемодан ты велел собрать. Даже сухой паёк велел на три дня положить и щётку свою любимую зубную. Это же не просто так?
Она снова испуганно взмахнула ресницами на Строгого.
— Это я так — на всякий случай, по собственной инициативе. У хорошего офицера всегда под рукой всё необходимое для жизни должно быть.
При этом он тоже поглядел на чемодан, лежавший на стуле, и на его лице промелькнула тень горделивой улыбки.
— Видишь ли, Сашок, кого попало на такую операцию не пошлют. Командир лично вызвал меня к себе и сказал, что тут выдержка нужна сильная и терпение требуется при её выполнении. А главное — тщательность подготовки к ней и самое точное её исполнение. А даётся на всё про всё — полдня! Потому и офицер здесь требуется неординарный: чтобы и сам качествами нужными обладал, и бойцов сумел настроить именно на такое отношению к поставленной задаче, и потребовать с них строго мог.
На лице лейтенанта Строгого вновь мелькнула горделивая улыбка.
— Ну, ты-то можешь. Ты — строгий, — согласно кивнула Сашенька, немного успокаиваясь. Она помолчала, всем телом ощущая приятную надёжность супруга, и робко поглядела на его волевой подбородок.
— Только зачем всё же тебе тревожный чемодан? Если на полдня? Зачем тогда я его собирала?
— Глупая! — опять же — с ласковым превосходством — отозвался Строгий. — Тревожный чемодан у офицера всегда готов должен быть.
Он всё так же снисходительно потрепал супругу по тугой щёчке.
— Как советские пионеры. «Всегда готов!» Помнишь?
Лейтенант Строгий мечтательно улыбнулся, видимо, вспомнив не очень далёкое своё советское детство.
Сашенька на мгновение задумалась, вдыхая родной запах рубашки супруга.
— А пионеры тут причём?
— Да я просто так, для усиления смысла сказал.
Строгий легко приложился губами к щёчке жены.
— Видишь ли, зайчонок, командир ничего конкретного про операцию не сказал. Думаю — секретная это информация. Завтра на построении с утра наверняка скажет… Если по тревоге нынче ночью мой взвод не поднимет, — добавил он многозначительно.
— Так серьёзно всё? — затрепетала всем телом Сашенька и крепко обвила шею супруга нежными, но сейчас вдруг обрётшими силу руками, словно виноградная лоза свою опору, чтобы не упасть и не увянуть раньше времени.
Лейтенант Строгий почувствовал восторг. Так любит! Так переживает! Какую же прекрасную девушку он полюбил в своё время! А какая жена! Всем на зависть! И боязливая — тоже неплохо, слушаться во всём его будет всегда.
Каждый раз лейтенант Строгий испытывал восторг, когда его Сашенька вот так вот боязливо трепетала, а он, мужественный и сильный, мог её успокоить и утешить. Однако сейчас он понял, что слишком уж напугал жену. Ещё, чего доброго, к командиру части побежит просить, чтобы его на такую ответственную операцию не посылали. Бывали такие случаи — сам слышал, старшие офицеры рассказывали.
А Сашенька продолжала трепетать и всё сильнее обвивала его шею руками, теснее прижимаясь к его крепкому плечу.
Лейтенант Строгий решил ободрить жену по-своему — строго.
— А ну! — прекратить панику! Я — военный. Офицер. Приказ должен выполнять. Ты же знала, за кого замуж шла.
Сашенька мгновенно перестала трепетать, но объятия свои не ослабила. Она лишь сменила позу, положив подбородок на плечо мужа, и жарко задышала ему в ухо:
— Поклянись, что в пекло не полезешь! Поклянись, что осторожным будешь! Поклянись, что обо мне ни на минуту не забудешь!
Ох, и приятно было это слышать лейтенанту Строгому!
— Клянусь, зайчонок, клянусь. А теперь — пошли на боковую, как отец мой любил говорить — давай спать ложиться. Поздно уже. Может, и правда тревогу ночью объявят.
Спустя десять минут в окне комнаты лейтенанта Строгого свет погас…
***
Ему не спалось. Самые разные чувства бередили душу молодого лейтенанта.
Сашенька посапывала тихонько у него на груди, а мысли возвращали его на месяц назад, когда он только что выпустился из командного училища, сообщил молодой жене о своём месте службы — отдалённом гарнизоне за Уралом, куда он сам и напросился для большей возможности проявить себя с самого начала — и о том, что положенный отпуск отгуливать не намерен.
Его милая Сашенька не возражала. Она никогда ему не возражала. То ли по причине характера, то ли в силу своего юного возраста — ей за неделю до их свадьбы исполнилось восемнадцать.
Не гулять отпуск Строгий решил по одной простой причине: чем раньше других молодых лейтенантов на место службы прибудешь, тем более козырную должность светит получить. Об этом знали все выпускавшиеся. А кроме всего прочего, это давало возможность проявить себя перед командиром части в качестве прилежного офицера, который на службу рвётся, а не в гулянки какие-то пускается после выпуска. Так почему бы ему не воспользоваться этим? Кто знает, может, именно ему — отличнику, смелому и решительному характером, как раз и повезёт?
Сейчас он лежал в тиши — хоть и казённой, зато своей личной просторной комнаты с целой настоящей печкой, — на хоть и казарменной железной койке, зато рядом со своей любимой Сашенькой, — и завтра ему доверят секретную спецоперацию, и он выполнит её на «ура».
О чём же ещё можно мечтать молодому лейтенанту, только-только начинающему свой боевой жизненный путь?
Строгий удовлетворённо вздохнул и погладил тёплую руку Сашеньки, покоящуюся у него на груди, ощутив при этом шелковистость её кожи с одновременным приливом нежности к жене.
«Спать! Не будет, видно, тревоги. Значит, с утра всё ясно станет. Не дрейфь, лейтенант Строгий!»
Он мгновенно погрузился в здоровый, по-молодому — крепкий — сон…
Юная Сашенька не слышала, как утром муж потихоньку собрался и ушёл на службу, прихватив тревожный чемодан, так любовно собранный ею накануне.
***
…Возле гарнизонного склада, куда вот-вот должны были подвезти продуктовые пайки, собралась и жужжала как встревоженный улей — по-другому и не скажешь — разноголосая толпа жён комсостава.
Сашенька застенчиво встала в сторонке, прижимая к груди старенькую авоську.
— Александра, а твой-то лейтенант со своим взводом тоже в спецоперации участвует?
Это была соседка по этажу, — единственная, с кем Сашенька успела пока познакомиться по приезде в гарнизон, — жена прапорщика Маркизова — всегда весёлая краснощёкая казачка Тоня.
Жены комсостава у склада почему-то сначала замолчали, а потом разом заулыбались.
— Тоже… участвует, — только и нашлась, что ответить Сашенька, и густо покраснела.
— Поня-я-тно. То-то я гляжу — с тревожным чемоданом с утра на службу шёл! А ножницы-то с собой прихватил?
Теперь от склада раздался смех.
Сашенька совсем растерялась и крепче прижала к себе авоську.
— У нас у всех мужья по молодости на эту удочку попадались, — тоже засмеялась Антонина и сквозь смех закончила:
— Операция эта секретная, знаешь, как называется? «Одуванчик»! Ножницы в руки — и газоны стричь!
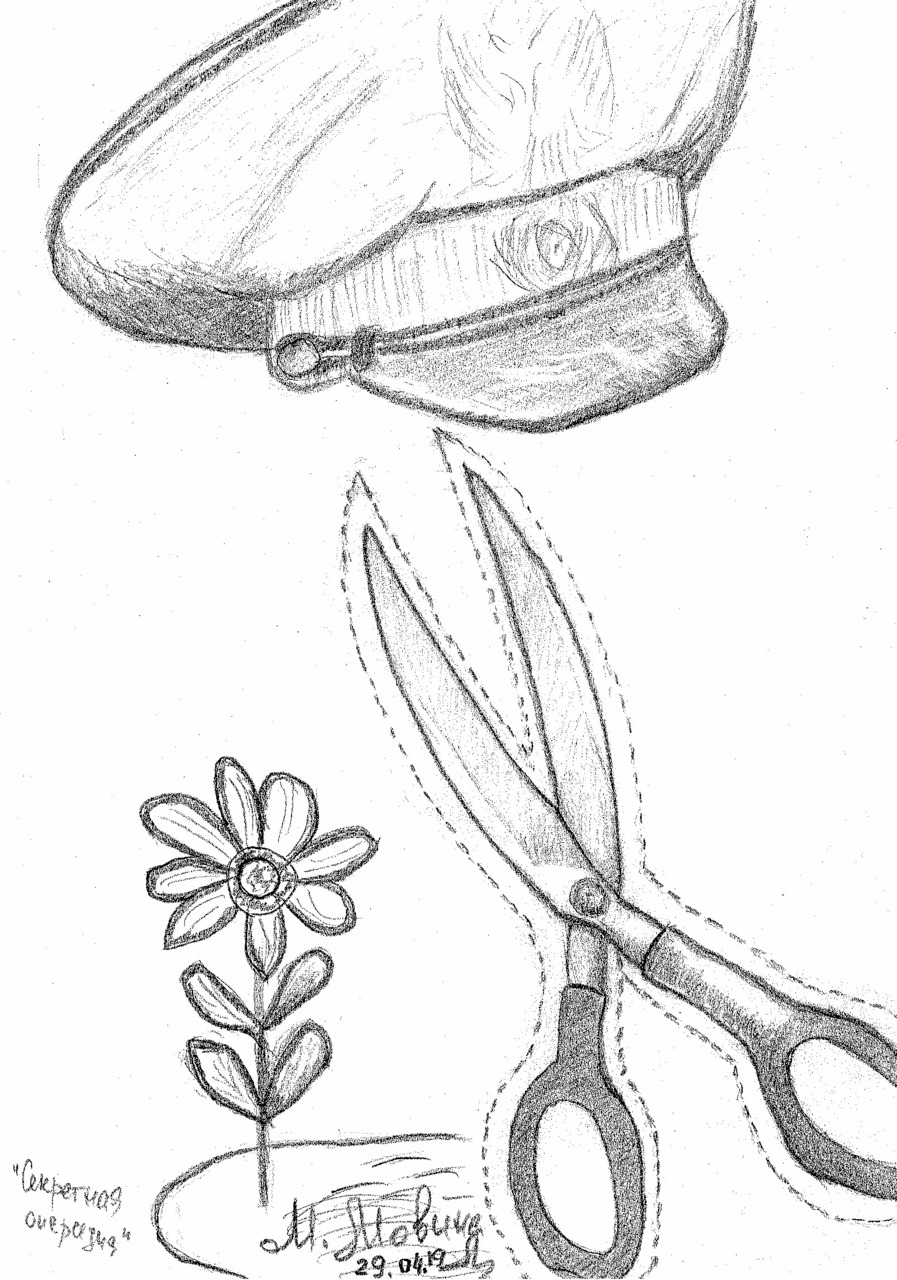
…И закусили
С какой стороны к этой истории подойти — даже и не знаю. Уж очень грустная она. Особенно для нашего российского менталитета.
Но рассказать её очень хочется. Потому что достаточно поучительной она для нас, русских, должна быть. Особенно сейчас, в наши совсем нелёгкие времена продолжения двадцать первого века.
Какие времена нелёгкие, спросите вы? Да уж такие — нелёгкие. Правда, не разруха у нас, не бедствия стихийные большие, хотя и таких в последние годы немало. Но главная особенность наших времён состоит в том, что невзлюбил нас напрочь западный мир во главе с их заокеанским наставником.
Да в принципе, нам и наплевать на это. Только у многих из нас раньше идея такая была — о братстве и дружбе между всеми народами. А теперь она на глазах у всех же нас трещит по швам, и мы вроде как удивляемся этому. Вроде как не ожидали мы такой скаредности и примитивности мышления от западного мира и, к тому же — отсутствия гостеприимства. А кто-то из них, спрашивается, такое гостеприимство нам обещал? И ведь началось-то всё с чего? А с того, что создали мы себе в головах наших такую блажь, как будто они ждут не дождутся, когда мы в их дружную европейскую семью вольёмся, и она, эта семья, что-то вроде того, как бы обнимется с нами и за свой стол европейский, очень даже совсем и не большой, между прочим, усадит. Выпить нам нальют и ещё и закусить поставят. Ага! Раскатаем же, друзья, губу пошире! А ведь раскатали, чего уж теперь шифроваться.
Вот об этом и история моя из середины 80-х, совсем грустная, но теперь, поскольку я был непосредственным участником той истории, в наши новые нелёгкие времена для меня — совершенно понятная. И потому сейчас я живу абсолютно в спокойном состоянии ума и души, и меня ничуть не удивляет такое их западное-американское отношение.
Теперь ближе к теме, то есть — к самой истории.
Произошла эта история в конце восьмидесятых, совсем незадолго до вывода наших войск из всех западных и не западных границ мира. И случилась она в одном небольшом гарнизоне на юге Венгрии, то есть — по географическому местоположению — в южной группе наших войск.
Осень в тот год золотом по всей Венгрии исходилась! Золото и синева. Золото листьев и синева неба. Такого чистого и ясного неба я потом долго нигде не видел! Может, потому что в Ленинград служить меня вернули. А здесь, не то что осенью — летом солнца у природы не выпросишь! Но зато — Родина. Родной край. Я же в Ленинграде и родился.
Но когда же я, наконец, к истории этой грустной подойду! А понимаете ли, в чём дело? — просто снова загрустить не хочется — вот в этом всё дело.
В общем, осенью той невозможно золотой, в один из дней, пошёл слух по гарнизону, что мадьяр какой-то местный в гости к себе будто бы намерился наших офицеров пригласить. На самом деле не какой-то он был, а тот, что скупал у нас в гарнизоне всё подряд, что из Союза мы сюда тарабанили — на одно денежное довольствие не очень-то разбежишься блага братской венгерской лёгкой промышленности приобрести! И, вроде как, хотел он нас всех тем жестом гостеприимным отблагодарить за всё то хорошее, что мы ему сделали за годы сотрудничества. Но не всех, конечно, а только элиту нашу полковую. Командир полка там, начальник штаба, командиры подразделений, но, конечно же, чтобы не ниже майора во всяком случае. От такого избирательного его подхода, небольшое количество нас, офицеров, набиралось. Мне тоже повезло под приглашение это попасть, поскольку я только что досрочно подполковника получил, прекрасно исполняя обязанности командира дивизиона.
Пришёл я домой радостный и стал жене рассказывать об этом приглашении. Что не слух это, а точно — пригласил мадьяр нас! Расписал ей все прелести предстоящей поездки.
Надо, конечно, для лучшего вашего понимания происходящего, уточнить здесь кое-какие детали. Например, тогда мы, честные офицеры на службе у Отечества, по большей части ничегошеньки не знали-не представляли о том, что в то время уже у нас в стране происходило. Конечно, слово «перестройка» и нам было знакомо. Но на своей шкуре мы ещё не успели прочувствовать его, поскольку, исправно неся службу за границей, мы только раз в год, получив очередной отпуск, навещали нашу Родину и родных с друзьями, и потому понятия не имели, что творится у нас, в сердце России. Тем более, понятия мы не имели о каком-то там частном предпринимательстве. Нет, может, пока мы здесь преданно служили, у нас в Союзе тоже уже кто-то этим делом занялся. Теперь мы знаем, что определённо точно такое было. Но тогда! В конце восьмидесятых!
Опять куда-то я не туда пошёл. Очень тяжело мне этот рассказ даётся.
В общем, дело, по словам гостеприимного дружественного мадьяра, который, как оказалось впоследствии, был частным венгерским предпринимателем, обстояло таким образом. Со слов командира полка, правда.
Мы, то есть отборные офицеры части…
Да, главное надо сказать: нас почему-то не удивило совсем, что замполит и особист части ничего уже против не заимели насчёт нашей поездки к тому мадьяру в открытую. До этого такие прямые связи не приветствовались. Мало того, за такие «гости», ещё полгода назад руководство части могло схлопотать чего-нибудь нехорошего. А тут — нате, вам, езжайте! Потом-то, когда через пару месяцев выводить нас начали из-за границы, поняли, отчего и почему тогда такая благосклонность к нам проявлена была.
Но это — к слову.
Значит так, со слов командира: мы, отборные офицеры части, на предоставленном нам пазике, приезжаем к мадьяру на ферму. Не на ферму даже, а на пруды, в которых он карпов разводит. Делает он нам там экскурсию, всё показывает, по угодьям своим ухоженным мадьярским тоже водит, все свои насаждения и цветники показывает, а затем ведёт к себе в большой дом, где и угощает этими самыми карпами в разных вариациях, острыми национальными блюдами, смузи-фрузи всякими и т. д. и т. п. Ну, а до этого и под это, как положено, мадьярские сливовицы всякие, фрёнчи и пиво, охлаждённое до нужной температуры.
Рассказываю я это всё жене, опять же — со слов командира части, а она глазами блестеть начинает, а потом и заявляет, что одного меня туда не пустит — напьюсь я вдруг, а кто же рядом со мной в такую трудную минуту окажется? Я-то понимаю, что и ей самой отведать хлебосольства мадьярского тоже захотелось. Но как я её с собой возьму, если только мужская компания должна быть? Труда мне стоило сделать вид, что не раскусил я её претензии, и уговорить её будто бы, за меня не волноваться. Пришлось на командира части ссылаться, что он-то всему гарант в таких делах, хотя с нами и не поедет, как позже выяснилось. Может, и к лучшему на самом деле… что не поехал.
Так вот. Это днём было. А выезд тот к вечеру намечался… часов так в шесть. Поскольку неимоверное количество блюд, по слухам, нам предстояло испробовать, никто из нас ужинать дома не стал. Зачем пайковыми продуктами аппетит портить? Ну, а дальше произошло всё, как и было обещано командиром полка: подогнали нам пазик к КПП, загрузились мы в него в возбуждении неимоверном и поехали.
Ехать не так уж и далеко было. Приехали, встретил нас тот мадьяр-друг, малюпасенький такой, можно сказать — плюгавенький, лысенький, и нос у него крючком над губой навис. Я ещё подумал тогда: «Плюгавенький-то плюгавенький, да, видно, не мешает ему это фермы и угодья всякие пышные иметь». А потом смотрю пристальнее — а глаза у него острые, взгляд пронзительный и прямо внутрь тебя пронзает. И холодный. Хотя и улыбается всё время сам мадьяр. В этот момент и просечь бы мне, ну, или нам, например, всем, что не так всё просто с ним, что себе на уме этот друг наш. Но мы же наивные, хотя и военные. Потому что русские. Мы же весь мир по себе судим.
…Хорошо, что теперь уже — не по себе…
А тогда совсем по себе судили.
Короче, повёз он нас всей гурьбой по фермам своим, по заводям карповым, по угодьям.
Вначале, на нашем же пазике, привёз нас на поле сельскохозяйственное. А там! Мама родная! Мешок за мешком вряд — перцы красные, жёлтые! Помидоры спелые! Огурцы! Нас, конечно, обширность его богатств частных и количество продовольствия перед глазами просто в трепет самый настоящий привела! Кто из колхозов-совхозов в войска через училища военные попал, те просто глаза повылупили, шепчутся, что у них в совхозах-колхозах такой обширности угодий не наблюдалось даже.
Ходим, смотрим, а это всё продовольствие зрелое прямо в рот просится! Так и хочется к мешку подойти и пару штук чего-то из него с собой прихватить. Ждём, что сам хозяин предложит. Не предлагает. Дальше везёт нас с экскурсией. Мы только переглядываемся растерянно. Но! Хозяин — барин, как говорится.
Приезжаем к воротам каким-то невысоким, а за ними — сад плодоносный! А дело уже совсем к вечеру полному идёт! Время полноценного ужина уже подошло. А он завёл нас в сад и давай водить между деревьями плодовыми! И рассказ ведёт о своих угодьях. А ветки с плодами — яблоками, грушами, сливами, шелковицами разными — низко повисли, чуть ли не по головам нашим бьют, и плоды — вот они — руку только протяни!
Чувствуя я: слюноотделение во рту голодное началось, и под ложечкой сосет все сильнее. Смотрю на офицеров наших. У них тоже взгляд у всех не такой весёлый на эти плоды. Но пристальный. Понимаем уже, что предложения насладиться плодами этими от радушного хозяина не последует. И вот мы слюни глотаем, а хозяин наш гостеприимный дальше нас везёт. Теперь уже на пруды.
А уж пруды карповые! Ровненькие такие квадратики водные, друг от дружки натуральным деревом отделённые! И квадратиков тех — большое количество, сколько глаз видит. Блестит их водная гладь на заходящем в закат мадьярском жарком солнце, как чешуя серебряная на нашей плотве!
Начал подводить нас экскурсовод-хозяин к краю каждого такого прудика и пальцем вниз тыкать, смотрите, мол, на моих карпов. А карпы такие жирные! Я за всю свою жизнь ни до того, ни потом таких жирнюг не видел! — мы же понятия не имели тогда, что он их специальными средствами специфическими для этого кормит! И вот ходим мы с тоской голодной в животах — а всё-таки удивляться культурно продолжаем, восхищённо так — прямо до неприличия. Впереди-то ужин знатный предвидится! Почему же не повосхищаться ещё немного, хозяина радушного не поублажать, хотя и натощак пока! Знали бы, чем для нас всё это закончится — ни за что бы так не восхищались! Больше того я вам скажу: ни за что и по квадратикам тем ходить не стали бы, а не по культурному бы просто дёру оттуда дали! А вот ходим и восхищаемся. Во-первых, культурные мы, офицеры всё же. А во-вторых, а может — тоже — во-первых, — потому что, конечно же, уже этих карпов жареных и запеченных на столе у хозяина видим, и даже некоторые из нас, прямо видно это, во рту тот их вкус необыкновенный чувствует.
И вот водит он нас так и водит. А мы всё восхищаемся. А уже солнышко село, ночь наступает звёздная венгерская. Карпов уже плохо в тех квадратиках стало видно. И даже время ужина давно прошло.
И, по правде говоря, уже так кушать хочется! Прямо говоря — просто жрать! Не до карпов-шмарпов его! Крошку хоть какую в рот бы бросить! Но мы же советские люди, тем паче — офицеры! В дружественной к нам стране находимся. Потому восхищаться продолжаем, но уже не так рьяно. Переглядываемся, что очень уже животы подводить у всех от голода начинает. Некоторые между собой шёпотом сетуют уже, что зря, по-видимому, дома пайком не отужинали. И время совсем уже не детское — на часах за полночь! Но, думаем, перешептываемся потихоньку культурно, может, уговор у них такой с супругой — подольше нас поводить, чтобы она там стол пошикарнее накрыла.
И вот в этот самый мрачный уже момент нашего посещения гостеприимного мадьяра, он просит нас любезно к дому своему богатому пройти, и мы, в ответ на его гостеприимство, уже не прогулочным шагом идём, а ходу дали вперёд по-настоящему, хозяина обгонять начали. Но потом всё-таки шаг попридержали.
И вот подходим всей гурьбой голодной к дому богатому. Двухэтажный. Каменный. С верандами. Фонарики вокруг путь к нему освещают. Цветник пышный перед входом с двух сторон. Но нам уже не особо до всей этой дружественной роскоши. Нам бы поесть. Даже уже не выпить.
Хозяин дверь дружелюбно распахивает перед нами, сквозь прихожую широкую ведёт. Мне чудится, что войдём мы сейчас в гостиную большую светлую, где посередине неё стол стоять будет изысканный (может, и не изысканный, но полноценный), с напитками разными мадьярскими и кушаньями сытными. Мы-то, русские-советские, так ведь гостей у себя встречаем. Особенно, если иноземцев. А тут — мы же дружественные войска. И идём мы так вслед за хозяином, а даже не замечаем, что дом какой-то, вроде, не жилой. Ну, потому что ни жены его не видать, ни детишек. И главное — запахи простые какие-то, жилищные, вроде как пищей и не пахнет. Может, думали тогда о своих желудках очень изголодавшихся и очарованием обещаний жили, которые, по сути, никто нам не давал. Говорю же — по себе русский человек весь мир измеряет!
За то и поплатились мы.
Открывает наш друг дорогой мадьярский следующую дверь…
Поначалу не поняли мы ничего, особенно последние, которые в спину начали передним упираться. А те, передние, на пороге остановились и ходу вперёд не дают. А мадьяр рукой приветливо пройти их приглашает.
И вот заходим мы всей гурьбой изголодавшейся в этот… Не знаю, уж как и назвать это помещение, чтобы мадьяру тому сейчас не обидно стало, если прочитает эту мою грустную повесть. Кладовая — не кладовая, правда — обширная, чулан — не чулан, опять же — просторный. Темненько так. Лампочка только одинокая под потолком еле тлеет электрическим током…
Сейчас вот подумал, что, может, с голодухи таким неприветливым мне всё тогда показалось?.. или уж от последствий тех, потрясших меня физически, картина увиденного по сей день перед моими глазами такая…
Как бы то ни было — под ней, лампочкой той еле живой, стол небольшой кругленький стоит…
Нет, до сих пор не могу тот стол вспоминать — сразу судороги голодные, и даже, простите вы меня — рвотные, от голода начинаются в желудке у меня…

Ну ладно. Так вот.

А на столе том, прямёхонько по самой серёдке, под лампочкой той электрической, огромная пузатая бутылка сливовицы мадьярской — по-нашему просто типа — самогонка ихняя — стоит, а вокруг неё — стопари, стопари, стопари… вкруг хороводом.
И всё. Больше ни-че-го-ше-нь-ки! Ни даже крошки никакой, хотя б и засохшей, случайно брошенной!
Никогда не забуду лица своих друзей-однополчан в тот момент времени! И даже описывать лица эти не возьмусь. У самого такое же было.
И вот возьми ты русского человека за рупь двадцать — не верим же своим глазам! Да не может быть, чтобы стопариком сливовицы той невзрачной на вкус всё дело и закончилось! Наверняка шутит так товарищ мадьяр! Где же карпы, фрукты-овощи и т. д.? Своими же глазами видели продовольственное его изобилие!
А тот друг наш, хозяин радушный, улыбается приторно так и водяру ихнюю по стопарям разливает и в руки каждому из нас суёт. И что вы думаете?! Пьём мы эту гадость на голодный желудок, давимся, но пьём! И даже рукавом занюхать стесняемся! Как будто так вот всю нашу жизнь русскую без закуся, как западник последний, пили! А желудок голодный от водяры той так и сводит. И я чувствую, что сейчас меня и стошнить от этого может…
Не помню дальше, что было. На том все мои воспоминания заканчиваются. А, нет! Ещё улыбающееся гостеприимное лицо того крючконосого дружественного мадьяра помню, и его руку приветливую, которой он нас всех очень приветливо-радушно от стола того приглашает к пазику нашему пройти… и потом в пазик нас сажает… и в ночь тёмную едем мы. К своим женам и пайкам. И молчим всю дорогу. И потом, до конца службы совместной, молчим об этом друг с другом.
Ну, а кому же интересно о себе в неприличных обстоятельствах побывав, вспоминать?
Так вот поэтому, живу я сейчас со спокойным разумом и душой, наблюдая скаредность и узость мышления наших западных «партнёров».
И вы не удивляйтесь и живите спокойно.
И тогда, точно, будет у нас всё хорошо.
Ах, эта сладость грёз!
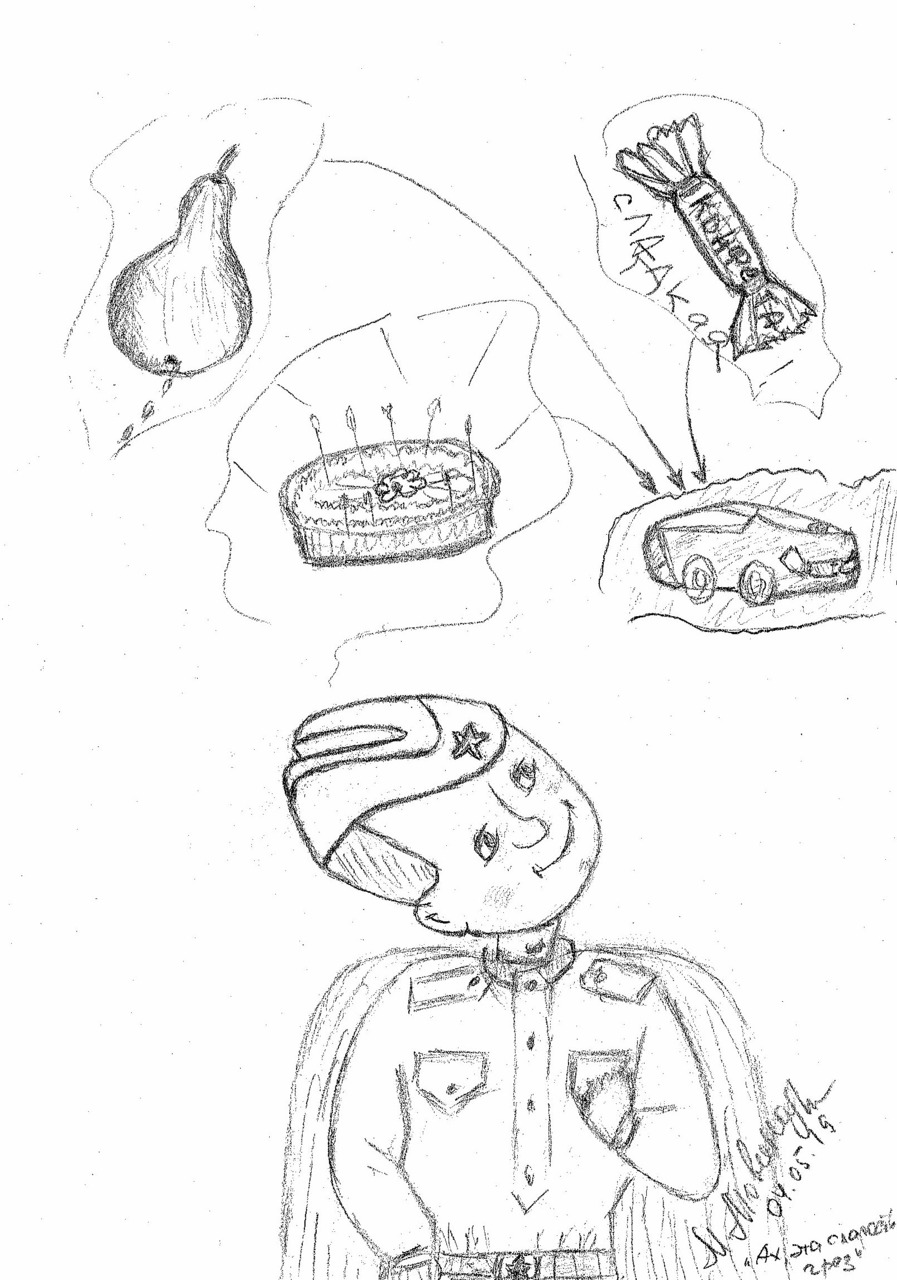
АРМИЯ 80-х.
Рядовой Кисочкин внутренне ёжился от утренней свежести.
Построение. Взвод на гарнизонном плацу.
Бетонный, квадратный и строгий, плац стелится усердно выутюженным, сероватым, ещё не выбеленным, льняным холстом с чёткими и такими же строгими квадратами, обозначенными на нём белой масляной краской. На высоком флагштоке горделиво реет красный стяг.
Чтобы не так дрожать по утрам, рядовой Кисочкин выработал очень полезную привычку: он научился предаваться мечтам вот так вот — прямо стоя на плацу.
Сейчас он представлял себя сидящим на берегу неглубокого озерка, сотворённого самой природой посередине их деревеньки. Он наслаждался солнцем, искрящимися его бликами на поверхности воды и ощущением легкой истомы во всём теле. А как же! Прямо перед ним несколько девчонок из его класса, в модных городских купальниках, плескались в воде, брызгались друг на дружку и, картинно закидывая головы вверх, громко смеялись, стреляя глазами именно в него! Хотя вокруг было много других парней.
Рядовой Кисочкин чуть было не открыл рот, чтобы засмеяться от удовольствия, но в этот ключевой момент радости услышал требовательный голос лейтенанта:
— У кого есть водительские права? Водитель для машины требуется.
Ефрейтор Прыщ, как всегда, не удержался и задорно выкрикнул:
— Машина-то хорошая?
— Разговорчики в строю! — притушил его лейтенант, но тут же снисходительно прищурился, обвёл взглядом строй и успокоительно произнёс:
— Хорошая. Очень хорошая.
И выждав паузу, переспросил:
— Так у кого водительские права имеются?
Кисочкин окончательно очнулся от грёз. До него вдруг дошло, что он-то как раз права и имеет! У них в совхозе всех ребят на трактора сажали — по учебной программе требовалось. Девчонок домашним премудростям на уроках труда учили, а их — на трактора. Кроме того, до армии, он ещё успел и права получить — спасибо, отец надоумил.
— У меня есть, товарищ лейтенант! У меня!
Рядовой Кисочкин даже чуть вперёд выдвинулся, чтобы командир сразу его заметил и никого другого не выбрал. Другие, правда, и не встревали.
Лейтенант внимательно поглядел на Кисочкина и с сомнением в голосе покачал головой:
— А потянешь? Хороший водитель нужен — машина больно важная.
— Потяну, товарищ лейтенант! Сами увидите!
Кисочкина просто распирало от желания свалить с этого плаца, с подстрижки ножницами газонов вокруг него и вдоль дорожек городка и, не дай бог, ещё и работы на свинарнике части — он-то уж у себя в совхозе напахался!
— Так и быть — поверю тебе, Кисочкин, — всё ещё с видимым сомнением кивнул лейтенант. — Сержант, ставь задачу бойцам, а мы с рядовым пройдём к месту его основных обязанностей на сегодня.
Кисочкин ощутил прилив сил и почувствовал, как тело его освободилось от оков холода. Утро уже не казалось ему таким сырым и промозглым, день виделся солнечным, а командир стал близким и родным.
— Ну, что, боец, шагай за мной! — и, развернувшись, лейтенант направился в сторону КПП.
«Вот повезло! — радостно подумал Кисочкин, — так повезти может не каждому. Вот будут ребята корячиться над газонами, на огороде пахать, а то — свинарник чистить. А мне — машину! Может, даже не грузовую, а легковую! Может, жену командира куда повезти надо? А может, не просто легковую, раз жену, а иномарку!? А что? Я и на иномарке могу — председателя ведь возил по полям? Нет, не жену командира, а самого командующего! А что? Может, водитель его приболел, или ещё чего? А тут я с правами. Лейтенант же сказал — „хорошая, очень важная машина“. Может, он имел в виду и не машину вовсе, а командующего!»
У рядового Кисочкина захватило дух от таких радужных перспектив.
«А ещё лучше — понравлюсь я командующему, и возьмёт он меня к себе личным водителем. Напишу в деревню — обзавидуются все!»
Разворачивая перед внутренним взором всё более ослепительную картину своих успехов, он не заметил, как лейтенант уже свернул в сторону от КПП, и что сейчас они идут к задним воротам части.
— Ну, вот. Пришли, — вдруг услышал Кисочкин, всё ещё находясь в плену прекрасных видений, и от неожиданности чуть не натолкнулся на спину остановившегося лейтенанта. Оглянулся — и туман сладостных грёз начал оседать: вокруг пластались низкорослые хозпостройки части, за которыми виднелись её задние ворота. Вот свинарник, вот котельная. Горы чёрного шлака.
Ни одной машины.
— А… машина где? Ну, та — хорошая? — растерянно пролепетал рядовой Кисочкин.
— Как где? А вон она, родимая. Стоит, тебя дожидается.
И лейтенант указал на помятую и грязную строительную тачку.
— Значит так, боец! Слушай мой приказ: перевезти за ворота весь шлак к обеду! По окончании — доложить!
Переводчица
АРМИЯ 90-х
Готовился я тогда к своему первому, по-настоящему ответственному, наряду.
Полгода уже прошло с тех пор, как молодым, только что выпустившимся из училища лейтенантом, прибыл я на остров Сахалин — к месту службы, которое, как считал, должно было стать для меня настоящим трамплином в моей военной карьере.
Нет, ничего такого особенного я себе не воображал — отец, подполковник запаса, — во многом просветил меня. От него я узнал, что главное для достижения успеха — это просто служить на совесть, и «тебя заметят». Это он так говорил. И его слова не разошлись с его делами: должности у него всегда шли впереди очередных званий. Потому его успешный служебный опыт и заветные слова сопровождали меня, начиная с первого курса училища и по сегодняшний день. Я, действительно, старался хорошо служить, не бегал бегом от ответственности и проблемы с личным составом разрешал самостоятельно. В результате такого старательного поведения, довольно быстро стал я числиться на хорошем счету у командира части.
Но, как и всем молодым лейтенантам, мне пришлось, всё же, последовательно карабкаться по всем ступенькам служебного доверия командира, и в конце концов готовился я тогда к самому ответственному наряду — мне, наконец, было оказано мощное поощрение — приказано было заступить помощником дежурного по части — помдежем, проще говоря.
Надо сказать, к этому наряду я шёл целых полгода. Вначале меня выпускали, как и всех «зелёных» офицеров, ходить в наряды по КПП. Это самые простые и лёгкие наряды. Затем было дано согласие подняться на следующую ступень — и начал я ходить в караулы, а к этому наряду совсем другое уже отношение, этот наряд — не хухры-мухры! Здесь уже — бойцы, оружие, полдня подготовки. Но ежели всё нормально, то есть — всё спокойно в военном королевстве, то и наряд — одно удовольствие.
И уж совсем другое дело — помдеж! Ответственности на тебе — полные погоны — вся часть! И, как правило, ставят в него только командиров рот и не ниже старлея — старшего лейтенанта, то есть.
Но я в данном случае получил мандат доверия вне очереди, так сказать, и очень гордился этим, посему подошёл к этому со всем своим старанием, и к наряду начал готовиться, как… как, можно сказать… если сравнить… — как Наташа Ростова к своему первому балу.
Во-первых, по Уставу перед нарядом полагалось выспаться. Но я-то знал, что все офицеры «забивали» на это. Кто в киношку бегал, кто с подружкой встречался, а семейные — жёнам и детям это время посвящали. Но я решил строго следовать Уставу во всём! Потому добросовестно вылежал с закрытыми глазами положенные часы (спать не мог — сильное волнение испытывал), затем с особой тщательностью нагуталинил и после этого до шикарного блеска надраил сапоги; попытался отпарить китель, но понял, что без гладильной доски только всё испорчу — потому ограничился утюжкой лацканов и отпариванием погонов. Зато старательно выгладил рубашку и с усердием запарил «стрелки» на брюках.
Я даже с утра выстирал галстук! А то на узле он уже начал засаливаться.
Каждую складочку и щетинку на лице я вылизал электрической бритвой до небывалой гладкости, и, таким образом, отполировал его, обветренное в суровых Сахалинских зимних условиях, — после чего, ради наряда, с мазохистcким удовольствием вылил на него целую пригоршню лавандового одеколона, хотя знал, что щипать будет до пульсирования крови во всех частях тела. Так разве доверие командира не стоит того?
К положенному времени, приведя себя всеми описанными ранее действиями в полную боевую готовность — выбритый, отутюженный, нагуталининый, благоухающий лавандой и хрустящий новенькой портупеей — я поспешил в штаб, где располагалась полковая дежурная часть.
Развод на наряд прошёл без сучка без задоринки.
И вот я уже полноценный помдеж!
И дальше пошло у меня всё как по маслу.
Сижу я в «аквариуме» — это такая комнатка при штабе, где вместо стен — окна, — то есть, для обзора лучшего всего вокруг; пульт дежурного по части передо мной (самого дежурного в караул вызвали), и на пульте том, мама, не горюй! — лампочек, кнопочек, тумблеров! И все они такие ответственные и важные! И надписи всякие тоже важные и суровые над ними — «Тревога», «Внимание», «Не включать!» И прочее, и прочее. И вся сама обстановка до того напряжённая! Периодически звонки значительные приходят с докладами от дежурных разных — с КПП, из караула, — и даже из дивизии звонят.
И вот сижу я весь в напряжении, чтобы чего особенно важного, доклада, например, какого-то тревожного не упустить, и чувствую такую гордость! Это же надо!? Весь полк на мне! А я всего-то лейтенант «зелёный»! Значит, действительно, большое доверие есть ко мне у командира полка. Но не то чтобы возношусь я от этого очень, нет, такого нет, а — приятно всё ж. И самое главное — не подвести это доверие командирское очень хочется!
Мысли мыслить такие мне ничто не мешает: ни глубокая ночь, ни кромешная темнота и вой вьюги за окном, ни гул пульта, ни расшатанный стул подо мной. Сижу себе. Службу несу.
Принимаю очередной доклад от дежурного по КПП, своего дружка, лейтенанта Стычкина:
— Командир приехал, — докладывает он, как положено, — сурово, и вслед за тем, слышу от него вполголоса доверительное, — навеселе.
— Понял, — отвечаю, и вешаю трубку.
Продолжаю службу нести. Несу так примерно минут двадцать.
И тут раздаётся новый звонок с телефона. Смотрю, а это как раз тот телефон, посредством которого через коммутатор невидимая связь с жилой зоной гарнизона протягивается.
Не волнуюсь. Снимаю трубку. Докладываю как по Уставу положено: помдеж по части такой-то и так далее. Закончил докладывать, а в трубке и в моём ухе — полная тишина. Чувствую — волнение по членам моим пошло.
«Кашлянуть? — думаю, — что ли? Может, ночью спросонья кто по ошибке в коммутатор голос свой отправил?»
Только так подумал, как в ухо мне рёв раздался и такой силы, что мембраны в ухе и в трубке телефонной одновременно начали вибрировать! Ревёт кто-то нечленораздельно в трубку, точно тигр раненый или медведь, может, добычу на части разрывающий!
Я как стоял по стойке смирно, так и окаменел в ней! А трубка ревёт!
Но всё же я офицер, военный, и на службе к тому же, потому мысль возвращается в мою голову, и она такая: «Кто звонит?»
И здесь, скажу я вам, начинает до меня доходить, что тембр (немного я в своё время в музыкальной школе обучался, потому термин мне этот — «тембр», сразу в голову пришёл), — так вот тембр рёва этого, больно голос, хотя и отдалённо, командирский — командира полка, напоминает. Я даже весь похолодел! Ведь что сказать мне командир силится — не пойму. От этого ещё страшнее делается — доверие терять вот так сразу, на первом ответственном посту, не хочется. Стою и трясусь. И тут рёв прекращается, и слышу я совсем отчётливо — «…!» И главное, с растяжкой смачной так на букве «с» оно сказано! Так: «С-с-с-су — а!» И восклицательный знак в конце слова этого, всем нутром чувствую — лично для меня, ставится, и — жирная точка под ним — как приговор! И сразу — хлоп-щёлк — и гудки, гудки… так мелодично побежали друг за дружкой…
Стою навытяжку. Смотрю на трубку. Потею. Трубка гудками дразнит. Чувствую — губами шевелить беззвучно начинаю.
И тут первая мысль в голову шибает — дежурному в караулку звонить!
Стоп! А что скажу? Что скажу?! Не кину же я ему, старшему по званию, прямо вот так вслух, это слово! …И что оно на самом деле значит, обращённое ко мне?
Продолжаю потеть, и доходить до меня начинает, что раздумывать времени нет — самостоятельно принимать решение срочно надо — вдруг с боевой готовностью в части что-то связано, может, по тревоге поднимать её надо?
И тут вторая — спасительная — мысль: «На коммутаторе, может, знают, что командир сказать хотел», — и я набираю коммутатор.
Коммутатор отвечает мне милым девичьим голосом. Он говорит, что меня слушают. И я, цепляясь за этот голос как за последнюю соломинку, заискивающе так, спрашиваю у него, а не знает ли милая девушка, по какому поводу сейчас командир полка в штаб звонил. И милая девушка (конечно же, слышавшая от начала и до конца всё, что проревел мне командир), и потому голосом, ставшим до предельной невозможности ещё более милым, и, можно сказать прямо — просто сладким, произносит:
— Командир приказал разбудить его ровно в шесть.

Мечтатели
Старый поселковый пазик трясло и кидало из стороны в сторону на заезженной грунтовой дороге. Вместе с ним трясло и кидало нас — его пассажиров, отдавших свои бренные тела этому допотопному чудовищу в неуёмном стремлении вкусить блага цивилизации в районном центре.
Надо сразу предупредить читающего эту удивительную сагу, что время действия было — конец 90-х, и мы с приятелем совсем не за сомнительными благами цивилизации в райцентр тряслись. Но об этом чуть позже.
А сейчас — о нас с ним. Это важно.
Ну вот.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
