
Бесплатный фрагмент - Анатомия памяти
«Анатомия памяти» — это интеллектуальный триллер на стыке научной фантастики, истории и этики, в котором современность сталкивается с призраками прошлого, а наука — с нравственным выбором.
Молодая журналистка Анна из Сан-Франциско по заданию редакции отправляется в Вену, чтобы подготовить материал о медицинских инновациях. Однако найденный её подругой Александрой Шварц в архиве анатомический атлас времён Третьего рейха переворачивают её представления о науке, человеке и памяти. Иллюстрации в атласе — не просто изображения. Это следы преступлений, совершённых в тайных лабораториях, подпитываемых идеологией превосходства и жаждой бессмертия.
Научный след приводит Анну и Александру к закрытому братству «Кадуцей», унаследовавшему архивы и технологии нацистской медицины. Когда в игру вступают двое братьев — гениальные исследователи, способные «считывать» информацию из ДНК умерших — раскрываются трагические истории жертв, в том числе одного, чьё имя оказывается связано с самой Александрой.
Постепенно линия расследования превращается в драму нравственного выбора: может ли наука, даже спасая жизни, строиться на преступлениях? Что происходит, когда мы получаем доступ не только к телу, но и к памяти? Где проходит граница между прогрессом и вторжением в чужую сущность?
Финал романа — кульминация технологического, личного и исторического откровения. Проект, начатый Пернкопфом в прошлом, получил развитие в будущем — но в руках героев оказывается шанс восстановить справедливость. Хотя бы посмертно. И возможность открыть будущее…
Жанр: научная фантастика, исторический триллер
Темы: этика науки, тайны Второй мировой войны, генная память, историческое расследование
Для читателей, которым интересны: книги в духе «Код да Винчи» Дэна Брауна и научно-исторические триллеры.
От издателя
Страдания жертв учёных-нацистов напоминают о страшных последствиях безудержных амбиций и о пугающей лёгкости, с которой научный прогресс может быть превращён в орудие угнетения. Эта работа посвящена их памяти, их стойкости и является призывом к постоянной бдительности, чтобы предотвратить извращение научной честности. Она также посвящена тем, кто боролся против несправедливости, рискуя жизнью, чтобы защитить слабых, и тем, кто неустанно стремится раскрыть и донести историческую правду, чтобы уроки прошлого не были забыты. Их преданность справедливости и истине вдохновляет нас всех противостоять тьме и стремиться к светлому и справедливому будущему. Их мужество — это путеводный маяк, указывающий на мир, где научный прогресс всегда сопровождается состраданием и моральной ответственностью, где стремление к знаниям никогда не идёт вразрез с человеческим достоинством. Это — для них, для их несгибаемой силы, неугасающего духа и вечного наследия надежды.
Создание этого романа стало не только путешествием по созданию увлекательного повествования, но и столкновением с тяжёлой исторической правдой и сложными этическими дилеммами. История Эдуарда Пернкопфа и его анатомического атласа, отчасти вымышлена, отчасти основана на мрачной реальности научных злоупотреблений в эпоху нацистского режима. Обширные исследования истории анатомии, ужасы Холокоста и современные технологии виртуальной реальности легли в основу этой работы. Цель состояла в том, чтобы найти хрупкий баланс — переплести захватывающее повествование с уважением к историческому контексту и его моральным сложностям. Этические вопросы, поднятые действиями Пернкопфа — использование человеческих тел для научного прогресса, соучастие одних и молчаливое страдание других — не ограничиваются прошлым. Они находят отклик в современных дебатах об использовании чувствительных данных, возможных злоупотреблениях технологиями и об ответственности, которая сопровождает научный прогресс. Этот роман стремится не только развлекать, но и побуждать к размышлениям и дискуссиям на эти жизненно важные темы. Надежда заключается в том, что через призму художественного вымысла мы сможем лучше понять прошлое, осмыслить настоящее и сформировать более этичное будущее, где инновации всегда будут руководствоваться моралью.
На пороге 1937 года Вена, город, окутанный тенью восходящего нацизма, становится местом, где амбиции сталкиваются с моралью. Эдуард Пернкопф, блестящий, но безжалостный анатом, одержим желанием создать выдающийся анатомический атлас. Ради своей цели он устраняет еврейских коллег и достигает престижного положения. Однако за его детализированными иллюстрациями скрывается ужасающая правда: они основаны на телах жертв нацистов.
Десятилетия спустя, в современной Вене, талантливая анатом Александра Шварц случайно находит оригинал печально известного атласа Пернкопфа и решает исследовать его истинное происхождение. К ней присоединятся её подруга американская журналистка Анна. Это открытие запускает череду личных откровений: Александра понимает, что её прадед был одной из жертв Пернкопфа. С помощью технологий виртуальной реконструкции она стремится раскрыть истории жертв и одновременно осмыслить тёмное наследие своей семьи. Иллюстрации атласа оживают в трёх измерениях, а лица и истории жертв становятся частью её исследования.
Роман переплетает настоящее Александры с воспоминаниями о жизни Пернкопфа, показывая его постепенное падение в моральную пропасть. История затрагивает судьбы жертв, описывает их уникальные личности и ту системную несправедливость, которой они подверглись. Это рассказ о семейных тайнах, исторической справедливости и неугасающей борьбе с бездушием науки. Это история, заставляющая задуматься об ответственности учёных, важности памяти и непреходящей силе человеческого духа.
Находка в архиве

Вена встретила Анну солнцем, гомоном туристов и изумительным запахом кофе. Она пересекла площадь и почти сразу нашла кафе «Аида», где Анна условилась встретиться с Александрой, её новой подругой со времени конференции в Стэнфорде.
Башня собора Святого Стефана возвышалась на фоне голубого неба. Площадь бурлила жизнью, а аромат свежемолотого кофе и выпечки смешивался с элегантным звуком фиакров на мостовой.
Скрипач с аккордеонистом играли Штрауса. Музыка текла между столиками, перемежаясь звонким смехом и негромкими беседами. Официанты лавировали между столиками, ловко балансируя подносами с эспрессо, штруделем и хрустящими круассанами.
Вена жила в своём неспешном ритме — здесь люди могли часами сидеть за одним капучино, лениво уткнувшись в телефон или просто наблюдая за жизнью на оживлённой площади.
В кафе «Аида» на площади Святого Стефана витал тёплый аромат свежей выпечки и крепкого кофе.
На открытой веранде Анна огляделась, задержав взгляд на столике в углу. Александра уже ждала её, задумчиво помешивая ложечкой свой остывающий кофе.
На ней был тёмно-серый жакет поверх светлого свитера, а волосы были собраны в небрежный пучок. Перед ней лежал раскрытый блокнот, но, увидев Анну, она тут же его закрыла и поднялась.
— Willkommen in Wien, Fräulein Lebedewa! — Алекс по-немецки приветствовала подругу.
— Vielen Dank, Fräulein Schwarz! — в том же тоне поддержала приветствие Анна.
Подруги рассмеялись и тепло обнялись, будто не виделись годами.
— Алекс, ты встречаешь меня как на дипломатическом приёме.
— У нас здесь всё немного… официальнее, чем в Сан-Франциско.
— Да, я уже заметила. За последние три часа я услышала слово «фройляйн» больше, чем за всю свою жизнь. — Анна рассмеялась.
— Ничего, Аня, привыкнешь. Садись. — улыбнулась Алекс.
Анна скинула с плеч лёгкую, но стильную куртку — удобную для перелёта, но достаточно элегантную, чтобы не выглядеть туристкой. Она выглядела немного уставшей после долгой дороги, но яркий шёлковый шарф добавлял свежести её образу.
Пока Анна устраивалась в удобном кресле, Алекс спросила:
— Как долетела, Аня? Как поживают твои родители? Денис и Настя? А бабушка Ирина и дедушка Коля? Они такие очаровательные и гостеприимные люди. Без их помощи я никогда бы не узнала так много о Сан-Франциско и его окрестностях. А озеро Тахо — это вообще жемчужина!
— Спасибо, долетела вполне благополучно, над Гренландией немного потрясло. Папа с дядей Димой днюют и ночуют в лаборатории. Дядя Дима последнее время потирает руки. Ну ты помнишь эту его привычку, когда у него получается что-то интересное?
Мама хлопочет по дому и воспитывает брата Андрея. Он подчас так невыносим. Дедушка накатывает на велосипеде по 15 миль в день и пишет какую-то книгу. О чём — не говорит, а бабушка Ира пропадает в спорт зале. Они готовятся к очередному круизу.
— А как твои дела в личной жизни, Аня? — продолжала расспросы Алекс, — ты ещё встречаешься с тем спортсменом-волейболистом, я забыла его имя.
— Нет, всё это в прошлом. Я свободна теперь, как никогда прежде! — рассмеялась Аня.
Анна оглянулась, осматривая площадь.
— Знаешь, что забавно? — беспечно сказала она, — В Сан-Франциско ты жаловалась на холмы, а здесь — идеальная плоскость, никаких препятствий.
— Только если не считать бюрократии.
Они опять рассмеялись. Официант поставил перед Анной чашку с кофе.
— Вот это да, вот это настоящий кофе! — Анна пригубила напиток, прикрыла глаза от удовольствия и вдохнула аромат.
— А ты что пила там, в Сан-Франциско?
— Теперь я понимаю, что там была вода с кофеином по сравнению с этим замечательным венским напитком.
Анна улыбнулась и сделала глоток.
— Аня, ты выглядишь отлично — словно не пересекла только что океан и два континента. Ты сообщила мне о своей поездке, и я рада встретить тебя здесь, в Вене.
— Спасибо, Саша. После твоего интервью в Chronicle редакция меня просто затравила — требуют продолжения! И дело не в том, что тема вашего с доктором Маркусом Бауэром исследования была принципиально новой, а в том, что твой подход к ней вызвал неподдельный интерес.
Редакция предложила мне более детально ознакомиться с вашими исследованиями в области создания потенциально бессмертных людей, прости моё журналистское определение. Редакция пообещала опубликовать мою следующую статью, если та окажется такой же увлекательной, как твоё интервью.
Ты же знаешь, что я работаю фрилансером и не связана редакционной политикой — могу изложить материал так, как вижу его сама. Но это имеет и обратную сторону: все расходы ложатся на меня, — усмехнулась Анна.
Беседа велась на английском языке, которым обе девушки великолепно владели в дополнении к их родным языкам: немецкому — у Александры, и русскому — у Анны.
В кафе, среди шума площади, Анна и Александра сидели за столиком у края веранды. Две подруги, разделённые океаном, но в эту минуту столь близкие, как будто и не разлучались.
Анна, американка с русскими корнями, только что заказала штрудель и теперь с любопытством смотрела на Александру, в ожидании того, с чего начнётся их венская встреча.
— Саша, а вот ты сегодня выглядишь какой-то бледной, усталой. С тобой всё в порядке? Не слишком ли ты много работаешь?
— Нет, нет Аня, всё в порядке, я здорова. Работы много, но я справляюсь. Можешь поздравить — у нас завершаются доклинические испытания нашего препарата. Я принимаю в этом самое непосредственное участие.
— Искренне поздравляю, Сашенька! Но, как я поняла, тема нашей встречи сегодня будет не прецизионная медицина и фармакогеномика. Саша, хватит тянуть! Что там с этим атласом Пернкопфа, о котором ты упоминала?
Александра вздохнула и, откинувшись на спинку стула, начала говорить:
— Да, об атласе. Я рылась в архиве в поисках материалов для проекта, а наткнулась на этот атлас. Жуткий, страшный — много его томов, с обложками, обтянутыми необычной кожей…
— Чем, чем? — Анна поморщилась.
— Не знаю, даже думать не хочу, чьей она могла бы быть — кивнула Алекс, делая глоток кофе. — Ни названия, ни подписи, только выбитый на обложке символ — кадуцей, жезл с двумя змеями и дубовым венком.
А внутри — иллюстрации, такие детальные, что мороз по коже. Каждое сухожилие, каждый нерв… всё слишком реальное и живое.
Анна покачала головой:
— Но это же просто анатомический атлас, да? Чья-то старая работа?
— Я тоже так думала, — горько улыбнулась Алекс. — Но вскоре я поняла, что это не столько атлас, сколько коллекция тел, голов, органов. Всё подписано: даты, методы препарирования.
Указано и авторство в выходных данных: «Анатомическая лаборатория профессора Эдуарда Пернкопфа. Медицинский факультет Венского университета. Закончен в 1944 году.»
И вот, что поразительно, судя по всему, это была не копия, это оригинал — «Атлас топографической и прикладной анатомии». На тех же полках я нашла и «Атлас хирургических операций», созданный под руководством того же Пернкопфа с подробнейшим описанием методов оперирования.
— Но как ты догадалась, что это оригинал, а не одна из многочисленных копий? Насколько мне известно, атлас Пернкопфа далеко не библиографическая редкость, он известен специалистам и даже студентам, переведён на многие языки.
— А ты хорошо подготовилась к нашей встрече, Аня! — воскликнула Алекс.
— Я прилежная ученица и всегда выполняю домашнее задание, хотя и не так досконально, как хотелось бы. — Анна улыбнулась.
— Ты права, атлас широко известен — Алекс совсем не смутилась после замечания Анны, — Более того, его можно и сейчас найти в продаже, хотя он и стоит немалых денег. Но копии этого атласа оказались далеко не полные, как я теперь убедилась.
— Почему я решила, что это оригинал? — Сама себе задала вопрос Александра после небольшой паузы.
— Иллюстрации внутри поражали своей невероятной выверенностью, — Она тщательно подбирала слова, — Это были не просто анатомические зарисовки. Это были… люди. Реальные. Их родинки, волосы, морщины. Я видела не муляжи, а застывшие лица. Лица, на которых замерло выражение ужаса. Я чувствовала, как холод пробегает по спине, словно эти глаза смотрели прямо на меня… с того света.
— Невероятно! — воскликнула Анна.
— Казалось, что художник не просто копировал тело, а каким-то образом перенёс его на бумагу с ужасающей тщательностью. Здесь, на этих страницах, одно и то же тело выглядело, как разрезанное, словно бумажная кукла, слой за слоем. Первый срез — кожа, затем мышцы, нервы, сосуды, органы.
Двумерные изображения выстроены в последовательность, и, если их сложить воедино, они словно оживут, собираясь в трёхмерную копию. Как будто передо мной были не рисунки, а тщательно зафиксированные моменты чьей-то агонии.
Это было не просто анатомическое искусство. Здесь скрывалось нечто куда более глубокое и пугающее. И потом, в копиях нет такого обилия препарированных тел и органов.
— На страницах чернильными штрихами выделялись подписи художников… а рядом — свастики и руны «ᛋᛋ». Они будто прожигали бумагу, оставляя следы ужаса и боли. И этого тоже нет ни в одном из современных копиях атласа. Cозданный вручную, не размноженный в типографии. Настоящий первоисточник!
И создал его профессор Эдуард Пернкопф, вернее, издан под его руководством, — это человек, чьи работы восхваляли десятилетиями, говорили о его непревзойдённых научных достижениях. Он стал легендой среди анатомов. Только вот цена его знаний — это уничтоженные судьбы. Он был тесно связан с нацистами, использовал тела казнённых жертв с их подачи…
— Но ведь и раньше было известно, что профессор Пернкопф использовал тела казнённых?
— Да, но все говорили об этом абстрактно. Как о чем-то… безотносительном. Мол, да, были жертвы, но мы не знаем их имён. Это просто «материал для науки». — Алекс сжала губы.
— Только это ложь. В этом атласе каждый орган имеет регистрационный номер исходного тела. Кто-то вёл скрупулёзный учёт. А кто-то сознательно избегал упоминания имён жертв, когда публиковал копии атласа. В копиях были уничтожены и нацистские символы, которые я нашла в оригинале.
Анна медленно отложила ложечку.
— Значит, можно узнать, кем они были? Их жизни до смерти?
— Я думаю, теоретически можно, хотя и не всех жертв. Как мне кажется, единственный источник — архивы: государственные, церковные, университетские, частные и другие. Я попыталась найти там что-нибудь по косвенным данным, но безуспешно. Многие из архивов были уничтожены или огнём войны, или, и это возможно, кем-то сознательно.
— Не может быть, Саша! Сознательно уничтожить архивы, связанные с именами жертв атласа? Кому это было нужно? — воскликнула Анна.
— Аня, знак кадуцея на обложках томов атласа напомнил мне об одном малоизвестном обществе под этим именем, слухи о котором ходят давно. Говорят, это общество, «Кадуцей», было создано вскоре после Второй мировой войны в Венском университете и до сих пор занимается какими-то проектами в области народонаселения по всему миру. И основал его профессор Эдуард Пернкопф — создатель знаменитого атласа, оригинал которого я нашла в архиве. Недавно прошёл слух, что это общество-братство прекратило своё существование.
А что, если «Кадуцей» ещё существует и тщательно подчищает архивы? И, может быть, даже подменяет их, чтобы никто не докопался до правды и не смог бросить тень на имя их основателя.
Но, я думаю, что многое в архивах всё-таки сохранилось. Только искать надо тщательнее, а у меня нет на это времени. Ты поможешь мне, Аня?
— Даже не сомневайся, Саша! Сделаю всё, что смогу. — Анна дотронулась до руки подруги в знак поддержки.
— Мы должны сделать всё, что зависит от нас, чтобы сберечь память о жертвах, об их невольном вкладе в науку. — говорила Саша.
— Эти люди — не просто анонимные жертвы нацистских экспериментов. У них были семьи, профессии, мечты. Если мы найдем архивные записи, мы сможем рассказать их истории. Но если «Кадуцей» добрался до них, мы можем остаться с пустыми руками.
Алекс помолчала и затем с трудом продолжила, её пальцы сжались вокруг чашки.
— На страницах были только похожие надписи: №83 — цыган, №234 — еврей, №54 — гей… И ещё заметки о веществах, которые, похоже, испытывали на них перед смертью. Главным же препятствием в поисках имён было то, что в атласе я смогла найти только несколько из них. Кто же были остальные жертвы?
— И тут ко мне снова пришла удача. Следующей находкой, пожалуй, не менее ценной, был каталог имён всех пациентов с указанием регистрационных номеров, возраста, национальности, рода деятельности, и даты смерти. С помощью этого документа легко связать изображения в атласе с реальными именами.
Александра открыла блокнот с заметками. Оттуда выпала тонкая, почти прозрачная страница с машинописным текстом и выцветшими чернилами.
— Вот, посмотри сама, — она протянула листок Анне. — Это страницы из каталога.
Анна склонилась над листом.
— «Пациент №12… Иоганн Штайнер… учитель латинского… 42 года… гортань и шея…» — она перечитывала вслух, теряя дыхание. — Как будто биография… только наоборот — от конца к началу.
— Или вот, — Алекс перевернула следующую страницу, — «Пациент №234… Карл Граф… осуждён по параграфу 175… использован для иллюстраций тазового дна…»
Анна вскрикнула:
— Параграф 175 — это же был закон против гомосексуалов в Третьем рейхе!
Александра перевернула ещё один лист.
— Вот тут, — она ткнула пальцем в строчку, — «Пациент №83… Мужчина… около 30 лет… национальность: синти… орган: сердце». Синти, Аня. Это ведь тоже цыганская община.
— Да, — медленно произнесла Анна, — и над ними проводились жестокие эксперименты. Полагаю, он не умер своей смертью?
— Ни слова о причине смерти. Только — дата: 3 июня 1943. А через несколько страниц — тот самый рисунок: анатомически безупречное изображение человеческого сердца, даже с остатками татуировки на коже грудной клетки…
Анна почувствовала, как у неё похолодели руки и она откинулась на спинку кресла:
— Это… даже не архив. Это реестр анатомического геноцида. Ты уверена, что это не подделка?
— Именно поэтому я и вызвала тебя, Аня. Я не знаю. Но если это правда — мы держим в руках документ, способный изменить не только медицину, но и историческую правду. И чем дольше я смотрела в атлас и каталог, тем больше сомневалась — а вдруг это фальшивка? Как без архивов доказать, что имена и изображения истинные?
На какое-то мгновение за их столиком стало тихо. Аня внимательно смотрела на затихшую Алекс, а вокруг продолжала звучать живая музыка, официанты разносили кофе, фиакры цокали по мостовой. Жизнь текла своим чередом, лёгкая, яркая, наполненная движением.
Но Алекс видела перед глазами не это. Она как будто заново переживала своё открытие.
Она видела имена, записанные каллиграфическим почерком на пожелтевших страницах. Видела лица, запечатлённые в анатомических зарисовках с пугающей точностью. Она представила, как кто-то из её коллег равнодушно листает эти страницы, не зная, что за ними — украденные жизни.
Анна выдохнула:
— Да ты настоящий криминалист, Саша. — В её голосе прозвучала нотка неподдельного уважения, — Но, подожди, ты хочешь сказать, что эти люди… это всё-таки были реальные, невыдуманные люди, препарированные не где-нибудь, а в лабораториях Медицинского факультета Венского университета? В анатомическом атласе? О боже… Саша… Может ли быть такое?
Анна всё ещё не могла поверить своим ушам. Алекс сжала губы и кивнула.
— Может, Аня, может. В труде Пернкопфа изображены наполовину препарированные головы. Не схематичные, они выглядели как живые. Каждая голова со своим, только ей присущим выражением. Здесь были мужчины и женщины, старые и молодые, дети и даже младенцы. Объём работы и техника исполнения поражали. Не было сомнения, что они принадлежали реальным людям.
— И вот тут начинается самое жуткое для меня. На одной из страниц я увидела надпись: Пациент №47. В каталоге я нашла имя…
— И что за имя? — Аня нетерпеливо наклонилась вперёд.
— Леопольд Шварц.
Поражённая Анна промолвила:
— Подожди, ты хочешь сказать, что это… твой родственник? Это ведь твоя фамилия? В анатомическом атласе? О боже… Алекс… Может это не он?
Алекс продолжала почти шёпотом:
— А вот… вот он. Пациент №47.
Анна уже знала, что сейчас услышит, но всё же наклонилась ближе. Строки в каталоге дрожали у неё перед глазами.
Пациент №47
Имя: Леопольд Шварц
Дата рождения: 1890
Национальность: еврей
Род занятий: врач, терапевт
Дата смерти: 12 марта 1941
Причина смерти: нет данных
Препарированные области: голова, шейный отдел, верхние дыхательные пути
Рисунок: том III, лист 17
Анна медленно отложила страницу.
— Это не совпадение, Саша. Слишком много деталей. Он не просто имя в списке — он стал частью атласа.
Алекс сжала губы и кивнула.
— Имя и фамилия как у моего прадеда. Тот же пациент №47 в атласе — мой прадед. — Она замялась, голос дрогнул. — Там изображена наполовину препарированная голова. Рисунок был таким чётким — тот же изгиб бровей, форма подбородка, носа как на фото, что висело у бабушки в гостиной. Но это же не может быть он… правда?
Она сжала кулаки, пытаясь прогнать ком в горле.
— Прадед, исчезнувший в 38-м. А теперь — разобранный на части, как экспонат. Его разрезали, как подопытного, а наша семья даже не знает как и почему это произошло. Я знаю только то, что он был врачом, членом еврейской общины Вены. Официально — погиб в концлагере.
Голос предательски дрогнул, но она продолжила, будто оттачивая каждое слово, чтобы не сорваться.
— Но здесь… его тело было препарировано и с пугающей точностью запечатлено в анатомических зарисовках.
Аня отшатнулась, прикрыв рот ладонью
— Это отвратительно. Саша, это чудовищно! Но надо действительно всё проверить, говорю тебе, как журналист. Самые невероятные ошибки и совпадения возможны в нашей работе. Но если это всё-таки он? Ты ведь… ты же не собираешься молчать об этом?
Алекс покачала головой:
— Конечно, нет, Аня!
Анна крепко сжала руку подруги.
— И что теперь? Ты собираешься раскрыть это? Имя каждого человека, чьи тела были изображены в этих томах?
Алекс отвела взгляд и нервно провела пальцами по краю чашки. Она впервые позволила себе задуматься — а что, если этот атлас действительно был важен для науки? Что, если все эти жертвы дали человечеству новые знания, которые уже давно спасают жизни? Пернкопфа называли гением… А если разоблачение приведёт к уничтожению наследия, которое, как ни ужасно это признавать, принесло пользу?
Но даже эта мысль казалась ей кощунственной. Эти люди не просто исчезли — они были превращены в иллюстрации. В страницы учебников, которые несли их черты, но не помнили их имён.
Она зажмурилась, чувствуя, как в ней борются две силы. Пальцы сжали чашку так, что побелели костяшки. Что, если правда уничтожит всё, ради чего она работала? А её карьера?
Правда — или карьера? Кто поддержит её, если она обнародует эту информацию? Её коллеги? Или её осмеют, назовут охотницей за сенсациями, обвинят в разрушении научного наследия?
Алекс вспомнила и рассказала подруге сцену, которая произошла в университете, и после которой она пригласила подругу в кафе.
Непростое решение
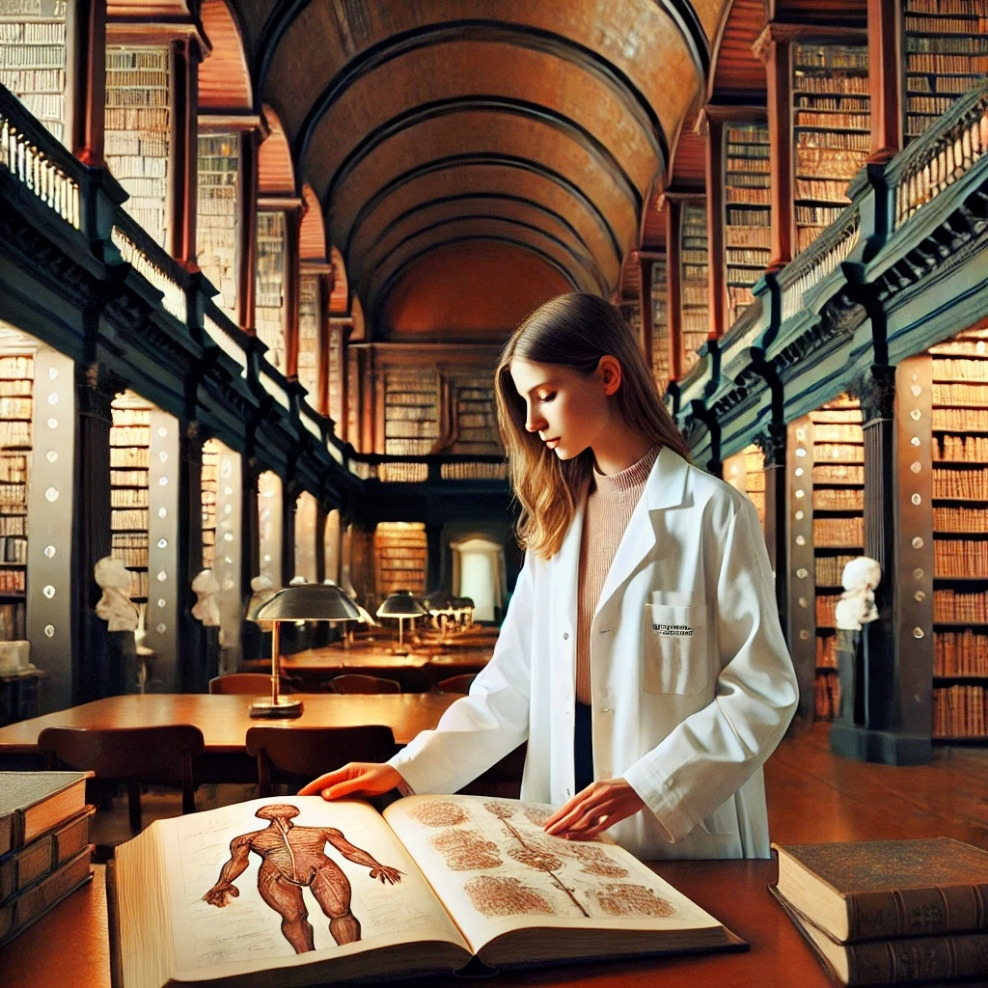
Поздним вечером Алекс сидела в лаборатории, перебирая свои заметки. Гулкий звук шагов вывел её из раздумий. В дверном проёме появился доктор Маркус Бауэр — пожилой анатом, её научный руководитель по проекту, над которым она работала. Он молча наблюдал, как она сосредоточенно листает старые документы.
— Александра, ты сегодня не уходишь домой? — его голос был мягким, но с ноткой тревоги.
— Я… — она запнулась, — я просто наткнулась на нечто странное.
Маркус закрыл за собой дверь и присел рядом, скрестив руки.
— Говори.
Она колебалась, но всё же достала свой планшет и показала ему отсканированные страницы атласа Пернкопфа.
Маркус провёл рукой по экрану планшета, его пальцы задержались на одном из лиц. На безымянном пальце профессора сверкнуло серебряное кольцо с неясным символом.
Лицо мужчины на экране, ещё почти молодого, с мягкими чертами. Словно он вот-вот зажмурится от яркого солнца. Но его глаза были мертвы. Безвозвратно. В углу изображения каллиграфическим почерком значилось: Пациент №34.
Он молча рассматривал изображение, затем тяжело выдохнул.
— Ты знаешь, что это? — тихо спросил он.
— Да. Я знаю, кто его создал, и какой ценой. Вопрос в том, что мне с этим делать.
Маркус наклонился ближе, его взгляд был напряжённым.
— Александра, этот атлас… Он сыграл огромную роль в развитии медицины. Знаешь, сколько хирургических техник были разработаны благодаря этим изображениям? Ты не представляешь, как много врачей используют эти данные до сих пор.
Алекс почувствовала, как её пальцы дрожат.
— Но в его основе лежат убийства. Если я обнародую это, если докажу, что за каждым изображением лежит чья-то судьба, боль и страдания реальных людей, а не безликих манекенов, как они выглядят сейчас на страницах растиражированных книг… И разве это не значит, что мы, медики, строим свою работу на преступлениях?
Маркус опустил голову, долго молчал. Потом тихо произнёс:
— Ты понимаешь, что, опубликовав имена и, возможно, судьбы жертв, с новой силой встанет вопрос об этичности использования этих знаний. Александра, этот атлас спас миллионы. Ты готова это уничтожить? — взгляд его был твёрд.
— Профессор, — начала она, уходя от прямого ответа, — атлас Пернкопфа это не просто анатомические рисунки. За ним стоят реальные люди, чьи жизни оборвались ради чьих-то амбиций и целей. Если мы оправдываем существование атласа, если признаем, что он настолько полезен, что все эти смерти — оправданные жертвы, то мы переступаем черту, за которой исчезает мораль.
Маркус слушал внимательно, не отрывая взгляда от её глаз, но не проронил ни слова.
— Это не просто этическая дилемма прошлого, — продолжила Александра, — . Если мы скажем «да» атласу, то мы даём зелёный свет любым средствам, ведущим к цели. Не только в науке, но и в политике, в обществе, в личных отношениях. Если однажды мы оправдаем чудовищные поступки благими намерениями, что сможет остановить нас в будущем? Где тот предел, за которым мы уже не люди, а просто инструменты собственных амбиций?
Она сделала глубокий вдох, пытаясь скрыть внутреннее волнение:
— Профессор, мы должны провести эту границу. Остановиться именно здесь. Публикация имён и историй жертв атласа станет первой ласточкой в этом процессе. Это будет не просто восстановление справедливости по отношению к мёртвым.
Вы спросили, хочу ли я уничтожить атлас? Конечно, нет! Но атлас должен сохранить память о его жертвах. Я бы назвала это анатомией памяти, обязательным дополнением к анатомии тела.
Это будет послание будущим поколениям, что существуют вещи, которых нельзя допускать никогда и ни при каких обстоятельствах. А если это случится, то наказание последует незамедлительно. И не важно в какой форме: в виде академического осуждения или уголовной ответственности.
Маркус слегка вздрогнул, его взгляд скользнул в сторону, словно он пытался осмыслить услышанное.
— Наверное ты права, хотя я не был бы столь категоричен. Давай не будем рассуждать о вселенской морали. Оставим это другим. Сейчас перед нами конкретный атлас с указанием каких-то номеров. А что это за номера? Откуда они взялись? А вдруг это подделка. Даже если эти пациенты когда-то существовали то, кто они, какая их судьба? Ты уверена, что они не завещали свои тела? В этом атласе есть указания на ещё какие-то документы? Сборник имён, каталог? Ты нашла его?
На мгновение Алекс замешкалась. Она не ожидала такого потока вопросов от явно взволнованного профессора. Вдруг её взгляд снова задержался на кольце Маркуса.
Внутренний голос подсказал ей правильный ответ:
— Пока нет, — произнесла она ровным голосом. — Но я надеюсь найти и его.
Она заметила, как Маркус вздохнул с облегчением, и от этого ей стало ещё тревожнее. Алекс понимала, что между ними теперь появилась едва уловимая трещина, невидимая глазу, но ощутимая сердцем.
«Что же вы скрываете, господин профессор Бауэр?» — мелькнула мысль. Она знала, что теперь должна быть осторожнее, чем когда-либо.
Маркус пристально смотрел на неё.
— Ну, вот видишь, у тебя даже нет имён, якобы жертв атласа. Александра, но то что сделано, то сделано. Атлас признан и им пользуются о всём мире. Стоит ли ворошить прошлое? Это может стоить тебе карьеры, ты занимаешься совсем не тем, чем должна.
Как твой руководитель, настоятельно рекомендую тебе полностью переключиться на наш проект. Твоё назначение — современная медицина, у тебя есть успехи, а сенсациями пусть занимаются журналисты. Подумай ещё раз.
Маркус ещё раз внимательно посмотрел в глаза Александры и вышел из лаборатории.
***
Алекс оторвалась от воспоминаний и вернулась к подруге, в кафе, осознавая, что с этого момента её выбор определит всё.
— Я ещё не уверена, Аня, что хочу раскрыть эту тайну, тайну атласа, — прошептала она, встряхивая головой. — Если я скажу правду, может рухнуть не только чья-то репутация, но и моя собственная карьера. Это не просто разоблачение… Это удар по всей научной среде.
Отвлечённые споры об этике использования этих знаний, которые продолжают вспыхивать и сейчас, возникнут снова с удвоенной, утроенной силой, когда специалисты персонализируют каждую деталь в атласе и то, каким образом были получены их изображения. Одно дело, когда доброволец завещает своё тело для исследований, и совсем другое дело, когда оно препарируется вопреки здравому смыслу и желаниям ещё живых людей.
— И потом, Аня, что мы получаем от завещателей? Чаще всего это старые изношенные и повреждённые болезнями тела. А тут мы находим поразительное разнообразие «образцов»: молодые и старые, младенцы и дети, девушки и юноши различных возрастов. Ясно, что эти материалы были получены преступным путём.
— Но, если я скажу правду, рухнет всё. Меня могут высмеять, если мы не найдём доказательств существования этих «пациентов». А если имён недостаточно? Если кто-то скажет, что цена не важна, лишь бы знания спасали миллионы?
Анна внимательно посмотрела на неё.
— Ты боишься?
Алекс кивнула. Но где-то глубоко внутри она уже знала ответ. Правда должна быть раскрыта. Вопрос был в другом — какой ценой?
Алекс взглянула на подругу, и в её глазах читалась тяжесть наступившего пережитого момента в её, прежде спокойной и размеренной, академической жизни.
— Да. Это не просто иллюстрации. Это документы преступления. И я не позволю, чтобы о них забыли
И потом… Там упоминается мой прадед, о судьбе которого наша семья ничего не знает. Я должна раскрыть эту тайну.
Анна задумалась, постукивая ложечкой по краю чашки.
— Саша, но… ты уверена, что единственная цель Пернкопфа была в создании анатомического атласа? Мне это кажется… слишком странным. Война. Разрушения. Недостаток ресурсов.
А тут — детальные, дорогостоящие исследования, тончайшие анатомические иллюстрации, сотни тел… Откуда в военное время могли взяться такие возможности? Разве немцы тогда не тратили все силы на войну?
Скорбная улыбка тронула губы Алекс.
— Прекрасно, Аня, у тебя чутьё настоящего репортёра. Мне кажется, я нашла причину необычайной щедрости нацистов. Я продолжила поиски в архивах, и снова пересматривала документы, пытаясь систематизировать найденное.
Среди медицинских отчётов встречались упоминания о необычных физиологических особенностях некоторых «пациентов». В одном из документов говорилось о значительном ускорении регенерации тканей, в другом — об аномально высокой мышечной плотности.
Алекс перелистала свой блокнот.
— Один из отчётов гласил:
«Пациент №54: наблюдается ускоренный метаболизм, физическая выносливость превышает средние показатели в 3,8 раза. Повышенная регенерация при глубоких повреждениях тканей. Возможно, влияние препарата NS-12?»
— Это больше не было просто анатомическим исследованием. Это звучало как целый эксперимент, направленный на изменение человеческого тела.
Она продолжила читать.
— В одном из рапортов приводились данные о группе испытуемых, подвергавшихся длительному воздействию особых соединений, якобы стимулирующих физические и когнитивные способности. Почерк на этом документе был другим, торопливым, с пометками на полях. Одна из них гласила:
«Результаты впечатляют, но нестабильны. Психическая стабильность только у 3 из 10 испытуемых. Требуются дальнейшие эксперименты».
Алекс отложила записную книжку.
— Некоторые из документов… они не просто про анатомию. Они про людей с… аномальными способностями. Сверхбыстрой регенерацией, нечеловеческой выносливостью, реакцией на изменяющуюся обстановку. Как будто кто-то пытался…
— Улучшить человека? — закончила за неё Анна, отложив ложечку. — Саша, ты понимаешь, на что намекаешь? Это не просто эксперименты. Это проект по созданию чего-то… большего.
Алекс кивнула.
— Это было время, когда нацисты верили в идею «сверхчеловека». Анатомия, генетика, препараты, физиологические исследования — всё это могло быть частью гораздо более масштабного проекта, частью которого могло быть создание подробного атласа с включением в него всех, кто попал в этот проект, как подопытные образцы нацистов, возможно, и моего прадеда тоже.
Но здесь слишком много тёмных пятен и я определила для себя сначала раскрытие судеб людей из атласа профессора Пернкопфа.
Алекс помолчала.
— И ты можешь помочь мне в этом, Аня. Мой научный руководитель практически запретил мне заниматься этим делом. Ведь основную мою работу по теме персонализированной медицины никто не отменял, я буду всецело занята ей. А у тебя руки свободны, ты независима, — улыбнулась она.
Анна задумалась, постукивая ложечкой:
— Если это правда, то это не только прошлое. Это связано с настоящим. Я согласна!
Мы теперь одна команда: ты проводишь детальные поиски внутри Медицинского университета, не афишируя их. И собирать материалы по мере твоих возможностей. А я буду рыскать по архивам и буду твоим рупором, не называя твоего имени. А встречаться будем здесь в «Аиде», чтобы, как говорится, сверить наши часы. Подготовь мне копию каталога. Вдвоём мы справимся!
Подруги рассмеялись, но смех быстро стих. Анна решительно сжала её руку:
— Мы вернём им имена — и твоему прадеду тоже.
Солнце пробивалось сквозь витражи собора, бросая тени на стол. Скрипка звенела, кареты цокали. А за столиком у края веранды две подруги ещё не знали, что тени атласа — и тех, кто их скрывал — уже легли на их плечи, тяжёлые, как тень прадеда Александры, застывшая в атласе.
Профессор Эдуард Пернкопф

В предрассветных сумерках 12 марта 1938 года Вена пробуждалась, словно от тяжкого сна. Эдуард Пернкопф, директор Института Анатомии, закутавшись в пальто, спешил на службу.
Вена тридцатых годов ещё представляла собой город, где имперское величие прошлого переплеталось с неустойчивой тревогой современности.
Здесь, среди массивных барочных фасадов и узких мощёных улочек, каждое утро начиналось с боя старинных часов на башне собора Святого Стефана, отражающего вечный ритм городской души. Рассвет мягко пробивался сквозь лёгкий туман.
Кофейни, с их ароматом свежей выпечки, уже открыли свои двери и приглашали завсегдатаев выпить чашечку кофе.
Молодые люди шумно беседуют, ведомые правыми идеями, горя желанием вернуть стране былую славу и обновить её традиции в союзе с великой Германией.
О рухнувшей Австро-Венгерской империи они вспоминают с лёгкой ностальгией, понимая, что прежнего уже никогда не вернуть.
Тень нацизма легла на широкие бульвары, улицы и площади города.
Пернкопф, восходящая звезда анатомической науки, ощущал эти потрясения, возбуждающую, но тревожащую вибрацию, которая подпитывала его амбиции и страхи.
Ещё во время обучения в Венском университете Эдуарда Пернкопфа заметил директор Института анатомии Вены Карл Венцель, который возглавлял этот один из важнейших анатомических центров Австрии. Да Эдуард и не мог не привлечь пристального внимания руководства. Не прошла незамеченной и его образцовая служба медиком на фронтах Великой войны после завершения обучения в Венском университете.
Всегда подтянутый, эрудированный и целеустремлённый с невероятной работоспособностью Пернкопф уверенно прошёл ступени профессионального роста от ассистента хирурга до звания профессора и поста директора венского Института анатомии. Не то чтобы его рост был стремительным, этот путь занял у него долгих 15 лет, но сомнений в том, что этот пост был им не заслуженным не было ни у кого.
Он стал активным и убеждённым членом нацисткой партии. Активная политическая позиция позволила директору Пернкопфу начать постепенную смену чисто академической направленности работ в институте.
Эти годы были потрачены не только на достижение карьерного роста. Новый директор поставил перед собой невероятную по сложности задачу — создать уникальный по своей точности и охвату анатомический атлас человека.
На первый взгляд задача была весьма простой и легко достижимой. К этому времени существовало большое количество подобных книг. Но все они грешили тем, что рассматривали человека, как некое безликое существо, наделённое одинаковыми органами, слегка отличающиеся по гендерному принципу.
Но почему же не принимались во внимание национальные оттенки, профессиональные особенности, условия существования и сексуальная ориентация? Профессор верил: всё это должно быть отражено в новом атласе. Предстояла невероятная по сложности работа.
Пернкопф немедленно приступил к созданию рабочей группы. Он собрал круг доверенных коллег — врачей, специалистов по судебной медицине и талантливых художников, способных передать мельчайшие детали человеческого организма.
Лаборатория, оборудованная в одном из старых зданий Венского университета, вскоре превратилась в место, где пересекались наука и искусство, а холодные расчеты медицины смешивались с художественным вдохновением.
Но работа шла крайне медленно. И причиной этого был недостаток научного материала.
***
Как ни торопился профессор в институт, он отметил необычайное оживление на улицах утренней Вены.
По площади Святого Стефана и прилегающим улицам, чёткими стройными колоннами, шли немецкие войска в полной боевой экипировке, и жёсткий стук сапог смешивался с приветственными криками горожан. Он взбежал по ступенькам в свой кабинет.
«Почему они с оружием? Чего они боятся? Австрийской армии?» — спрашивал себя Пернкопф.
Но опасения немецких военных были напрасными — австрийская армия не сделала не единого выстрела. Вена не сопротивлялась, а ликовала.
Восторг и фанатичная радость вспыхивали на улицах, словно костры на ветру, но вместе с ними в воздухе начала витать и липкая, почти физическая, тревога.
Ещё вчера этот прекрасный город был столицей Австрийской Республики, но сегодня, после аншлюса, мирного присоединения к Германии, Австрия, перестала существовать как независимое государство, а Вена стала частью Третьего рейха.
Профессор Эдуард Пернкопф с явным удовлетворением наблюдал за происходящим из своего кабинета, расположенного на последнем этаже исторического здания Венского университета.
Для него этот долгожданный день был не столько символом радикальной трансформации страны, сколько возможностью продолжить и, наконец, завершить во всей полноте реализацию своего давнего проекта — создания величайшего анатомического атласа, который, по его мнению, должен был стать венцом медицинской науки.
Именно в этот исторический момент, когда город будто обрел новое дыхание, профессор Пернкопф решил, что настало время превратить свою мечту в реальность.
Он понимал, что анатомия — наука, способная раскрыть загадки человеческого тела — может стать мощным инструментом в руках нового порядка, если её результаты будут оформлены в виде величественного атласа, сочетающего точность медицинских исследований с идеалами национальной науки.
Казалось, сама судьба создаёт условия для успеха, к которому он шёл всю предыдущую жизнь. И то, что это случилось в год его полувекового юбилея, особенно воодушевляло.
Теперь наступало другое время — его время!
***
Прошёл месяц и Вена изменилась до неузнаваемости. Дома на улицах и площадях покрылись широкими полотнищами с нацисткой символикой и портретами фюрера Третьего Рейха. Горожане открыто ликовали.
Профессор Пернкопф уходит из Института Анатомии и назначается на должность декана медицинского факультета Венского университета — это ещё один шаг вверх по карьерной лестнице. Он занимает ключевые позиции в университете, медицинском сообществе и нацистской партийной иерархии.
Ведущий медицинский журнал Венского медицинского сообщества, теперь уже под редакцией профессора Эдуарда Пернкопфа, публикует его программную речь, озаглавленную «Национал-социализм и наука», произнесенную перед студентами и преподавателями.
В ней он заявляет, что идеи национал-социализма должны пронизывать образование и науку, что либеральная свобода приводит к хаосу — а это недопустимо в науке.
Единственная цель искусства и науки — служение нации.
Пернкопф также объявил, что анатомия и эмбриология должны сосредоточиться на изучении «расовых» вопросов и в учебные программы медицинского факультета будут добавлены расовая физиология, расовая психология и расовая патология.
Но, даже в это безумное время реформ, он никогда не упускал из вида, как он считал, главную цель своей жизни — идеальный анатомический атлас. Для создания атласа требовались уникальные материалы, а именно — образцы человеческих тканей и органов, позволяющие изучить структуру организма в мельчайших деталях.
В условиях новой политической реальности у Пернкопфа и его команды как бы возникло второе дыхание, они нашли неожиданные источники для своих исследований. С одной стороны, после аншлюса начали появляться сообщения о репрессиях и массовых арестах, что приводило к тому, что тела казнённых, зачастую без надлежащего погребения, становились доступными для судебно-медицинских экспертиз.
С другой стороны, находились и случаи, когда умершие от естественных причин оставались без родных, и их останки передавались в распоряжение государственных учреждений.
Группа Пернкопфа действовала в тени официальных каналов, опираясь на свои контакты в высших эшелонах медицины и государственной власти.
Благодаря личному авторитету профессора им удавалось получать разрешения на проведение вскрытий и исследования образцов, зачастую с участием государственных экспертов. Документы, заверенные печатями нового режима, позволяли работать с материалами, которые ранее были недоступны для научного анализа.
Выдающиеся патологоанатомы и художники, набранные в группу Пернкопфа, проводили часы за тщательными набросками и живописными эскизами, фиксируя каждый изгиб, каждую складку тканей с научной точностью и художественной выразительностью.
Для них было важно не только передать анатомическую достоверность, но и подчеркнуть «идеальную» красоту человеческого тела, соответствующую идеалам нового порядка.
Наряду с высококлассными специалистами, Пернкопф набрал и особо талантливых студентов, не связанных отжившими нормами морали и этики. Но даже они испытывали смешанные чувства.
С одной стороны, многие из них гордились участием в значимом научном проекте, возможностью соприкоснуться с передовыми исследованиями, — с другой стороны, душевные муки и тревога за своё будущее не давали им покоя. Насколько этично использование того материала, который поступал в избытке, в создании уникального атласа?
***
Декан медицинского факультета Эдуард Пернкопф вызвал в свой кабинет Леопольда Шварца — профессора анатомии, с которым они проработали бок о бок почти два десятилетия.
Шварц, еврей по происхождению, был мастером своего дела, чьи лекции вдохновляли студентов гуманизмом и профессионализмом. Их связывали годы споров и бессчётные чашки кофе в университетской столовой, но теперь между ними выросла стена.
Пернкопф стоял у окна, глядя на площадь, где развевались нацистские флаги. На столе лежал приказ об увольнении, подписанный его рукой. Когда Шварц вошёл, он не обернулся сразу — лишь глубоко вдохнул, словно собираясь с духом.
— Леопольд, ты понимаешь, почему я вызвал тебя, — начал он, голос был ровным, но напряжённым.
Шварц остановился у двери, его лицо оставалось спокойным, но глаза выдавали усталость.
— Догадываюсь, Эдуард. Это из-за новых порядков? Или из-за того, кто я есть?
Пернкопф повернулся, держа приказ в руках. Он шагнул к столу и положил бумагу перед коллегой.
— Это не моя воля, — сказал он, избегая взгляда Шварца. — Ты знаешь, как я ценю твою работу. Твои руки, твои лекции — безупречны. Но времена изменились. Ты еврей, а партия требует чистоты. Я не могу оставить тебя здесь, даже если бы хотел.
Шварц взял приказ, пробежал глазами строчки и медленно опустил его.
— Не твоя воля? — голос его дрогнул от сдерживаемого гнева, — мы строили планы, спорили до полуночи, пили бесконечный кофе. А теперь ты прячешься за партию? Эдуард, это твоя подпись. Не лги мне и не лги себе.
Пернкопф сжал губы, его пальцы дрогнули на столе.
— Я делаю это ради науки, Леопольд. Атлас — наше будущее, а ты… ты стал препятствием. Не по своей вине, но стал. Я не могу рисковать всем ради одного человека, даже ради тебя. Нашу тему закроют, если я не уволю тебя, ты знаешь это.
Шварц шагнул ближе, глядя ему в глаза.
— Ради науки? Или ради твоих амбиций? Ты превращаешь нас в мясников, Эдуард. Этот атлас — не будущее, а могила. И ты тоже это знаешь.
Тишина повисла в кабинете, тяжёлая, как туман над Веной. Пернкопф отвёл взгляд, его голос стал тише:
— Уходи, Леопольд. Добровольно. Это всё, что я могу для тебя сделать.
Шварц сжал кулаки, но кивнул. На пороге он обернулся:
— Ты пожалеешь об этом. Не обо мне — о том, что оставишь после себя.
Когда дверь за Шварцем закрылась, Пернкопф замер у окна, невидяще глядя на площадь. Внизу шагали колонны солдат, и флаги нацистов, словно кровавые пятна, колыхались ветру.
Пернкопф вдруг представил, каким будет завтрашний день для Леопольда. Без должности, без защиты университета, отмеченный клеймом еврея, он становится лёгкой добычей для гестапо. Он обрёк своего старого друга на неотвратимую гибель, прекрасно осознавая это.
«Он не переживёт войну…» — мелькнула в голове жестокая, холодная мысль. «Но разве я виноват? Если не я, то кто-нибудь другой подписал бы этот приказ. Я лишь делаю то, что должен…» — попытался он оправдаться перед самим собой.
Перед его глазами снова мелькнул взгляд Леопольда — взгляд друга, которого он предал ради собственного будущего.
Он стоял у окна, пока силуэты солдат и флаги не превратились в размытые пятна, сливаясь с мраком, опустившимся на город.
***
Аншлюс дал ему не только власть, но и возможность. Он не мог больше полагаться на случайных союзников или сомневающихся вроде Шварца. Нужна была сплочённая одной целью сила, преданная его видению.
Всем профессорам Венского университета требовалось принести присягу верности Гитлеру, однако сделать это могли только лица, соответствующие требованиям Нюрнбергских расовых законов. В результате из 197 преподавателей медицинского факультета было уволено 153 человека.
Власти предложили ему ресурсы, помещения и свободу от бюрократической волокиты, которая прежде тормозила его исследования. Они предоставили ему тела.
Поначалу он полагал, что это будут тела преступников, расходный материал, который всегда был доступен анатомам. Но вскоре он осознал мрачную правду: эти ресурсы далеко выходили за рамки системы исполнения наказаний.
Систематическое истребление тех, кого нацистский режим считал «нежелательными», обеспечило его беспрецедентным количеством трупов, идеально сохраненных и готовых к вскрытию.
Пернкопф, поглощенный своим стремлением к анатомическому совершенству, не задавал вопросов. Так было проще. Позволить себе оставаться в неведении было формой самосохранения, защищающей его совесть от ужасающих последствий его действий.
После ухода Шварца Пернкопф не позволил себе ни минуты покоя. Его кабинет стал штабом, заваленным эскизами и журналами, а лаборатория — полем битвы за совершенство. Он работал по восемнадцать часов в сутки, и свет в его окне горел даже в предрассветной мгле.
Перфекционизм, который когда-то восхищал Шварца, теперь стал его проклятием — каждая деталь должна быть идеальной, каждый штрих — безупречным. На столе всегда стояла чашка остывшего кофе, рядом лежали карандаши, которыми он правил наброски, и скальпель, выточенный из швейцарской стали, — его верный спутник.
Через неделю после аншлюса он собрал команду — не просто коллег, а тени своей воли. В старом крыле университета, где воздух пропитался запахом формалина, воска и ржавого железа, они трудились без отдыха.
Пернкопф отбирал их с пристрастием: Йозеф Келлер, седеющий хирург с руками часовщика, возглавлял команду патологоанатомов; Эрих Вольф, ведущий художник, чьи кисти дрожали от кофеина, но не ошибались; Филипп Бауэр, лидер команды студентов, с острым взглядом, удивительно работоспособный и с жаждой новых знаний. Они были его зеркалом — измотанные, но одержимые.
День начинался с ритуала. В шесть утра крытый грузовик без опознавательных знаков подвозил мешки с телами — грубые, серые, иногда с бурыми пятнами крови. Пернкопф лично регистрировал каждого «пациента» в каталоге.
Тела не были обезличены. Он требовал наиболее подробной информации о «пациенте», если она вообще была возможна в этих условиях, и заносил её в каталог. Он считал это важным для оценки состояния органов.
Ассистенты выкладывали инструменты на стальной стол: пинцеты с тонкими кончиками, ножницы с изогнутыми лезвиями, скальпели. Начиналась повседневная работа.
Но их труд уже выходил за рамки атласа. Пернкопф требовал не только фиксировать тело, но и переосмысливать его. «Мы пишем хирургический атлас, — говорил он, — и создаём будущее трансплантологии. Не всё получается у нас сейчас. Но со временем мы будем собирать человека, как конструктор, из идеальных частей тел. Будущее трансплантологии вершится в этой прозекторской».
Художники сидели за длинными столами, их доски покрывали листы плотной бумаги, где рождались не только анатомические рисунки, но и схемы операций. Эрих Вольф, сгорбившись над эскизом печени, рисовал каждый сосуд, а затем — пошаговый разрез для её удаления.
Пернкопф подходил сзади: «Слишком размыто. Здесь вена толще на полмиллиметра. И добавь технику шва — это спасёт орган». Эрих стискивал зубы, переделывая лист, пока рисунок не ложился идеально.
Врачи трудились над новыми приёмами. Келлер измерял лёгкие «образца №23» — мужчины лет сорока, чьи рёбра хранили следы последнего вздоха. «Длина — 28 сантиметров, — диктовал он. — Следы туберкулёза». Пернкопф кивал: «Запиши. И попробуй пересадку — вырежи и пришей обратно». Келлер, вытирая пот, брал иглу с шёлковой нитью, сшивал ткань, пока Пернкопф не останавливал: «Быстрее. Это не просто опыт — это методика.»
На возражения хирурга отвечал: «Да, сейчас мы делаем это на мёртвых телах, но они у нас в достатке, чтобы отшлифовать будущую трансплантацию до совершенства.»
Однажды он сам взял скальпель, вырезал почку из «образца №28» и пересадил её в другое тело, диктуя: «Сосудистый шов — три стежка. Запишите точное время операции». Его руки не дрожали, хотя кофе давно заменил сон.
Студенты, как Филипп Бауэр, были рабочими руками команды. Они таскали ведра со льдом, чтобы сохранить органы, чистили инструменты щётками из конского волоса, вытирали кровь тряпками, пропахшими карболкой. Пернкопф заставлял их герметизировать стеклянные банки с формальдегидом, где плавали образцы — сердца, почки, куски кожи.
Однажды он показал Филиппу сердце в разрезе: «Смотри, как клапан держит давление. Мы найдём способ его заменить». Филипп кивнул.
Но попытки с трансплантацией органов проваливались — тела живых заключённых, которым пересаживали органы, отторгали инородное тело. Жертвы в муках умирали.
Работа была необычной даже для анатомов. Ни один атлас не требовал такой точности и таких усилий. Пернкопф отвергал старые схемы, где тело упрощали до абстракции. Он хотел правду — каждый нерв, каждую вену, каждый шов.
Команда изнемогала. Эрих однажды рухнул на стул, уронив кисть — его пальцы свело. Пернкопф подал ему кофе и какую-то порошок: «Пей и рисуй». На вопросительный взгляд Эриха он улыбнулся: «Тебе это поможет». И действительно, минут через двадцать он почувствовал необычный прилив сил.
Пернкопф не только требовал — он вознаграждал. Через связи в партии он выбил привилегии для группы: их имена вычеркнули из списков призыва на фронт, где уже гремели первые залпы войны. Их столы ломились от еды — свежее мясо, масло, чёрный хлеб, редкость в те полуголодные дни. Рейхсмарки текли рекой, позволяя семьям забыть о нужде.
Через несколько месяцев изнурительной работы команда Пернкопфа преобразилась. Слабые ушли — кто-то сломался от усталости, кто-то сбежал, не выдержав запаха крови и взглядов мёртвых глаз. Остались только самые преданные и выносливые, те, кто шагал в ритме его восемнадцатичасового рабочего дня.
Филипп Бауэр еле держался на ногах — Пернкопф внимательно следил за работой студента; Эрих Вольф рисовал, стиснув зубы, пока пальцы не сводило судорогой; Йозеф Келлер сшивал ткани, не поднимая головы. Готовые листы атласа Пернкопф принимал лично и только после этого ставил на листе свастику или руны СС, как знак высшего качества работы.
Пернкопф смотрел на тех, кто остался в его команде, с гордостью — это был естественный отбор, который он задумал с самого начала. Эти люди станут ядром его мечты.
Но и Пернкопф уже был на грани своих возможностей.
Манифест «Кадуцея»
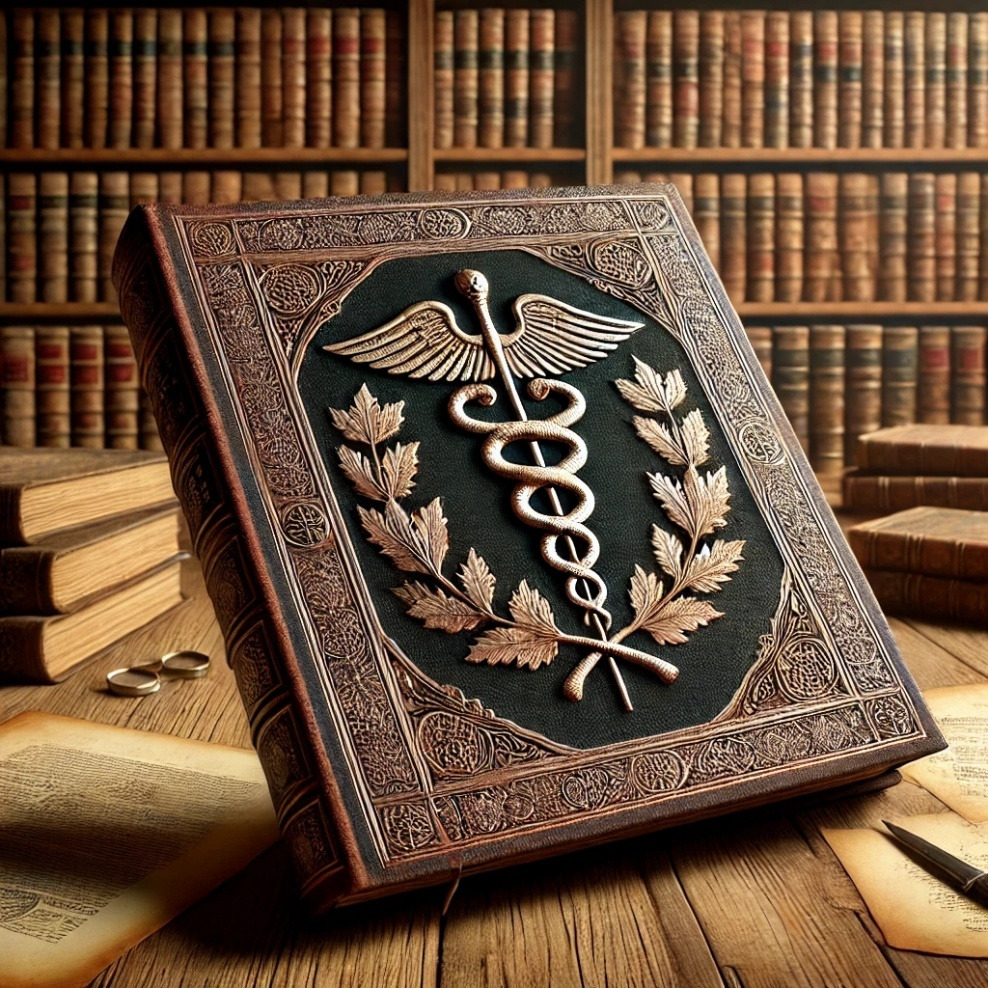
В один из вечеров Пернкопф пригласил к себе домой Филиппа. Студент был до глубины души польщён вниманием к себе и тем, что Пернкопф отличил его из всей группы.
Квартира находилась в большем старинном здании недалеко от университета. В просторной столовой они сели за сервированный изысканной едой стол. К ним присоединились дочь профессора — Мария и её муж Иоганн Кляйн, главный инженер на одном из военных заводов.
Хозяева встретили Филиппа очень доброжелательно, а доброе рейнское вино смягчило ту неловкость, которая долго не проходила у студента во время визита в апартаменты профессора.
Ужин был очень непринуждённым и Филиппу стало по-семейному тепло в кругу семьи профессора.
Когда разговор за столом случайно коснулся темы детей, Филипп заметил тень грусти, промелькнувшую в глазах Марии. Она быстро отвела взгляд, а Иоганн поспешил перевести тему. Профессор Пернкопф на мгновение замер, и в его взгляде мелькнула какая-то скрытая боль и одновременно странная решимость.
После ужина Эдуард Пернкопф проводил дочь и зятя и пригласил Филиппа в кабинет, где они расположились в глубоких кожаных креслах напротив камина.
Пернкопф закурил, Филипп отказался от предложенной сигары.
Профессор неожиданно произнёс, словно размышляя вслух:
— У Марии и Иоганна нет детей… пока нет. Но наука способна на большее, чем мы думаем. Время покажет.
В его словах была уверенность, какая-то неясная для Филиппа, но отчётливо слышимая нотка ожидания. Студент не решился спросить подробнее, лишь почувствовав, что за словами профессора скрывается что-то важное, глубоко личное, о чём он узнает, когда придёт время.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
