
Календарь

Январь
Отдам я и вере, и верности дань.
В Крещенский сочельник парит Иордань.
Морозно. Над прорубью плавится пар.
Шлет колокол в ночь за ударом удар.
В небесной пыли растворятся шумы.
Мирское застынет на кромке зимы.
И станет светло на душе и в ночи.
И звезды сведут перекрестьем лучи.
Февраль
Февраль. Достать чернил — и плакать!
Б. Пастернак
1
Февраль. Чернил уж не достать, и плакать не о чем.
Снега скрипят. Ветра воюют за своё.
Метель хлопочет за окном косматым неучем,
вслепую рыщет, ищет вход в мое жилье.
Февраль. Снега. Ветра гуляют. Тьма над крышами.
Щепотка чая. Кипяток. И наплевать!
Покуда пишется еще, покуда слышится —
пойду гулять.
Пойду чернила доставать.
2
Писать о феврале навзрыд…
Б. Пастернак
Ты будешь рыдать, и пурга за окошком подвоет,
и серое небо совьется в соломенный жгут,
авто завопят, собираясь в колонну по двое…
А ты не спеши. Если надо — тебя подождут.
Тебя подождут, если надо. Пусть небо побесится,
грома насылая и молнии в гневе меча.
Рыдай, если хочешь.
Зеленое зеркало месяца
еще не тускнеет.
И не догорает свеча.
Март
Ленится дворник: лед не колот.
Конечно, март. Так что же — март?
В Сибири этот месяц долог.
Уже весна — еще зима.
И снег хрустящ, и ветер резок,
и на реке вода — паркет.
Гоня ногой снежка огрызок,
пацан смеется. Счастлив, шкет!
И я предчувствием взволнован.
Ну что же, дворник, ты заснул?
Взмахни в сердцах мятежным ломом!
Ломай паркет! Твори весну!
Апрель
Куда ты идешь? Для чего ты на землю ложишься?
В зените апрель, и пора уж на май уповать.
Ты скоро растаешь, тебя не оценят, дружище.
И в грязь тебя втопчут. И слез не дадут проливать.
Зачем этот снег? Для чего этот ветер колючий?
К чему эти серые тучи над темной горой?
В зените весна, и снежок запоздалый летучий
напрасно летит.
Он умрет, как последний герой.
Май
Еще не август, дорогая. Только май.
Еще не хлопают дожди по серым крышам.
И хлопот листьев на березе ясно слышен.
Весна.
И в небе — то звезда, то каравай.
Уже скребет скворец затылок коготком,
стремясь ремонта дать родимому жилищу.
Всего-то — май.
Но сердцу — радостней и чище.
Весна идет.
Зачем печалиться?
О ком?
Июнь
Ну, что ты нос повесил?
Зачем ты сам не свой?
Июнь. Округлый месяц,
оплаканный росой.
Взлелеян и взъерошен,
он — лета бахрома.
Весна — так это в прошлом.
А в будущем — зима?
Кого еще настигнет,
когда еще придет.
Стремителен, как «стингер»,
нечетный четный год.
Заглядываю в завтра —
печали нет как нет:
яичница на завтрак,
рассольник на обед.
И я — угрюм и весел,
и нос, и хвост — трубой!..
Июнь. Округлый месяц,
назначенный судьбой.
…Поют часы на башне
мелодию без слов.
Заглянешь в день вчерашний —
какое там число?
Июль
Июль. То жарит, то полощет,
то не дает покоя гнус.
Казалось бы, чего уж проще —
сказать: «Уеду — не вернусь!»
Сказать: «Прощай, угрюмый север,
прощай, печальная страна!»
…Вот к берегу по Енисею
бредет тяжелая волна.
Как пес, стелясь перед тобою,
лизнет подошвы: «Ну, плыви…»
И, заражен ее любовью,
ты задохнешься от любви.
Август
В Сибири август есть синоним осени.
Меняют цвет косматые леса.
Темнеют небеса. И паруса
дождей раздуты ветром.
Гнезда бросили
пернатые певцы, и весело
перед отлетом пробуют крыло.
Забиты погреба цветными банками
и печи прочищают дымоход,
сердито кашляя.
Кричит подранком и
спешит в сентябрь последний теплоход.
И важно, посреди погоды всей,
на север катит воды Енисей.
Сентябрь
Зачем нам лучшие дома, в которых делать нечего?
Не перекинуться словцом, винцом не чокнуться.
Зачем нам странные дома, в которых вечером
печалью светится лицо, и можно чокнуться?
Приходят поздние друзья — осенние оборвыши.
Ни горя с ними не хлебнуть, ни трубки выкурить.
Сентябрь мешает колера, заботой морщит лоб.
И уж теперь до октября его не выкурить.
Зачем нам новые дома? Нам в старых делать нечего.
Пойдем с тобой туда, где осень в пламень сложена.
Пойдем пораньше, а вернемся поздно вечером.
Сентябрь пылает, как куплет, удачно сложенный.
Октябрь
Раннее утро. Серое небо. Дождь со снегом.
Не было прежде такой печали: октябрь — в самом начале.
Что же тут нового? Что тут печалиться? Невидаль эка!
Это распутство меня почему-то не огорчает.
Сыплет летучий снежок анонсом зимы колючей.
Ловит пацан снежинки ртом, разбойник: мокрое дело!
Снова влезть в сапоги и калоши — это ль не случай!
Осень на голое тело дырявый халат надела.
Ноябрь
Ноябрьский сплин. Серебряная осень.
Халва небес — хоть мажь ее на кус.
И, медный звон в сердцах швыряя оземь,
звонарь зашелся. Гнев его — кургуз.
Короткий день сменяет заступ ночи.
Пора уснуть — поди, сочти до ста.
…Поет ли кто? Не то: река лопочет
и обещает скорый ледостав.
Декабрь
1
В почерневших ветвях не заблудится солнечный луч.
Он чуть-чуть поплутает — и выйдет опять на свободу.
Надо ж так исхитриться: и в ступе воды потолочь —
и из ступы извлечь не только толченую воду.
Слово — тот воробей, что склюет из кормушки зерно,
прочирикает: «Чур меня!», крылышком чиркнет — и ходу.
Я — из племени меченых, коему право дано
бить по ветру крылом и слова отпускать на свободу.
Пусть сбиваются в стаи. Пусть ходят под рифмой и без,
не беду накликая — из бездны звезду извлекая.
В почерневших ветвях не споткнется осколок небес,
он чуть-чуть поплутает — и в небо вернется, сверкая.
Календарь декабрем выпадает. Вот-вот Рождество.
И подарки доспеют, и звездами небо заплачет.
С нами вот что случится: еще не увидев волхвов,
мы поймем: что-то будет.
Кто-то грядет, не иначе.
2
Декабрем календарь не кончается, нет.
Прокрадется сквозь шторы простуженный свет.
Пробирается свет. Распускается звон.
Длинноносая птица спешит на поклон.
Забинтовано небо аптечным бинтом.
Ртутный столбик с утра говорит не о том.
И стоит на своем, и упасть не спешит.
Ветер птице атласные перья пушит.
Робко прячется солнечный заяц в углу.
Пробирается луч сквозь молочную мглу.
В черных ветках, как в строчках, запутался день.
Распускается звон. Уменьшается тень.
Ты проснешься, стряхнешь с покрывала перо.
Удивишься — как вымахал за ночь сугроб,
как напуганный заяц глядит из угла…
И протянешь ладонь.
И расправишь крыла.
Акварели
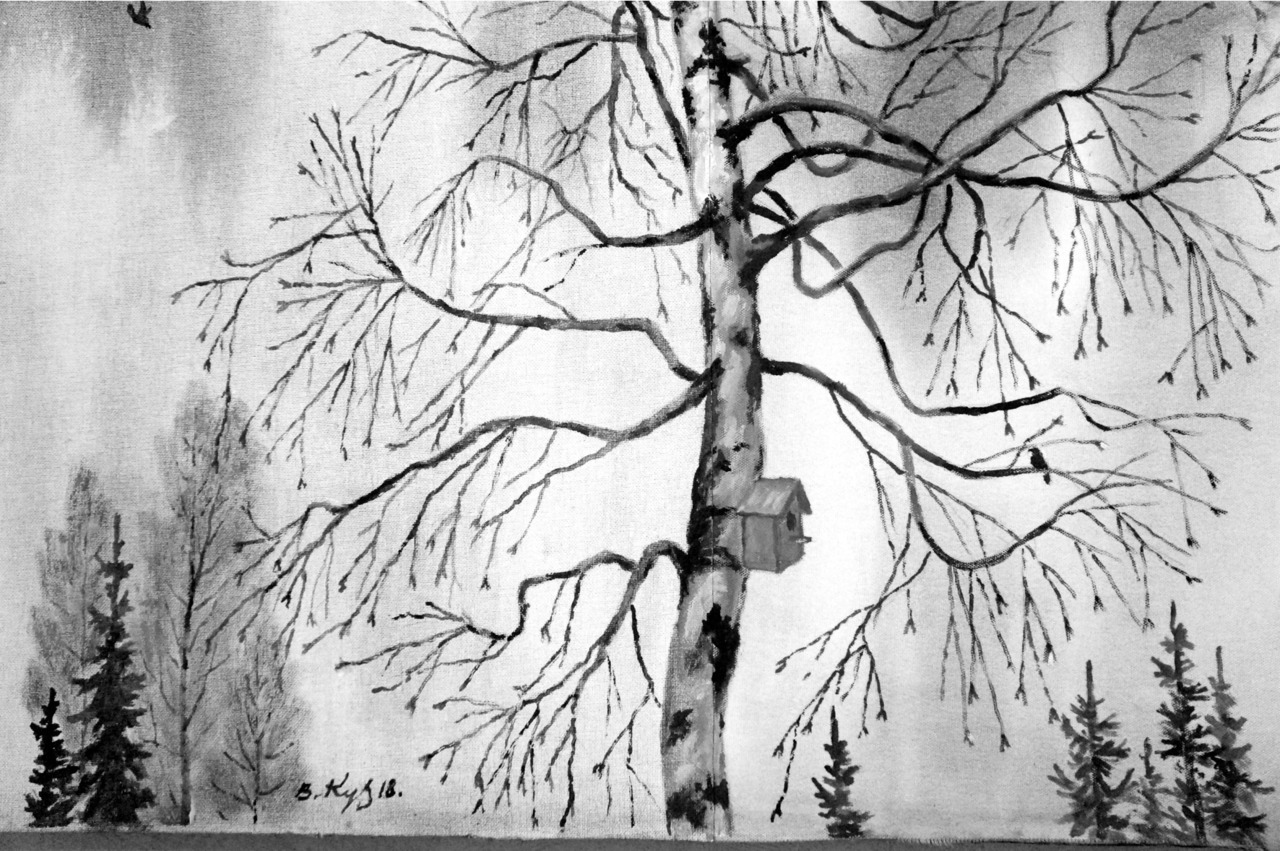
Касанье о душу души
тогда не могло не оставить
ожога, тогда не могло
бесследно пройти для души.
Но нет: только легкий ушиб,
лишь нежности трата пустая.
…И только теперь обожгло
касанье о душу
души.
* * *
Позабуду старые печали,
новую придумаю печаль.
Я и полюбить тебя — не чаял.
Мне и разлюбить тебя — не жаль.
Так ли? Зубоскаля над собою,
я сижу на кухне, как сверчок,
просклоняв «любовь, любви» — с любовью
разминаю пальцами бычок.
Дремлет кот, уткнувшись носом в угол,
тикает будильник-стукачок…
До конца положенного круга
сколько нам осталось, старичок?
Забывая старые замашки,
соблюдаю сдержанность в письме.
За окошком — клочья промокашки —
из снежинок состоящий снег.
Состоящий сплошь из аллегорий,
лунный свет ложится на бугор…
Дважды два — четыре. Горе — горе.
Счастья — нет. И кончим разговор.
Осень
Эта осень
пришла и дунула
серой сыростью
по полям.
Эта осень
сплеча придумала
почерневшие тополя.
Отыскав, проложила скатертью
к нам дорогу
издалека.
Перекатною голью катятся
перелетные облака.
То они закурлычут, жалуясь,
то они загогочут, злясь,
то на землю дождем пожалуют —
и разжалуют землю
в грязь…
Эта осень пришла
недобрая,
необычно пришла, не в срок.
Эта осень
перроном дрогнула,
убегающим
из-под ног.
И скатились
к нулю по Цельсию
две слезинки в колесный стон.
Неожиданна, как агрессия,
сыплет осень
сухим
листом.
* * *
Мир был еще таким новым,
что многие вещи не имели названия,
и на них приходилось показывать пальцем.
Г.Г.Маркес. «Сто лет одиночества»
Когда бы я знала, что ты уже был у меня
тогда, когда мир еще только терпел сотворенье,
когда еще не было белого стихотворенья,
когда еще не было ночи и не было дня,
когда бы я знала, когда б разглядела, любя,
тогда, когда тверди и тверди едва обозначив, —
«А может быть, как-нибудь все это переиначить
и сделать не так?» — так Творец размышлял про тебя,
поскольку еще про кого же ему размышлять?
Ни духа вокруг. Ни души. Ни слезинки, ни слова.
И переиначивал, и сотворял тебя снова.
Когда бы я знала. Когда б я могла это знать.
И был ты — и не был. И снова ты не был — и был.
И вот завершилось творенье. Когда бы я знала!
И мир, торопясь, становился всемирным вокзалом,
но в нем еще слышалось чистое пенье трубы.
Тогда, когда все объяснялись одним языком,
когда еще не родилось мастерство перевода,
и слово «свобода»… да не было слова «свобода»,
свобода еще не надела словесных оков.
Свобода была — как младенец: светла и нага,
никак не звалась и ничем себя не выдавала.
Она ликовала! Она, как дитя, ликовала!
Была она светом дневным — и теплом очага.
Слова не нужны, где теплом согревает очаг.
Где царствует свет — не важны очертанья предметов.
Когда бы я знала, когда б догадалась об этом —
все шло бы иначе. Скорее. Не так, как сейчас.
Не знала.
И время застыло на мертвых часах.
И сердце заныло, по жилам гоняя водицу.
И я поняла: еще час не назначен родиться
и мне, и тому, кто качнет мою жизнь на весах.
И небо моля, на лицо уложила ладонь,
закрыла глаза — и услышала голос далекий:
«Я был у тебя! Я давно уж стою на пороге!
Когда бы ты знала — я твой негасимый огонь!»
И вот я увидела: там, на краю, на краю,
у самой черты горизонта, на грани покоя
стоишь, молчаливый, и машешь кому-то рукою,
и машешь рукою — и в сторону смотришь мою.
Мария
1
Простишь ли, Мария, мне звук опрометчивый тот,
который, два имени накрепко соединивши,
смятенного духа и плоти уродливый плод,
свободу однажды обрел — о, Мария, простишь ли?
Простишь ли заплеванный пеной морскою причал,
куда я тебя провожать выходил на рассвете,
где после, с восходом луны, осторожно встречал,
где мокрый песок да рыбацкие дряхлые сети
висели на белых от высохшей соли столбах…
Ты каждую ночь приплывала на узенькой лодке.
И весело было — избавить тебя от рубах,
себя — от тоски и от страха!..
Звериной походкой,
точнее — побежкой неслась за окошком луна.
В рыбацкой лачуге шарахались тени под лавки.
Простишь ли, Мария… Бокал азиатский вина
сильнее пьянил, чем теперешний спирт без разбавки.
Коптила свеча или лампа с плохим фитилем.
Под грязным стеклом рыжеватое морщилось пламя.
Лачуга казалась не то чтоб совсем кораблем —
скорлупкой рыбачьей, замученной в море штормами.
А море и правда штормило. Мы слышали, как
ломаются волны о берег, просоленный, крепкий,
как ветер кряхтит, отрывая от гор облака,
швыряя с размаху их в белые хищные гребни.
И не было в мире греха, что считался б грехом,
поскольку хозяйничал дьявол от тверди до тверди.
И весело, весело было — единым глотком
бокал осушить, ожидая рассвета, как смерти!
Простишь ли, Мария… Рассвет был изящен и сух.
Уже не штормило, и берег блестел от ракушек.
И было расстаться легко.
Только, названный вслух,
тот звук опрометчивый крепче вязал наши души,
чем узел морской.
Щекотнула губами висок,
толкнулась легко, заскользила — все дальше… все ближе…
Причал опустевший, заплеванный пеной песок,
да волны ленивые берег просоленный лижут.
Мария! Мария! Бывает — шумит за окном,
то ливень шумит, то следы заметающий ветер, —
покажется вдруг: это море царапает дно,
совсем не фонарь, а луна одуревшая светит.
И я в подоконник упрусь, припадая к окну,
и вижу: на белых столбах — полусгнившие сети.
И узкая лодка плывет, попирая волну.
Все дальше от берега, все — вдалеке — неприметней.
2
Шьет Мария рубаху себе из холста.
Над Марией ночная висит темнота,
неподвижна. Лишь пламени чуткая тень
чуть качнется порой — и поскачут со стен
тень Марии, холста, тень иголки в руке,
тень свечи, тень печи, тень кольца в потолке,
на которой качается тень колыбели.
Спит младенец. Ах, как ему все надоели!
Как вы, Господи, все надоели ему!
Он проснется, уставится в теплую тьму,
что висит над Марией, над хижиной, над
колыбелью, над миром, который не рад
ни Марии, ни новой рубахе ее,
ни младенцу, над миром, что весь — забытье.
Что ему этот сморщенный отпрыск недельный?
И заплачет в своей колыбели младенец.
И Мария, склонившись, отложит шитье,
и качнет колыбель, и на чадо свое
поглядит, как на чудо, увидеть стремясь
эту легкую нить, эту дивную связь
меж младенцем, что страхом полночным влеком, —
и холодного берега черным песком,
и заплеванным пеной прилива причалом,
у которого лодку волною качало…
А когда за окном задрожит темнота,
и Мария рубаху дошьет из холста,
и послушные тени отпляшут свое, —
на мгновенье Марию возьмет забытье.
И она в небесах не увидит звезду
и волхвам не откроет. А те подойдут
и, тихонечко стукнув доскою дверною,
не услышав ответа, пройдут стороною…
Рождество. Иосиф
1
Ах, у любви свои резоны,
свои златые купола.
Опять, тепла не по сезону,
зима зимы не сберегла.
Снега становятся водицей,
к земле спешившею зазря.
И радость пьяная светится
на мокрой морде января.
И я бы выпил белой водки
или хоть красного вина…
И осязаемо, и кротко
раздвинет облако луна.
Возьму и выпью, я не гордый.
В бокал литого хрусталя
плесну — и чокнусь с мокрой мордой,
свою тревогу оголя.
И вновь. И разобью посуду!..
Ах, дорогой мой пьяный друг!
Ведь сколько ни готовься к чуду,
оно всегда приходит вдруг.
Оно всегда наступит сразу,
и горло сдавит немота.
И заготовленную фразу
не смогут вымолвить уста.
2
…Ну вот, ну вот: стезей ведомы,
робки, возвышенны, тихи,
идут тропой, подходят к дому,
плащами скрыты, пастухи.
И — чу! — меняется погода.
Слеза застынет на бегу.
И белой стружкой с небосвода
прорехи скроет на снегу.
И мир, и суетный, и бренный,
прозрачным станет, как слюда.
Светает. Пахнет свежим сеном.
А в небе
теплится
звезда.
Сретенье
Симеон не может умереть:
он Христа покудова не видел.
Дверь в его холодную обитель
смерть никак не может одолеть.
Что же за тревога Симеону?
Он хоть стар, пожить еще не прочь,
аккуратно счет ведет поклонам,
молится и молится всю ночь.
И снедает тайная мечта
праведника в тишине обители:
вот бы никогда ему не видеть
этого блаженного Христа.
Так бы он и жил, другим на зависть,
и на убыль не пошли б года…
Но над Вифлеемом показалась
как-то ночью новая звезда.
Сделались и четче, и ясней
очертанья пламени над свечкой.
Пастухи, забыв своих овечек,
принесли младенца из яслей.
Все, что дальше будет, знал заране
праведник усердный Симеон:
в Иерусалимском Божьем храме
нового Христа увидит он,
и тогда возьмет его Господь
и зачтет молитвы и поклоны…
Ах, как не хотелось Симеону
покидать дряхлеющую плоть!
Но, когда к назначенному сроку
в храм внесли младенца, — пьян от слез,
Симеон, назначенный пророком,
вслух ему осанну произнес.
После вышел и не оглянулся,
промыслом Господним угнетен.
Той же ночью лег и не проснулся
праведник усердный Симеон.
Акварель
Валерию Кудринскому
Здесь так тихо и благостно так.
Солнце яркое, небо пустое.
Пахнут яблони терпким настоем,
утопает рябина в цветах.
Все струится желанием жить,
все стремится достичь совершенства.
И при помощи слова и жеста
ничего невозможно решить.
Ничего невозможно понять
в щебетании птичьем беспечном.
«Мир достроен, но жизнь бесконечна», —
очень просто на веру принять.
Очень просто поверить в себя
и в себе разобраться — и ахнуть.
Ах, как яблони искренне пахнут
и рябины цветами рябят!
Очень трудно сюда не прийти,
а придя — очень просто остаться,
с маетой повседневной расстаться
и былинку покоя найти.
Но прошел ветерок, и увлек
за собою мечтанья пустые.
И посыпались с яблонь цветы. И
я вспомнил, что путь мой — далек.
Художник
Юрию Попову на юбилей
Куда приводит наше ремесло,
которое мы втайне обретаем?
Холодный мир людей необитаем,
и нас сюда случайно занесло.
Как будто лампу вздули в темноте —
и озарили скудное пространство.
Неровен свет, он весь — непостоянство.
Фитиль дрожит — и внемлет пустоте.
Но выступает тень из темноты,
из пустоты выходят горлом звуки,
рождая образ, заставляя руки
готовить краски, грунтовать холсты.
Художник слеп, покуда в темноте
случайный свет не озарит детали.
Но — ремесло! Его мы обретали,
глотая тьму и внемля пустоте.
Оно теперь уводит за порог,
мешает жить, полощет криком горло,
и, подхватив, возносит к высям горним,
хоть мир людей уже не так убог.
И вот уж с кистью спаяна рука,
и Чаша Озера явилась из тумана.
И Бог вздохнул, раздвинул облака —
и поглядел на мир глазами Пана.
Три Грации
Марине Саввиных,
Румяне Внуковой,
Анне Киселевой
Явились мне три Грации вчера,
одна другой прекраснее сестра.
Явились наяву, а не во сне.
Теперь живут три Грации во мне.
Твоих картин магическая ясность,
Твоих стихов кавказская пастель,
Твоих романсов подлинность и страстность —
и Светлый Лик, и Промысел, и Цель.
Будь счастлив, Дом, в котором это было,
в котором слово множится на звук!
Живут цветы, хоть озеро остыло.
Звучат стихи. Искусство сходит с рук.
Зачем поешь, и пишешь, и колышешь
Ты гладь холста, невинную досель?
Мы — не вольны, нам все дается свыше:
вот — Светлый Лик, и Промысел, и Цель.
Прекрасен мир, где царство светотени,
где слог в цене и музыка — в весне!
По моему ль, по Вашему хотенью —
прекрасен мир!
Три Грации — во мне!
Грузия. Фрагменты
1
О, горы Грузии! Языческий восторг
и христианский трепет неподдельный!
Горел сентябрь. Наш отпуск двухнедельный
стоял в зените. Плавился восток,
а вечерами запад напоказ
катил закат на алой колеснице.
И нам порой казалось: только снится
нам вольный край по имени Кавказ.
Тифлис дышал покоем и родством,
струил вино и аромат хинкали.
И «мамин хлеб» из дедовых пекарен
был так пахуч, что пахло волшебством!
И волшебством дышало всё: река —
ее валы желтели под мостами, —
и над рекой волшебный Пиросмани
держал барашка в бережных руках.
Волшебно пел булыжник под ногой,
мы шли наверх, к короне Нарикала.
И синева прозрачно намекала,
что пропустить пора бокал-другой.
Пылал в стекле рубиновый пожар.
Бокал вскипал лозою Алазани.
И мы у груши сердце вырезали —
нас грушей щедро одарил Важа.
И это было тоже волшебство —
грузин Важа (хоть правильнее — Важа;
порой, ища изящного пассажа,
мы не щадим буквально никого!),
и виноград, и сливы сизый бок,
и спелой груши мягкая истома!..
Нам хорошо. Мы далеко от дома.
Тифлис дышал.
И плавился восток.
2
Скульптор Акакий Кабзинадзе
Бронза от времени не стареет, лишь покрывается патиной.
Патина — не паутина, хоть время — паук.
Будь удача щедрей, она платила бы золотом или платиной
за одно только золотое сечение,
выходящее из-под этих рук.
Золотое сечение, бронзовое свечение.
Патина — тусклый отблеск ушедшего. Плотина. Преграда
у забвения на пути.
Бросить ли карты веером? Вздремнуть над кофейной гущей?
Впасть в искус столоверчения,
понять чтобы: чего он хочет?
Какую сагу бормочет?
Какой мотив?
Патина — не паутина. Искусство — не искус.
Культура — культова.
Бронза от времени не стареет. Она от времени требует
жарких объятий, лютой любви огня.
Будь удача мудрей, из паутины щедрот она б соткала мастерскую скульптору,
такую, чтобы вся бронза мира могла поместиться в ней —
и покрываться патиной, победно звеня.
Старому другу
1
Был январь.
На станции «Тайга»
мы вошли в святилище буфета.
Столики на выгнутых ногах
приняли измученных поэтов.
Мы вина спросили, а еда
нас тогда не слишком занимала.
На двоих была одна беда,
да и та бедой не называлась.
Бледный свет облизывал столы,
обходя стаканы с темной влагой.
Наши мысли были так стройны,
что пера просили и бумаги.
За окном кричали поезда,
от перрона счастье уплывало.
Нас манила дальняя езда.
Шел январь.
И денег было мало.
Мы тянули терпкое вино.
Был январь. Погода подвывала.
Мы не знали, сколько нам дано, —
вот беда.
А горя было мало.
2
Редеют старые леса.
Их не осталось
Мой друг уходит на глазах.
Виной — не старость
и не усталость, не недуг
непоправимый.
Я сам — виной.
И старый друг
проходит мимо.
Идет потерянный, ничей.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
