
Предисловие
У меня появилось новое хобби. Хотите верьте, хотите нет — вчера вечером я обнаружила себя на кухне разбирающей залежи на столике в углу, причём с превеликим удовольствием, так что не могла остановиться и прервать это занятие далеко за полночь. Такая неспособность прекратить начатое дело случается со мной регулярно где-то к концу декабря, но!.. До сих пор я год за годом в декабре не могла оторваться от желания вязать, что бы то ни было, жилет так жилет, шапку — так шапку. И, зная за собой такую особенность, в этом году я уже в ноябре купила подходящие мотки шерсти и спокойно ожидала, когда на меня нападёт это непреодолимое и такое знакомое, как регулярный запой у алкоголиков, желание.
Но тут началось… В связи с юбилеем Бетховена по радио зазвучали приторные голоса, обвиняющие великого человека в… Как бы вы думали, в чём? Нет, он не состоял ни в какой профашисткой партии, как некоторые другие выдающиеся личности в этой стране, которым все такие «побрякушки» с рук сходят и их не перестают ни по радио, ни по телевизору превозносить — как, например, Хайдеггера — ну подумаешь, писал в своих «Чёрных тетрадях» с неподдельным восторгом о Гитлере — ну и что? Его не размажут мордой об стол — великий философ остаётся великим философом! А вот Бетховена мордой об стол и чуть не каждый день — а за что? Да просто за то, что у него дома творился невообразимый беспорядок и рукописи в обнимку с предметами одежды и с колбасой… И с каким удовольствием превеликим размазывают все эти подробности дикторы государственного радиовещания, мол, я, конечно, никакой «Оды к радости» не написал и даже до «Лунной сонаты» не дорос, а вот зато дома у меня такая чистота, хоть языком вылижи!
Бедный Бетховен! Человеку двести пятьдесят лет стукнуло, а изумлённые потомки всё ещё коченеют от восторга при воспоминании о его неубранной квартире! Но вот, как говорится, что капля камень точит, и все эти высокомерные передачи, в которых наглые снобы позорили великого композитора, сделали своё дело. Так я это понимаю, что на каком-то взгляду неподвластном уровне все эти сообщения вгрызались в мою подкорку, так что к концу года мне по-настоящему захотелось заняться уборкой, хотя до сих пор я не могла разглядеть в этом занятии ничего не только увлекательного, но и хоть сколько-нибудь терпимого. Но зато какой комплекс вины, которого я до сих пор не замечала, с треском лопнул — и его осколки были торжественно вынесены из дому и удостоились чести увидеть с изнанки внутренности мусорного бачка! И какое удовлетворение видеть этот угол кухни расчищенным и даже красивым! Не то чтобы это была радость — нет, не радость, но какое-то успокоение и освобождение: я почувствовала себя как река, которой удалось войти наконец в своё собственное русло.
И понравилось мне вот так играть в эти незнакомые мне игрушки — в игры освобождения от лишнего. И захотелось ещё — того же самого ощущения. И руки потянулись уже было разобрать всё то, что таилось в коробке под столом — и выбросить, выбросить, выбросить!
Но не тут-то было! В этой подстольной коробке я увидела тетрадочки, аккуратно уложенные и исписанные почти детским почерком — таким аккуратным, словно бы автор не знал, что с помощью компьютера или, как в древние времена, с помощью пишущей машинки можно добиться идеальной формы преподнесения текстов. Откуда это всё? Эта коробка, как вспомнилось теперь, была мне подарена — всучена — вместе с неким огромным платком… и происходило это лет десять назад в одной районной благотворительной организации при церкви, где работали уж очень рьяные деятельницы, ведущие общественную работу с беженцами, безработными и другими несчастными, не имеющими постоянного пристанища, места, где они могли бы собраться и поговорить о своих проблемах. Эти деятельницы устраивали совместные завтраки, курсы немецкого языка, совместные садовые работы и — выставки картин. И однажды после одной такой выставки ко мне подошла женщина лет сорока и вручила мне эту вот коробку с рукописями и в придачу настолько роскошный платок два на два метра, что я даже растерялась — как можно принять от незнакомого человека такoй дорогой подарок?

У этой женщины, как мне показалось тогда, дрожали губы и голос прерывался, когда она рассказывала мне о том, что этот платок принадлежал какой-то уж очень хорошей женщине, до того хорошей, что отдать его ей захотелось хорошему человеку — а именно мне. Ну и рукописи — в придачу. А что такого хорошего она смогла во мне разглядеть? Понять это было абсолютно невозможно: она увидела меня тогда впервые и с тех пор не прилагала никаких усилий, чтобы увидеть меня снова.
Но, как видно, смерть владелицы роскошного платка так повлияла на эту ещё довольно молодую женщину, что ей было просто необходимо отдать — и, как ей померещилось, в добрые руки — этот платок, чтобы сказать кому-то пару слов о том, какой уж совсем необыкновенной, ну до невозможности прекрасной была эта покойница — а как эту умершую звали, не сказала, и как её саму звали, тоже не сказала и так — испарилась в воздухе, и больше я её не видела. Никогда.
А до рукописей, таившихся в белой коробке под столом, руки у меня дошли только теперь — в связи с тем, что дикторы радиовещания протаранили мне все уши, расписывая беспорядок, царивший в доме у Бетховена. А всё-таки они добились своего — и я вытащила эту коробку из-под стола и открыла тетрадку размером А5 в зеленоватой обложке… И тут до меня дошло, что уж такого особенно хорошего эта женщина нашла во мне и почему решила сделать такой роскошный подарок именно мне! Из всего, что обо мне как об авторице картин, выставленных в стенах того благотворительного учреждения, было написано в аннотации на стене, она вынесла лишь одно известие — что я родилась в России и, следовательно, должна понимать по-русски!
Я начала читать, надеясь обнаружить где-нибудь вставленные известия о том, кем была эта «прекрасная» женщина, написавшая все эти тексты, и как её звали. Но дальше надежды дело не пошло, и мне пришлось смириться с тем, что я никогда не узнаю её имени, потому что та, что чуть не плакала, передавая мне её вещи, скрылась из виду — и навсегда.
И под конец мне понравилось — и не только читать эти листки, но и перепечатывать их на компьютере: померещилось, что таким образом удастся распознать в них некоторый общий смысл. Я решилась даже вставить в них иллюстрации, которые показались мне подходящими из бродящих по интернету. Кое-где захотелось мне вставить в это повествование какие-то мои собственные заметки — отсебятину, как принято говорить в таких случаях, или «лирические отступления», как в школе говорили, что Пушкин не побоялся вставить в роман «Евгений Онегин» некие отрывки о самом себе и не постеснялся вот так уж совсем напрямую сравнивать себя, вполне реального, со своим героем, вполне изобретённым!
У этого повествования обнаружилось несколько вступлений, написанных, как видно, в разное время: тут и «Увертюра», и «Собачья мать», и ещё некоторые заметки, но мне показалось всего сподручнее начать это повествование вот с этого вступления, хотя оно и названо неоконченной фразой: «Посылая нам привет…». Интересно же узнать, кто это «нам» привет посылает, и почему эта фраза такая оборванная, как заплатка какая-то, и что эта заплатка скрывает: на какую дыру она поставлена и пришита белыми нитками, чтобы скрыть от всех нас и саму эту непонятную прореху!
«Посылая нам привет…»
Этот Айсберг начинается со сверкающей вершины, поблескивающей там, вдали, там, в том времени, когда мои родители пели… Но и теперь они поют те же самые песни, и шагая по лесу, и в домашних, не совсем счастливых условиях, и пусть комната всего двенадцать с чем-то квадратных метров на четверых, но они поют эти песни и вдвоём, и с гостями, и наедине, и стены сначала раздвигаются, а потом совсем пропадают, — нет никаких стен, и я вижу что-то, чего я не вижу наяву, но я это вижу по их глазам — то же самое, что видела когда-то, восседая, как царица всего праздничного убранства и разноцветья, у папы на плечах, и вот мы идём, идём по этой широченной улице — по Невскому проспекту — и мамина голова слева у меня под левой ногой — ножкой — да, у меня ещё маленький, такой красненький ботиночек на этой крошечной, по сути, ноге, и она побалтывает — болтается возле маминого лица, а шапки у неё, у моей мамочки, на голове не вижу, вижу только шапку волос, заправленных в настоящую корону — ну в принципе это ведь и понятно, разве не так? Если я — такая могучая царица, и мне подвластно всё это многоликое, многошумное сборище до самого горизонта, и все эти поздравления звучат, и шарики многоцветные в небо вздымаются, и кричат поздравления со всех сторон, ну тогда ясно, что и моя мама тоже царица самая настоящая, с её изумительной красоты лицом, а какая ещё могла бы быть моя собственная мать, если я вот сейчас возвышаюсь над всем этим восторгом и пением — да, какая ещё могла бы быть моя собственная мать?
— Нам нет преград! — вот что они поют, это поёт мой папа, на плечах которого я восседаю сейчас, как на троне, и мне это очень нравится, что преград нет никаких вообще, «ни в море, ни на суше», и что «не страшны ни льды, ни облака», а про «знамя страны своей» — это ещё не совсем понимаю, ещё слово «знамя» не совсем понятным кажется, хотя вот они, знамёна, такие солнечные и почти прозрачные от лучей солнца, как румяные яблоки со всех сторон, но я что — не доросла, что ли? Вот слово «флажок» понимаю, он у меня в руке (или в ручке?), и мне кто-то ведь сказал однажды: «Вот тебе флажок», — и мне понятно это стало, что флажок получить — это подарок, это что-то хорошее, хоть он не сладкий и его нельзя облизать, как того петушка на палочке, которого дадут потом, но всё равно он хороший, и им сладко помахивать в воздухе над головой, наблюдая за всеми этими шарами, что поднимаются слева и справа от меня, и звучит мелодия, и все поют такими разношёрстными голосами, и я даже не знаю, пою ли и я сама вместе с ними, но что-то подпеваю, что «нам не страшны», это точно подпеваю, а про «знамя страны своей», наверное, нет, потому что это ещё очень трудное для меня слово, и я в этом грохоте и шуме не все слова понимаю. Что шнурок на левой ноге не очень хорошо завязан и может ударить мамочку мою любимую по щеке — это я точно понимаю, если я и дальше буду вот так размахивать этой левой ножкой… вот это отсюда видно, и кажется мне почему-то, что шнурки завязывать правильно и вдевать их все в определённые дырочки — что этому я ещё почему-то не научилась, это трудно, это, как слово «знамя», пока непонятно, и хотя я — царица и мне подвластно вроде бы всё, а вот это неподвластно, и когда слева улица Гоголя оказалась, и мы подходим, уже вливаемся в огромную площадь, и громче становятся все крики, и уже забываешь о незавязанном шнурке, и руки подымаешь вверх, и вместе с флажком, и отчаянно машешь от этого восторга, перекрывающего всё вокруг, орёшь и машешь вместе со всеми, и они все во мне…
…Лицо у сидящей на плечах отца великой королевы ещё не различимо, но она хорошо понимает, что такой повелительницей пространства она может быть лишь в том случае, если ей удастся сохранить вот это месторасположение — на плечах у кого-то, из которого она вырастает, как ветка из ствола дерева. А что у этого ствола были когда-то ещё и корни, это она узнает скоро, когда познакомится со своей бабушкой — с матерью того ствола, но дальше знание не пойдёт, в глубину земли не проникнет, хотя был ведь такой миг, когда и всего-то через год удалось проникнуть взглядом в глубину земли и рассмотреть там просвеченные солнечными лучами корни великой ели, шумевшей над головой в ту пору — корни, подвластные в тот миг пытливому взгляду трёхлетнего ребёнка.
И это — всё, и больше ничего не было понятно ни о каких корнях, потому что взгляд ушёл в сторону, и бабушка полюбилась не потому, что в ней сидел когда-то папа, как в матрёшке. Бабушка и была, быть может, та самая мать сыра земля, потому что если броситься к ней в объятия и прижаться крепко-крепко, вся горечь любой детской беды начинала отпускать и растворяться, как соль, брошенная в воду. Надо было просто почувствовать её мягкость и доброту, даже и не помышляя о том, что она и есть твой корень, непобедимый, и на какое-то ещё оставшееся время этот корень пока не в земле — слава богу, ещё удалось пообниматься и поцеловаться с этим утешительным корнем, а что ещё и дедушка был когда-то… дедушка всплыл с другой стороны, со стороны матери, когда он поправился и смог гулять с нею — за какие-то полгода до своей смерти — самый светлый человек на земле. А дед со стороны отца — ну да, он был когда-то, вот его портрет: высоко-высоко на книжной полке — не особенно привлекательный портрет. Похожий на родного папочку до остолбенения, но без папиной доброты и тепла в глазах, без той улыбки, с которой папочка её на руки поднимал и на плечи к себе водружал, чтобы она смогла стать царицей, побеждающей весь мир у себя под ногами, в красных ботиночках со шнурками, которые не так прочно были завязаны, как хотелось бы, не так крепко, чтобы не стегать любимую мамочку по её такой красивой, особенно если смотреть сверху, щеке.
И теперь, по прошествии сотен и миллионов не таких счастливых дней, не таких сияющих на солнце, а потонувших вон там, под ногами, в сером вязком мареве повседневности… Там некрасивые секунды, там дни с перекошенными лицами, все они болтаются там, и туда заглядывать не хочется, и совсем, а оставаться только в том самом лучшем дне, и если он был в 1949 году, то, к сожалению, наверняка в том порыве восторга на площади пели и те непроизносимые слова, которые в её более сознательном возрасте просто вычеркнули из этой счастливой песни про то, что «холодок бежит за ворот». Но тогда ещё никто не знал, что эти слова придётся вычёркивать и эти усатые портреты по ночам снимать, и если шнурок на ботинке ещё было никак невозможно завязать своими руками, то точно, что год был разве что 1949-й, и не позже.
А теперь начинаются совсем другие времена, разворачиваются такие странные времена, в которых маленькие дети не понимают, какое это безмерное счастье — если «нам нет преград», — ну просто не вмещают в себя всего этого восторга, и им надо об этом рассказать, ну просто поделиться, чтоб и они узнали, что к чему и из чего был построен этот Айсберг, такой сверкающий на верхушке и такой непроходимый там, внутри, в незаметном подводном мире.
Айсберг, от которого мы уловили только его яркую, более чем привлекательную вершину — верхушку — и, не вспоминая сказку про вершки и про корешки, побоялись заглянуть поглубже… или не решились — хотя нам ведь «не страшны ни льды, ни облака», это-то нам не страшно. А вот то, что под поверхностью воды, туда — как? Не страшно?
И если эту строчку про то, что и само солнце должно светить «сильнее» для того, «чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет», удалось замять для ясности, то как с теми другими личностями, которые тоже, может быть, хотят поднять руку, чтобы послать «нам» привет из того, подводного, за семью замками семи поколений таящегося мира?
Хотят ли они нам оттуда послать привет? Кто-нибудь из них? Или погасло и само это их желание с этим невозвратимым временем в придачу — и вмёрзло в склизкие толщи подводного льда? Или, может быть, вовсе и не привет они хотят нам оттуда послать, а что-то совсем другое?
Ответ на этот вопрос пришёл неожиданно: подкрался и оглушил как обухом по голове.
Седьмой этаж: 1842–1850
Подводная часть айсберга.
Кон фуоко
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Леокадия, жена графа: седьмое поколение
Никанор, крепостной соседского помещика:
седьмое поколение
Барчук, сын Леокадии: шестое поколение
Аксинья, дочь Никанора: шестое поколение
⠀
1 глава.
Такая странная погода
Барчук
Что у всех самая первая любовь бывает такой, бывает блестящей и сияющей — не мне судить. У меня другой первой не было. Первее не придумаешь — ну что ты скажешь — в тринадцать лет?
И если бы это случилось при других обстоятельствах, то… от несчастной любви ведь детей не бывает — так? Если бы это блестящее и сияющее, как шаровая молния, например, ударило бы — ну, например, в тебя — и не где-нибудь, а в старинном замке, как теперь говорят, что эти замки — все, нормальное место проживания для меня и моих родственников, для наших друзей и товарищей, что они якобы старинные и что там завелись какие-то духи… Ну вот, может быть, такой именно дух и подскочил ко мне сзади и нанёс мне удар в самое темечко, а когда я очнулся и раскрыл глаза, то увидел…
Ну что ты скажешь, в этот миг гроза ещё не подкрадывалась к нам на мягких лапах, так — погромыхивал где-то гром, но это на таком далёком расстоянии, что его будто бы и не было, а была тишина, прервавшаяся только ударом кнута и визгом какого-то животного, проскочившего под окном. Эти длинные, до самого пола, и высокие окна, и узкие и с закруглением наверху, и я к такому окну подошёл и смотрел, что там происходит внизу…
Представь себе тишину — такую, как бывает темнота, и говорят, что так темно, хоть глаз выколи, вот так было тихо… Вот такая была тишина — абсолютная — как чистая, до дна, вода, вот такая — НИЧТО. И, может быть, моя мать выговаривала и тогда какие-то слова, потому что она молчать не умела, это как пить дать, но в этот миг — ну может быть такое мгновение на свете, когда все слова куда-то ушли? Попрятались по своим норам и выглядывали только… из-под кресла, например, одним мохнатым серым ухом выглядывало какое-то слово — необязательное, так, болтовня какая-то, подобающая какой-нибудь горничной или поварихе, а не моей матери, снабжённой как-никак всеми аксессуарами богатства и власти и с огромными, как мне тогда казалось, алмазами на груди и в ушах; а зачем всё это тяжёлое таскать?

А вот надо таскать, надо соседям показывать, что она, мол, ну, в общем, — не знаю, каким это словом обозвать, ну, может быть, престиж — подойдёт тебе такое слово? Чтоб тебе как следует уразуметь этот момент внезапной и полной ТИШИНЫ — Ничто — уничтожения всего, который опрокинулся на меня и обрушился, как мне казалось, на всех… Но моя мать не переставала вышивать свои розоватые какие-то цветочки на пяльцах, потому что прекратить это занятие не могла — это было не в её власти, и она с умильным выражением лица сновала иголкой туда и сюда и, казалось, не слышала этой рухнувшей на нас тишины.
А я подошёл к окну и посмотрел вниз. На двор. И если бы не подошёл в тот момент — всё могло бы окончиться хорошо. Потому что ни раньше, ни позже, ни до ни после, такого сверкания всеми красками не было, потому что только в этот и именно в этот миг солнце пробилось сквозь чёрную мохнатую накипь на небе и просияло — на один только ослепительный миг, на секунду, и в этой секунде, внутри неё, я увидел какое-то скопление лучей, как… да, вроде как корону увидел над головой — на фоне чёрной, иссиня-чёрной и мохнатой и страшной, как медвежья шкура, которой меня в детстве пугали — вот на фоне этой, так сказать, тучи, но она была или казалась мне в сто раз страшнее любой тучи — на её фоне ярко горели на солнце, выскочившем всего лишь на секунду, может быть…
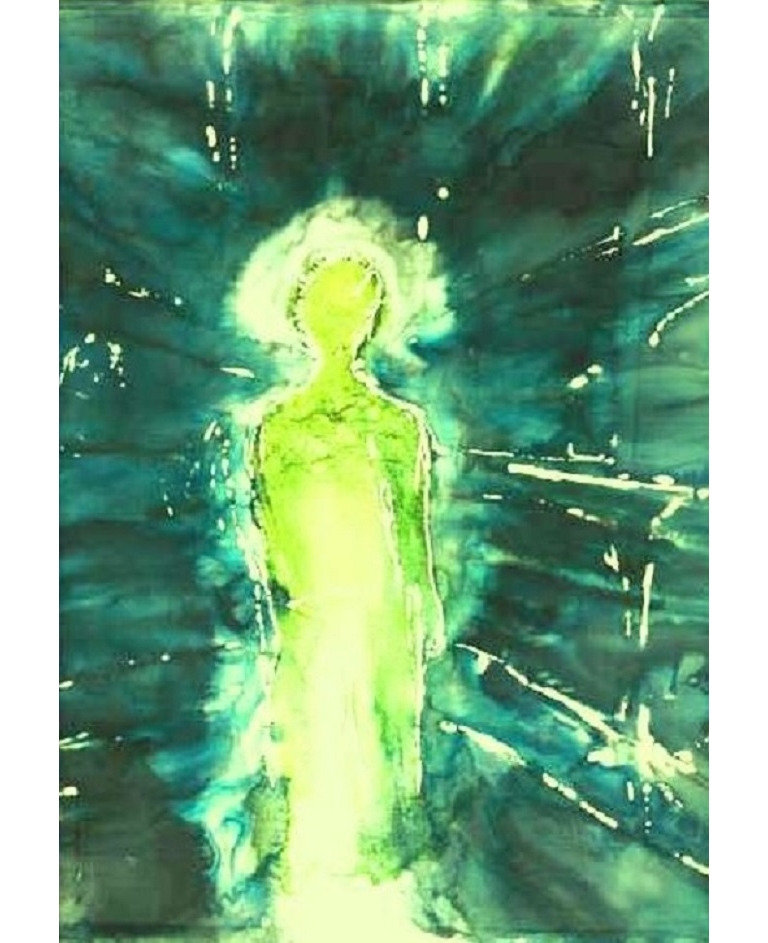
Я подошёл ближе и чуть не вывалился наружу, когда увидел. Что это была какая-то девчушка босоногая и в неновом, не в таком расписном, как у меня, платьишке каком-то захудалом и без всяких украшений, она там стояла и смотрела на меня снизу вверх. Но это я потом всё разобрал и понял, что так всё и было — и ноги без каблуков, и платье никудышное, и даже личико… ну если приглядишься, то ничего… особенного, так сказать. Но в тот момент, когда брызнуло солнце, она стояла осиянная его лучами, как в золотой, как в самой настоящей золотой сияющей короне, вот как святых рисуют в церкви — с нимбами над головой. Но у неё нимб был не придуманный, не пририсованный красками в искусственной попытке изобразить нечто поистине священное, а это была святость самая настоящая и никем не внушённая, это было живое доказательство того, что Бог есть, существует на самом деле — что он посылает мне теперь — значит, теперь это досталось мне — доказательство своего настоящего, а не придуманного кем-то в назидание потомкам существования.
2 глава.
Девчушка была в лапоточках
Никанор
Девчушка была в лапоточках. Я сам сделал ей эту обувку, это было моё искусство, моё хобби, и не только для моей собственной дочки я делал и, честно говоря, гордился своей работой, что лапти подходили на ноги… никогда не думал, что кто-то сможет высмеивать мою дочь, упрекать её за то, что она носила такую обувь. А ты вот попробуй-ка создать что-то такое! Ты носишь туфли из кожи и бархата, но разве ты сама создала такие произведения искусства и их к тому же вышила жемчугом? Не думай, что это было моё единственное желание — плести такую обувку! Нет, мне больше всего хотелось создавать настоящие шедевры из кожи, но где я мог достать такие дорогие материалы для своей работы? Так что, как ты понимаешь, я не мог воплотить в жизнь моё мастерство, мой талант, у меня были связаны руки. И если я кому и передал свой талант по наследству, это меня уж никак не утешает. Но моя дочь, моя милая-милая доченька, была и вправду удивлена, когда увидела этого молодого барчука в такой одежде, которая вся состояла из произведений искусства, из бархата с кружевами и с жемчужными вышивками. Не то чтоб он сам был уродлив, этот сын графа; правда, в свои тринадцать лет он ещё не был таким красавцем, каким стал потом, но его башмаки и его одежда — скажу тебе — это были истинные шедевры, и поэтому моя дочь, да, МОЯ, с моим вкусом, с моим пониманием искусства, она смогла оценить всё это по достоинству. Поэтому она, глядя снизу наверх, любовалась этим юным барчуком… а что и он сам неплохо выглядел, и фигурой, и с лица — вот если ты за всю жизнь ни разу не выполняла тяжёлую работу и ни один из твоих предков никогда тяжёлой работы не знал, и у тебя будет такая статная фигура! Ну а что касается его личика, всегда чисто вымытого, ну что сказать, ну да, оно было ничего себе, симпатичным, но до лица его собственной дочери, которая появилась у него позже, ему было как от неба до земли — кто был поистине красотой одарён, которая и во сне никому не приснится, так это была его дочь, а не он сам!
Ну а я гордился своей дочерью. Она была просто милая: такая милая, как глянешь, и сердце обрадуется! И совсем не дурочка. Но то что она так сильно любила своего младшего брата, который слишком рано ушёл из жизни — вот это сослужило ей плохую службу! Если бы не эта её любовь к братцу, то не случилось бы всего того, что произошло через пару месяцев после того, как эта гроза разрушила нашу жизнь — навсегда!
3 глава.
Как яблоня в цвету
Леокадия
Старухой я не была, хотя и чувствовала себя совсем не такой молодой и свежей розочкой, как та, что я вышивала сейчас, на этот раз по памяти, а не с натуры. Эта красота, которую можно теперь создать самой, а не увидеть в зеркале — перестать чувствовать себя красавицей — это так, словно бы снежные лепестки с тебя опадают: и слева, и справа от тебя они летят, покачиваясь на ветру, а ты стоишь между ними, как яблоня в цвету, и понимаешь, что в цвету тебе стоять уже недолго осталось, и что скоро уже всё это щекочущее и головокружительно душистое, аромат и блеск, всё это уйдёт, и навсегда, и невольно закрадывается чувство вины за то, что ты стареешь.
И блеск в глазах этого юного, совсем ещё юного вызывал во мне лёгкое замешательство: кольнуло снова, с привкусом раскаяния, это восхищение блеском юности: женщине не полагается любить молодого человека, если она старше его и намного, такая любовь навсегда должна остаться тайной и невзаимной, даже если этот молодой мужчина — твой сын и почти ещё ребёнок. Но всё же.

То, что его тёмные глаза вдруг оказались такими светлыми — как будто бы свет ударил — снизу вверх, от глаз — ко лбу — и эти его слова, с вопросительной интонацией произнесённые — исполнишь ли мою просьбу? Мамочка. Мамулечка. Долго ли ещё такие ласковые слова вкушать, наслаждаясь… как будто бы любовью, но какая там могла быть любовь, там была пропасть под ногами, и сын взрослел на глазах, из милого, такого нежного и ласкового превращаясь в того самого, в кого они все превращаются — в такого пустого и чужого, в жестокого без причины, каким стал через пару лет после нашей первой встречи уже и его отец.
(Вот если бы Бог послал мне девочку… девчоночку — подумалось вдруг — но так, без особого смысла подумалось, и не учла душа, что иные случайно вспыхнувшие желания исполняются порой, а другие, о которых годами молишь Бога, не исполняются — и никогда!)
4 глава.
Купи да купи!
Старуха-ключница
В лапоточках такая девчушка была, по двору ходила и с белыми — почти белыми, лучащимися на солнце волосами; и озорной, такой задорный взгляд бросила тогда на барчука, заезжего, в гости к барам к соседским. А барчук тот в кружевах на манжетах — ах, тебе и не снился такой костюмчик богатый, а и сам ничего собой с лица, не красавец, конечно, но симпатяга — в самый раз, и вот он к матери к своей раззолоченной бросился: купи да купи! Ну вот именно эту, ну вот ту, что по двору тут шастает!
А мать ему на ушко, — пахнуло от неё одеколонами какими-то:
— Тише-тише ты! А то он цену поднимет! — и подмигнула, мол, знай наших, куплю, но ты поумнее будь, дурачок мой маленький!
И смекнул тут барчонок, и выскочил на крыльцо. И глаз с девчонки не сводит, а подойти не решается, чтоб цену не набили баре соседские.
А девочка заметила его взгляд и остановилась. Ксюшкой её звали, Аксиньей, по двору бегала неспроста, а за козой быстроногой гонялась и её в хлев загнать пыталась палкой, а теперь остановилась и из-под волос своих нависших на барчука поглядела. А было ей и всего-то одиннадцать лет, не больше, и красивых таких мальчуганов она и во сне не видывала. А банты-то на рукавах, а кружева на воротнике и на манжетах! А сам — ребёнок почти что! Ан нет, каким-то недетским взглядом на неё посмотрел и сказал — не ей, конечно, а про себя сказал, что будет называть её Амалией, если мамаша, конечно, соизволит купить ему эту игрушку.
А взгляд был недетским потому, что приценивался и размышлял про себя, какую цену запросит сосед за девчонку дворовую и каким образом получится всё это дело обтяпать… все подробности обдумывал про себя, хотя и сам был немногим старше, пожалуй, на полтора только года постарше, и тринадцать ему ещё не исполнилось, и о том, чтобы вступать в брак, и речи быть ещё не могло, и не для брака законного покупала сейчас его мамаша крепостную девчонку, а так, для забавы младенческого возраста, потому что баловала своего любимца — безмерно.
5 глава.
Мать кричит
Аксинья
В полупотёмках там горят какие-то огни в окнах высоких моего господина.
— АКСИНЬЯ!!!!!!!!!!!
Этот голос как ножом прорезал, перерезал насквозь… перед парадным входом какая-то карета, всё роскошное и чужое, и мать кричит, обливаясь слезами, и не то воровское как будто имя, что мне присобачили теперь, а настоящее моё имя выговаривает, выкрикивает его в это небо:
— Ак-синья!..
— этот голос разлетается так далеко и как будто бы колеблет тучи над головой, нависшие чёрные тучи на багровом подбое — что это со мной и куда меня увозят на этой повозке? Нет, это — карета, и пышная, и нарядная, но не зря она мне показалась похоронной повозкой, и вот: отрывают от родимой моей матушки, и ей загораживают путь — не смей подходить! — и это она кричит:
— Аксинья! — во весь голос, как могла, как может вот сейчас…
— Раскричалась! — с насмешкой повторяет барин, мой старый барин, господин, как его приказано было величать, и змейкой такой некрасивой эта насмешка на его губах противных, от которых тошнит меня, а она кричит и впервые выговаривает моё полное имя, и выкрикивает его так, что даже небо заколебалось, но барин не колеблется, и чьи-то руки в кружевных манжетах из повозки высунулись и меня внутрь затаскивают, а я не шевельнусь, я будто онемела, как та парализованная старуха, что жила у нас за двором, у меня и губы застыли, и ноги не передвигаются, и они меня вносят внутрь, и внутри темно, и чьи-то губы прикасаются к щеке, а я не могу вздохнуть, я забыла, как надо дышать, и только «Аксинья!» — этот звук врезается в небо, и поэтому что-то снаружи загрохотало, небо волнуется, небо не соглашается с тем, что меня, видите ли, купили, что меня оторвали от родимой моей матушки и везут на чужую сторону — и как грохнет под ноги лошадям! И как они попятились… да, для того и грохнуло небо, чтоб споткнуться им, чтоб выбежать мне из этой кареты проклятой и бегом через двор и под всплеском дождя, и где тут мама, и горячие её руки, и прижаться к груди…
Но лошади не споткнулись. И увозят меня — далеко, и чьи-то губы шепчут в ухо слова, непонятные, но застрявшие, и их оттуда не вынешь, не выцарапаешь, они пролезают в самую суть, и что-то как будто про «коханье», такого слова не бывает, это не слово, это грязь какая-то, что он мне в ухо засовывает, и своими лапами в манжетиках этих прижимает, не знаю, куда он меня прижимает, и хоть духами какими-то от него воняет, но чую я, что не барыня эта меня так тискает, не дамочка в кудрях и брильянтах, а какой-то «он», даром что и волосы его напомажены, которыми он лицо мне щекочет…
— Наиграешься! — произносит кто-то, и это чужой голос на чужом языке, но похожий и на наш, на мой язык. И голос произносит это слово, которое похожим кажется мне — «наиграешься» — и жаркая рука обхватывает меня покрепче, а поцелуй вонзается вот теперь, как острая сабля, прямо в меня, и я не знаю, как бежать, как к мамке вернуться, и понимаю, что меня увозят навсегда и что это — как похоронная повозка. Эта раззолоченная карета во тьме — она кажется как похоронная, как будто везут хоронить…
— И у тебя будет такое красивое платье! — говорит мне чей-то женский голос — как бы с усмешкой, снисхождения такого, ломая слова моего языка, но смысл понятен — и карета тронулась. И голос мамочки моей ещё завывает — там, вдали, — а жаркие объятия всё крепче, и губы теперь. Я чувствую его губы на моих и не могу вздохнуть — не могу понять, как мне теперь дышать — и лошадь не споткнётся — мы летим во весь опор, куда-то и с кем-то, кто даже и говорить на моём языке не умеет и будет теперь меня ласкать — как он говорит, а может быть, это слово что-то другое обозначает на его языке, и я не знаю, что это такое происходит со мной сейчас, и знать не хочу, потому что поделать с этим со всем — не в моей власти, и если тебя продали, так уж продали, и денег никаких не хватит, чтоб откупиться — вовек.
6 глава.
Застряло копытце козы
Никанор
Этот двор перед зданием роскошным — не дворцом, но почти дворцом — был посыпан желтоватыми камушками, очень мелкими, и между этими камушками застряло копытце козы в тот миг, когда она выскочила из-за загородки и помчалась как ошалелая, а девочка с хворостиной пыталась её загнать назад, загнать в угол между забором и стеной каменного дома, и попалась. Девочка попалась потому, что там, этажом выше, перед окном стоял молодой человек, подросток и сам ещё почти ребёнок, и яркие, блеснувшие на солнце волосы бросились ему в глаза, а было это как раз в день его именин, и поэтому отказать ему в просьбе покупки показалось Леокадии невозможно, и в этот раз не отказала, а купила.

7 глава.
Глаза как у волка
Аксинья
И зачем вы моете меня с ног до головы, зачем в эту белую бочку засовываете и обливаете и зачем напяливаете на меня теперь это белое, это слишком блистающее, это, как будто сахар или соль, поблёскивающее? А они только молчат и ухмыляются, как будто не понимают, о чём девчонка кричит, а ведь и вправду — не понимают! И если я не понимаю, а только догадываюсь, о чём они мне говорят, то и они не понимают, о чём пытаюсь выкрикнуть я, но им-то и догадываться не надо, моих слов им не нужно, они это считают ниже своего достоинства, как будто бы это мои слова какие-то недостойные, какие-то исковерканные, хотя и похожи порой и в чём-то на их собственную высокопоставленную речь — это им так представляется, что их язык чем-то лучше моего, запрятанного в карман, и что мне лучше просто помалкивать, чтоб не показать моего униженного, пониженного… что я хуже их всех, потому что не на том языке говорю…
— Пан! — произносят они и расступаются, я уже догадалась, что пан — это хозяин, и входит этот расфуфыренный, и знаками показывает мне, как он счастлив и даже восхищён оттого, что на мне теперь это блистающее и белое… я не чувствовала до сих пор никогда на себе, на своей коже этого скользкого прикосновения от гладкой ткани… а он подходит ближе и подносит руку — и прикасается к волосам — к голове — и словно бы поглаживает, и в его глазах загорается такое — это даже не весёлое, а это хищные глаза, такие бывают у волка, когда он завидит дичь, и я понимаю наконец, что он за волосы-то меня и купил, что он просто съесть хочет меня вместе с моими волосами, запихать к себе в рот… и я попятилась от него, и мелькнула было мысль — срубить себе волосы, оставить ему в наследство, пусть подавится, а самой сбежать, и пусть в этом скользком и белом, но всё равно бежать, и пусть по грязным дорогам, но вот куда бежать, и в какую сторону, и в какой стороне ты осталась, моя родная матушка?
8 глава.
Не твой соловей
Никанор
И притягивалась рука, и отдёргивалась, как от горячего, как от раскалённого ножа. Никогда никто на него с такой поистине жгучей ненавистью не смотрел. И не помогли все эти яркие наряды, которые он ей раздавал, как игрушки, как будто в песочнице с нею играть собирался, как малое дитя. Когда он входил в её комнату, он натыкался на этот её взгляд, горячий, как расплавленный нож, а когда подкрадывался тихонько и смотрел из-за дверей, то видел только растрёпанные комья волос, скатанных в пучок, и заплаканное лицо, и завывание в окошко, и «верни ты меня к моей родимой матушке» — эти все слова, которые он понимал от своей кормилицы, молочной матери, набрался этих слов, но сам их в рот никогда не брал, никогда не спускался с высот своего заколдованного шипящего господского языка в эти низины языка как будто бы холопского, вроде бы так, на этом языке только шваль всякая разговаривает, но он-то ведь знал, что означают эти непричёсанные жалкие слова. И тогда он собрался с духом и взял их в рот, как протухший компот берут, сказал на её языке «не плачь» и протянул к ней руку и прикоснулся к плечу, а она как от ожога вздрогнула и бросилась от него в другой угол, и он тогда стал говорить, и, вполне возможно, перевирая некоторые слова и выражения на чужом ведь для него языке, и она могла бы посмеяться над ним, если б ей было в ту пору до смеха, но не до смеха ей было, и сквозь слёзы, что протекали по её лицу как дождь, доносились до неё слова её родного языка, не придуманные, а только чуть-чуть переставленные местами, слова о том, что божественный свет он увидел в её лице, и потому не смог с нею расстаться, и никогда-никогда не покинет её, и купит ей в подарок всё, что она пожелает. Но Бог этот, чьё существование ему в её облике померещилось в тот миг перед грозой, всемогущим всё-таки не оказался и не мог склонить её сердце к нему, и были они — два подростка, оба несчастные, он — от своей безответной любви, а она — от изнуряющей, ЖГУЧЕЙ ТОСКИ ПО СВОЕМУ РОДНОМУ ДОМУ.
И так она сидела там, нахохлившись, среди всех этих безделушек, и от еды отказывалась, а может быть, и эта еда была ей неродная, и как этот непритворный отказ от еды сказался на дальнейшем, так сказать, развитии событий, и какой вклад вложил в то, что не вынесла она непомерной ноши…
— Ты мой соловей, — сказал он однажды и слово повторил, которое услышал от других, — у тебя серебряный голос, — когда вошёл в её комнатёнку в тот момент, когда она пела, глядя в заоконную глубину. — Ты мой соловей!
— Не твой, — ответила она — впервые ответила — и он мог бы обрадоваться, что вот наконец она заговорила и наконец-то хоть что-то ему ответила, но он побледнел и ухватился за косяк двери и медленно осел, прямо на пол осел, не подставляя ничего, и прислонился к дверям головой. И сам не знал, почему таким взрывом его окатило и что такого было в её ответных словах о том, что соловей-то она, конечно, да, соловей, но только НЕ ЕГО СОЛОВЕЙ, не ему принадлежащий. И дошло до него почему-то в этот момент, что да, действительно, нельзя присвоить себе другого человека и что она, Аксинья, не просто утварь какая-то, приглянувшаяся ему, а это было на разрыв, это признание, это простое установление факта, не твой — предмет, стало быть, не твой говорящий инструмент, выговаривающий слова песни, чужой для него, но напоминающий детство на руках у той мамки, что кормила его когда-то грудным молоком — пищей своей души, а не той закованной в жемчуга и брильянты, что познакомилась с ним уже позже, когда его отняли от груди.
И распорядился он приготовить для нелюбящей его не-подруги новые яства, те самые, что готовила когда-то его кормилица, пропавшая из виду, но ключница какая-то с белой повязкой в мёртвых волосах согласилась вспомнить все эти нехитрые рецепты…
И удалился в свою спальню и там бросился на постель и рыдал там всю ночь, всю душу выплакал, и с высокой температурой наутро лежал и не шевелился, когда пришла к нему в спальню его родная мать, нелюбимая, как он теперь понял, что мать свою, которая заваливала его подарками, он на самом деле и не любил — вовсе не любил, и даже ту, первую, кормилицу, не полюбил всей душой и не осведомился тогда, куда её услали, куда продали… скорее всего, её куда-то продали, когда ему не исполнилось и пяти лет — или семи? — ну вот даже и не вспомнить, но язык её разговорный запомнился ему почему-то.
Но сейчас он лежал, вспоминая всю свою прожитую до сих пор жизнь, и понимая, что не любил до сих пор никого, а всех слегка презирал, и ладно бы любил самого себя, хоть одного на свете, но и самого себя не признавал достойным… если не поклонения, то чтобы ему служили, чтобы подносили изо дня в день всё то, что ему придёт в голову, то одежду, то еду, то питьё, то кто-то пришьёт оторвавшуюся пуговицу, то кто-то перетирает серебряные подсвечники, и кто из них когда отказал ему, а все покорные, как коровы, и только разве что «му» не говорят, и вот он наткнулся на этот нож, жаркий и раскалённый, на это возмущение до ненависти, на это впервые произнесённое НЕТ — и это вызвало сначала приступ слабости, потом подскочила температура, но теперь он уже понимал, что вертится, как цыплёнок на том вертеле, острие которого в него вонзило вот это впервые им услышанное «нет».
9 глава.
Злодей ненавистный!
Барчук
Мне никогда не приходило в голову спросить себя — а кто же я такой? И шло так, как будто бы это само собой разумеется, что все мне кланяются и заглядывают в глаза, желая разглядеть и моё самое ничтожное желаньице, завалявшееся там, где-нибудь в углу, может быть, но вот и его вытаскивают и приложат все усилия для того, чтобы выполнить и это желаньице и принести мне на блюдечке с золотой каёмочкой. Но кто же я такой на самом деле? Выше одних, тех, кто разве что «му» не говорит, и на одном этаже или уровне с другими, которые так же богато, как я, разодеты — но и таких достаточно, а кто же такой я сам как отдельное существо? И вот я получил ответ на этот вопрос, что зрел в моей душе с полудетства — вот кто я такой — ЗЛОДЕЙ НЕНАВИСТНЫЙ!
Наконец-то я сделал что-то, совершил какое-то действие — на лету — сорвал зардевшуюся передо мной в траве среди листков ягодку — ухватил за хвост божью благодать, что сверкнула в предгрозовой предпраздничный миг — схватил за чуб, как говорится, пробегающего мимо меня Кайроса — это не хроническое и не подлое время, это время совсем другое, а оно оказалось не праздником и не сверканьем лучей, а жалом, направленным мне — под дых. Вот кто я такой! Думал, что к Богу приближаюсь, что Божье сиянье из-под спуда вытаскиваю и всем покажу — вот — смотрите — Бог существует на самом деле! Во всём облике этой, пускай босоногой, — Он, невидимый обычно, но теперь зримый, заговорил во всю мощь — вот Он кто, смотрите! Я хочу назвать это мгновение чудом, но оно рассыпалось в пепел и стало как пепел, будто его кто-то долго и упорно сжигал, а ведь это произошло тоже мгновенно, это сожжение всех кораблей — даже ещё до начала грозы. Даже и непогода не успела ещё разразиться всеми своими летящими с неба скрученными, как в жгуты, плётками ливня, казнящими пространство, как мы уже были внутри — в помещении тепла и укромного уюта — внутри кареты, — и неслись по направлению к моему почти дворцу, и почти что в обнимку с той, что скаталась внутри, как ёж, в комок, и не хотела, и отталкивала от себя мои объятия!!
10 глава.
Кто-то плачет
Аксинья
Во всём доме тишина, все спят, наверное, а я одна, прислонившись спиной к стене, сижу в углу и смотрю в небо. Теперь я совсем одна! Меня поймали, как мышь, посадили в мышеловку и кусочки сала подносят, думают, что я на них соблазнюсь, а кошка ходит неподалёку, ходит и облизывается, вернее, не кошка, а кот. И чего он от меня добивается, чего он хочет всей своей поганой душой, если душа у него имеется? Вот чего-то про божью благодать порет и в обморок упал, как барышня, значит, сумела я его отогнать от себя и, значит, не совсем беззащитная…
У кого бы спросить совета? И добрая эта старуха или нет, эта — в скрученных под белой косынкой волосах, та, что он ко мне подослал с моим любимым домашним угощением? Говорит, что она из наших краёв, но где это находится теперь, за горизонтом, и в какую сторону идти, если действительно идти, не побояться псов сторожевых, что спущены с цепи и только того и поджидают снаружи, перед домом, кого бы не то что укусить, а в клочки разорвать — и ведь не спят, как раз ночью не спят… а если выбежать днём, среди всех этих дворовых, шумных и скользящих как с гуся вода, пробраться тишком и платок какой-нибудь, лучше всего совсем тёмного цвета, на голову сообразить…
Кто-то плачет. Во всей этой тишине, мягкой на ощупь, под сладкие звуки посапывания моей приближённой, приставленной ко мне старухи, я слышу тихое какое-то рыдание, и выхожу босиком, и останавливаюсь в каком-то зале огромном.
…Страшно! Какое всё вокруг чужое, и жалят меня своими взглядами эти стёкла безмерные, до полу, и кто в них отражается? А, может быть, это — духи какие-то, ведь говорят же, что в таких замках водятся какие-то духи, и они бродят по ночам, и к ним не надо прислушиваться, а от них надо бежать стремглав и по ночам тут не шляться, по этим залам страшным и неживым! И как будто отовсюду что-то острое и злое хочет в меня вонзиться и отомстить, словно я им всем, этим креслам и комодам, чем-то не угодила, и они хотят со мной расправиться по-свойски, как они умеют это делать, хотя на вид кажется, что они — смирные жители своих закоулков. И кто это распластался тут на полу, как в предсмертной судороге? Ногам на нём тепло, а глазам — страшно. Ногам — как по шкуре зверя хожу. А из гладкой тёмной поверхности на стене вдруг глаз какой-то блеснул. И до полу — в белой рубашке до самых пят — вот он и есть — дух! Призрак! Вот они какие, оказывается… И взгляд исподлобья на меня, как будто он меня боится. Убежать! Но ноги сами как вросли в эту шкуру на полу. Чего он от меня хочет, этот призрак в стеклянной оправе?
С мёртвыми не говорят, с покойниками говорить запрещается, но всё же почему у него лицо такое тёмное, и только глаза поблескивают, а волосы на голове…
Вот он руку поднял и волосы свои пощупал: ему мои мысли передались? Про то, что лицо — молчком и не разглядеть, как лицу покойника и полагается быть, а вот эти волосы поблескивают и словно бы седые… поседеешь тут! Как всё это странно пованивает, такой запах, словно… даже не знаю, как сказать, но только что я тут больше оставаться не хочу, а хочу на волю и бежать прочь, без оглядки, и если бы не эти волки жуткие под окном…

«В айсберге»
…Кто же это плачет? Кого-то загубили, как и меня, кого-то заточили в этот высокий замок, и никуда не убежать… товарищ по несчастью? Такой же, как я, одинокий и отданный на съедение — я не знаю, кому. Тем волкам, что бегают под окнами и притворяются, что они — псы бешеные, а я-то знаю, что эти паны проклятые волков в лесу наловили и посадили их на цепь, а по вечерам с цепи спускают — вернее, не псы и не волки, а так, помесь какая-то, и как они это сотворили, что волков с суками переженили, что ли, чтоб вот эти бестии получились, а они бегают под окном и только того и поджидают, кто высунется наружу и попробует сбежать.
Вот они, отсюда их видно, сверху. Я, значит, выпрыгнуть из окна не сумела бы всё равно — слишком высоко, от псов этих только чёрные спины видать.
Кто-то плачет. Так тихо, чтобы не разбудить других, всех спящих в этом дворе, но плачет так, что сердце надрывается. Прохожу на цыпочках и отодвигаю тяжёлую штору. Кто-то плачет, уткнувшись в подушку на высоких и белых, как облака, перинах. Я присаживаюсь на край перины и прикасаюсь. Протягиваю руку — и прикасаюсь, к чему-то или к кому-то. Я не знаю, кто это плакал тут, но теперь замолчал и только всхлипывает — очень горячий. Про такое я знаю, такой брат у меня был, очень горячий как печка, что руку не сунешь, и потом так и помер. Когда такой горячий, то это значит, что скоро помрёт. Оттого, наверное, и плакал.
11 глава.
Чёрная луна
Барчук
На чёрном небе яркий белый круг. Чёрная луна в серебристой оправе.

«В айсберге»
И от руки, вот здесь, чуть повыше запястья, разливается такое прохладное, как мятное что-то. Нет, не буду смотреть. Лучше не буду подглядывать, как он меня забирает. С земли забирает… вот просто так. Эта прохлада, мятная и живая, втекает в жар моей пустыни раскалённой. И эта пустыня — это я был такой жаркий и нестерпимый, а прохлада течёт так медленно и дорастает до сердца, до почек, до желудка, до позвоночника — и всему во мне становится — легко. Да, легко. А меня пугали, что это так тяжело — умирать… Умирать, оказывается, это так чудесно! Только б его не спугнуть! Ну что это за любопытство в глазах, в одном левом глазу — зачем он заморгал и хочет подглядывать, как ангел будет забирать меня на небо!
Жара ушла. Просто куда-то смылась. Словно на небо, в эту чёрную дыру в серебристой оправе улетела одна только изнурительная жара, а то, что осталось от меня, это всё стало как мятная конфетка, вот оно лежит и протягивает и вторую руку — правую — подержи меня и за правую руку тоже, чтоб и в ней растворилось это… что-то замкнутое, как на замок.
И снова это мягкое прикосновение — и справа теперь тоже, то же самое втекание начинается: холода, а не тепла, целящей прохлады. Пусть теперь так будет всегда! Забирай меня уж совсем, я не хочу тут, на земле, обитаться. У тебя есть для меня место получше — возьми меня на небо! Мне нечего больше делать на земле — меня тут никто не любит, и я никого не люблю по-настоящему. Я не умею любить, не научился. Что это значит — любить? А захапать себе, так я думал — и не хочу больше думать. Хочу только лететь в этом синем пространстве, это небо теперь покрылось синей корочкой льда, и в нём так хорошо — перемещаться. Унеси меня отсюда, внеси в небо, пусть не всего целиком, я понимаю, что всего тебе не поднять, я тяжёлый для твоих лёгких… рук? Почему-то мне показалось, что у тебя не крылья, а руки. И я открыл глаза.
Умирания не произошло. И этот ангел — оказалось, это был не ангел. И откуда чёрная луна? Это не луна была вовсе, а чёрный силуэт в оправе светлого контура.

«Видение в поезде»
Это луна просто светила за головой у кого-то. Так, значит, умирания не выйдет, и вся эта тяжёлая жизнь — пребывание на земле — протянется неизвестно насколько…
Разочарование уронило меня, притянуло к подушке. Значит, дальше тянуть эту лямку. А зачем мне жизнь? В жизни всё больно и несправедливо. Справедливо только на небесах, где я будто бы побывал вот сейчас. И не хочу сюда возвращаться, хочу это пребывание там продлить — хоть ненадолго!
— Не убирай своих рук!
Да, это были настоящие руки, и можно провести и почувствовать, что это — да, и с пальцами, и с локтями, и никаких на них перьев — не ощущается. Меня никто не щекотал никакими перьями, меня только за руку держали обыкновенными человеческими руками!
И оно встало — попыталось было встать. И что — уйти? Да как же так! Я притянул его назад и в подушку погрузил это нечто, это я не знаю, кто оно или что оно, но я его не отпущу! И оно не вырывается — оно, то, что сыграло роль ангела, на небо меня забирающего в эту ночь. У него человеческий запах и всё в нём нежное и живое — не смертельное и не ослепляющее. И теперь ощущение мятной прохлады разливается уже действительно — по всему. И там, где ноги прикасаются к этим сладостным, как будто шёлковым ногам, там и ноги тоже становятся прохладными и живыми. Мятными. И вот теперь — уносит. Это мне только показалось, что это не ангел или что ангел должен быть другим, холодным до дна. Ангел может таким и быть, как человек и с человеческим добрым запахом, и уносит — оно меня, что-то, словно подхватило и уносит, теперь уносит на самом деле, а куда уносит, того не хочу знать, а хочу теперь просто — исчезнуть. Совсем. Навсегда.
12 глава.
Как мой маленький братик
Аксинья
Когда кто-то плачет так тихо-тихо, как плакал мой маленький братик, который никогда не стал большим, у меня сразу… во мне что-то сжимается, как в кулачок, и хочется его пожалеть и прижать к сердцу. Ведь он был такой маленький и спокойный, и только смотрел на всех ясными глазами, и никому не хотел помешать. А заплакал только разок, когда заболел так тяжело, и тут уж мы все вместе плакали, а вылечить его не смогли. И поэтому как только такой тихий и нежный, а не грубый и не нахальный, как у некоторых других ребятишек, даже как только я этот голосок как из пустыни прошлого заслышу, я становлюсь сама не своя. Ведь я всё со своим Лёшенькой делала, и на руках его таскала и следила, чтоб не залез куда не надо, и не упал, не разбился. И кормила его из ложечки, когда матушка от груди отняла, и купала, и на повозочке такой возила, на двух колёсиках — всё я сама, а сколько мне тогда было — а может быть, и пяти ещё не исполнилось, а я как заслышу тихое как бы чириканье, что вот сейчас расплачется, как сразу — схватить и к груди прижать. И он тут же умолкал и поднимал ко мне головку, и какие глаза у него были — светлые и как будто всё понимающие: что не надолго к нам залетел, но уж то время, что нам вместе отпущено, хочет сделать как можно приятнее и таким, чтоб его не забыли потом. После… И не выходили мы его, вот такая печаль! И поэтому как только хоть вдали такой плач, тихонький такой, и чтоб никого не обидеть, заслышу, всё во мне встрепенётся, и как за верёвочку меня потянут — схватить и прижать к сердцу. И кажется всегда, что только совсем хороший человек может так тихо плакать, так тихо-тихо, чтоб никому не помешать.
И поэтому, когда разглядела я под утро, кого такого решила пожалеть и кто это среди ночи так тихо плакал, я только выбралась из-под той его перины и босиком отправилась в ту комнатушку, что была в том замке — как бы во дворце — отведена мне, и перешагнула через старуху, почивавшую у дверей, у самого входа, и забралась в свой угол, и попыталась было подумать, но думать не вышло, потому что тут же, не успела я закрыться своими одеялами, прокричал петух и поднялся шум и обычная возня — там, за дверью.
А как там мой… не знаю, как назвать его — братишка? И хотя не маленький теперь, а ведь жалко… и его тоже жалко, его, горящего адским пламенем, и нет ли и на мне от его кожи ожогов, и не заразил ли он и меня этой болезнью? И что-то бормотал ведь про ангелов каких-то, что это я будто ангел. А я ещё не ангел, слава богу, ещё не ангел, но надолго ли это продлится, что ещё проживу и не увижу своей родимой матушки? Значит, он думает, что к нему ночью ангел приходил и хотел его на небо забрать. Но что же тут плакать, на небе ведь так хорошо, и ни о чём не придётся горевать. О чём же он там тогда так горько плакал и так нежно произносил какое-то слово, мне совсем непонятное, потому что не ко мне обращался и не на моём языке говорил, а обращался к ангелу, и ангелы всё понимают, на любом языке.
Он плакал о чём-то другом… о своей загубленной душе, наверно, плакал, что загубил, меня оторвав от матушки, и что теперь не простит его Господь. И не позволит его душе, как всем хорошим людям, туда пойти после смерти, где хорошо настанет. А туда пустит, где адский пламень. Вот поэтому и горел он в адском пламени, и руки и ноги у него были как из печки, недопечённые, ещё горячие, как будто пар от него шёл. Так, он думал, конечно, что уже в аду очутился за свои плохие дела. И как будто… может быть, прокляла я его тогда, когда увозил он меня от моей любимой матушки? Вот не помню… вспомнить бы! Проклинать никого, как я слышала, нельзя, так мне матушка моя говорила и наказывала — никого не проклинай, это на тебе самой, может, скажется, если слово такое страшное вымолвишь — никого не проклинай!
13 глава.
На простыню
Барчук
…Рабам не дело издеваться над господами, и если что-то пролилось на простыню, то их дело это застирать, и промолчать, и поскорей постараться забыть, а не подмигиванием заниматься и нехитрыми ухмылками, и не вопрошать потихоньку от барыни:
— А какой это ангел к тебе приходил? — с грязной с такой противной ухмылкой на морде! Вот не могу эту переднюю часть головы этой потаскухи, этой уборщицы или прачки, уж не знаю в точности, кем она у нас служила, а звали её Манькой, в голубом платочке, — не могу эту часть её головы лицом назвать и даже физиономией или как-нибудь поприличнее, чем мордой или, ещё лучше, харей, и больше никакого слова не придумаю, а когда она это сказала, так меня прямо на пол вырвало — убирай! И откуда она могла про ангела моего узнать? Неужто под дверью подслушивала, когда я исповедовался перед смертью, так сказать, тогда я думал, что это ангел за мной приходил, чтобы на небо — в эту добрую темноту, и мимо звёзд, и ни одна звезда не укусит и не ущипнёт, и так лететь — туда, внутрь, и там поджидал меня ангел прекрасный, но без лица. По крайней мере я сам его лица не разглядел в темноте, а только руки шелковистые и как мята прохладные и ноги тоже — шелковистые. Как ледышки твёрдые. Вот такие ангелы бывают на самом деле, а вы если не встречались, если не удостоились, так сказать, такой великой чести, так и молчите. Так и заткнитесь, так сказать. Так ведь можно сказать? Кто не видел ангелов живых, тот молчи и не спорь со мной, что ангелы на самом деле совсем другие, чем вы себе навоображали! И крыльев никаких не заметил. Никакой щекотки от перьев этих шипучих, как полагается будто, но, может быть, крылья и были где-нибудь за спиной, и только я их не заметил, не прощупал, мне было так хорошо улетать, даже если без крыльев, и хочу — только туда. Опять. Умереть, и чтоб теперь уж по-настоящему. Чтоб никаких Манек вонючих и грязных простыней, никаких врачей с их склянками и жёсткими руками. Мне не нравится тут лежать, вот честное слово, умирать — это самое прекрасное, что мне довелось пережить до сих пор, если не считать… того самого первого… с чего всё это началось, того видения, и ксёндз говорит, что это было видение и что это было… нехорошо. Божью благодать так просто не словить. Что, может быть, потому я и заболел, что захотел эту благодать Божию, вот тогда промелькнувшую, себе присвоить. Вот потому и ангел приходил, а может быть, это был и вовсе не ангел? Так он сказал. Но он надо мной не смеялся. И он мне не раб. И не подчинённый. Он, может быть, один только и посоветует правильно.
— Может быть, это был вовсе и не ангел?
И что я слишком уж возвышенно о себе самом думаю, если предполагаю, что некий ангел ко мне мог бы слететь, явиться, так сказать, собственной персоной. Так не бывает почти никогда. А если и бывает, то для каких-нибудь особо отличившихся героическими делами или мученичеством. А я не мученик, и не герой, и тем более уж не святой, и поэтому, чтоб ко мне ангел мог заявиться, это сомнительно — и более чем сомнительно. А в бреду и в лихорадке и не то померещиться может, и вполне, а когда температура подскакивает, то что-то там в мозгу, в том месте, которым мы можем воспринимать, разрушается, или растворяется, или, более того, смывается совсем, и смотри, как бы тебе и дураком вовсе не стать — не опозориться такими видениями дурацкими, и будут рабы повторять и передавать из уст в уста теперь уж на самом деле:
— А барин-то у нас — дурак! От лихорадки этой совсем спятил!
14 глава.
Барчук помирает
Аксинья
Как доктор в двери проходил, это я заметила. И круглое что-то, блестящее, у него на лбу. Какое-то зеркальце, может быть. И что барин-то молодой, стало быть, помирает теперь. И ксёндза позвали, тоже пришёл, весь чёрный. В чёрном проскользнул — сначала врач в двери, а за ним ксёндз этот, так он называется, и будто бы он от Бога — как-то с Богом связан, и надо говорить ему всю правду, и это называется — исповедоваться, и надо ему всю правду сказать, и тогда Бог отпустит ему все грехи и пустит тогда — ну не в геенну огненную, а в какое-нибудь место попрохладнее. Так я подумала тогда и успокоилась насчёт того, что, может быть, я сама его проклинала и это проклятие так подействовало — что я такой грех на душу свою взяла. И пусть бы он умер спокойно, а меня тогда отпустят — может быть, вернут к моей родимой матушке.
15 глава.
Где ты, мой ангел?
Барчук
Ещё пока совещались — там, за дверьми дубовыми — к похоронам ли готовиться? И тут отец мой появился, откуда-то приехал, и вошёл, и посмотрел, чтоб показать, что ему не совсем всё равно, что сын его отправляется на тот свет. Этот отец, этот человек, этот мужчина средних лет и с чёрными усами — он мне совсем не нравился. И вот теперь я могу говорить вполне свободно, и не стесняясь, и ничего не заметая под ковёр — он мне не нравился и никогда. И с самого раннего детства никогда со мной не играл, и в воздух не подкидывал, никогда не говорил мне добрых слов, и вообще никаких слов не говорил, а только посмотрит, что у него есть-таки сын, наследник поместья и всё такое, и уходит. А теперь — что не будет у него сына, наследника поместья, и всё такое, и что надо, придётся, по-видимому, придётся заводить нового, и не стара ли для таких дел, сгодится ли ещё для такого труда его законная жена, или пригласить незаконных, — вот такие мысли мелькнули у него в голове тогда, и с бакенбардами и в форме такой офицерской проскользнул он передо мной, и я подумал тогда снова, до чего же я одинок, и что ему абсолютно вот до нуля до меня, как до лампочки, и что никаких у него чувств отцовских, о которых говорится в Библии, нет и не бывало, и песком засыпано то место, где когда-нибудь могли бы вырасти хоть какие-нибудь чувства. Наследник ему был нужен для чего-то другого. Примерно для того же самого, для чего моей матери нужно было серьги драгоценные в ушах таскать. А до меня, до самого настоящего, ему вот просто как трын-трава — никакого дела! И как я могу его любить, например? Или ценить и почитать, как в церкви говорят, как вот этот ксёндз сказал сегодня: «Почитай своих родителей»? За что их почитать? За глупость? За то, что мать мне ни в чём не отказывает и даже вот такую игрушку непридуманную на именины не поскупилась — купила?
И это вот странно, конечно, что так по матери своей можно убиваться! И что это за «верни меня к моей любимой матушке»? Если бы меня, например, увезли отсюда, то стала бы моя родная матушка, так сказать, таким образом свои руки заламывать и моё имя в пространство выносить на всеобщее обозрение: мол, смотрите, какое сокровище от меня отнимают? Да вряд ли, и не поверю, и представить не могу, хотя что-то у меня там, в мозгу, расплавляется как будто, а представить не могу, как она стала бы кричать и моё имя на потеху по всему пространству разбазаривать. А я бы сам уж точно не плакал! Что бы я сделал, если бы эта девчонка была в шелках и в золоте, а я — босоногий, и она бы меня за бесценок приобрела, так сказать? Вот если перевернуть ситуацию — покупка совершилась. Вот так представить себе, что во мне самом могло бы промелькнуть что-то такое, как этот взрыв молнии или сияние звёзд, ну, в общем, отблеск божьей благодати, и что тогда? В свою карету она меня бы заточила, в своём замке жить повелела бы — неужели и я запросился бы на свободу? К мамке? Нет, никак не представить!
Вот переворачиваю — и смысла во всей этой картинке не нахожу. Словно недостаточно расплавились у меня мозги в голове, и ангел сегодня точно не придёт, сегодня мать моя собственной персоной вызвалась ночевать возле меня, возле моего ложа, чтоб уж никакие ангелы моего выздоровления, может быть, не потревожили.
И чтобы шторой закрыть окно! Тяжёлой, непробиваемой, что не пропустит свет луны!
Где ты, мой ангел? Я теперь понимаю, что наконец-то я полюбил кого-то, и пусть у него нет совсем никакого лица, но вот — люблю… как будто вот тянет меня снова и снова, и зря они шторой окно завешивают, и зря луну от меня заслоняют, а как мне от них выкрутиться? Если ночь-то придёт, а мне умирать, вот снова, — но так хорошо — нет, так прекрасно, как вчера, уже не получится?
16 глава.
И это была ты?
И выздоровел барин-то молодой, и поумнел как будто на чуток после тяжёлого такого испытания, а про ангела и думать забыл, про свою любовь, как ему показалось, вторую, но забытую начисто, как будто уж так боялся, что дураком его станут величать и что мозги в его голове расплавятся и утекут, если он ангела этого вспомнит.
И когда вошёл он снова в комнату к Аксинье, то испугалась она такого бледного и совсем уже недетского лица. И он присел на диван и смотрел на неё строго: словно хотел наказать её за свой опрометчивый поступок, что увёз её от её родимой матушки, словно в ней видел вину, будто бы это она его на такое дело подвигла своей красотой, или решил навязать эту вину ей, навесить на неё объяснение этого своего преступления. А она придумывала, как бы начать с ним разговор об освобождении, чтобы выпустил он её на свободу, потому что помереть ему не удалось, и она сказала… Не придумала она, бедная девочка, ничего получше, помощнее, а вытащила из-за пазухи этот аргумент и огрела им молокососа этого, барчука, поумневшего как будто за время болезни, но не совсем.
— Я слышала, что к вам приходил ангел, — сказала она.
Он вздрогнул.
— Вы это уже забыли?
Он опустил голову и вдруг вспомнил, и всё: в глаза ему кто-то смотрел, ведь тогда у него не было лица, а смотрел в глаза и прикасался рукой…
И она тогда встала и приложила ему руку опять на то же самое место, чуть повыше запястья, и сказала:
— Отпустите меня на свободу, а то ангел придёт снова и не выпустит уже на этот раз!
— И вторую руку тоже! — произнёс он, сам не зная, на котором из двух языков, и приложил и её вторую руку к своему правому запястью, и понял тогда, кто это был тогда, в ту ночь, что лучше всего на свете была, и положил к ней на плечо голову и уловил то же самое мерцание, хотя это была не ночь, а день, и день серый и несолнечный, но он вспомнил и тот самый запах живого, человеческого и доброго, и те самые шелковистые руки, и понял тогда, что это — не просто сверкнувшая божья благодать — та, что в предгрозовом затишье показалась божьей, и что это не ангел с неба, а простая, но да, и до Божьей благодати дорастающая, та самая и с самой большой буквы — та, что он искал всю свою жизнь, и никто не мог этого ему дать, и игрушки любые подносили, и яства, и питьё, а только этого самого заветного никто ему дать не мог, и он сказал:
— И это была ты?
И поняла тут Аксинья, что промахнулась, и накрепко. Что не так надо было вести разговор, и что этим самым аргументом, который вытащила она из-за пазухи и думала тогда, что в нём — спасение — что им погубила себя навеки. Что не отпустит он её уже никогда и никуда, и до самой смерти будет морочить своей, видите ли, такой уж великой, такой несмываемой — ну назовите это, как хотите, и что частично мозги у него за время болезни расплавились или какая-то другая причина нашлась обалдеть или перестать подчиняться своему разуму.
17 глава.
Благодать красть нельзя?
Барчук
На негнущихся дверях бросился к дверям и замкнул на замок. Я теперь был как летящий вниз головой в пропасть или как сорвавшийся с цепи.
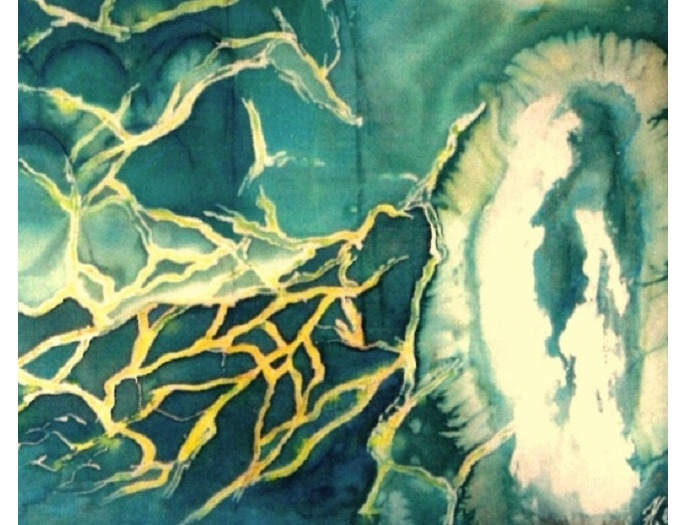
«Видение в театре»
Божью благодать красть нельзя? Кто это сказал? Не только можно её — потрогать — но и нужно! Для того она и есть вообще, чтоб сорвать её, и вонзиться, и забыть вообще обо всём, и больше ничего, ничего никогда не будет. Ничего другого, кроме неё, этой благости, и припасть, и все соки, все эти тонкие ниточки или сосуды, или что это такое стоит в воздухе — растёт вокруг неё, как… незримое обычно, но сейчас это видно, эти светящиеся заросли, и в них нырнуть, и пить, и пить этот сок, который пульсирует и сквозит по жилам этих сосудов, и всё делает живым, и этого никто не должен видеть, и поэтому не стучите в дверь — не отопру!
И валяться у неё в ногах и биться головой об стену и сказать ей всё-всё, что я думаю обо всём, и нежить эти руки её, по которым пробегал там, внутри, священный ток жизни, и в заросли эти вторгаться, и там этот сок жизни пить, пить, чтоб только не захлебнуться…
18 глава.
С цепи сорвался
Аксинья
Когда море бушует у твоих ног, то нет и не будет тебе спасения, а когда начинается извержение вулкана, то убежать невмочь. Это я теперь так понимаю, что это тогда распростёрлось море, не робкие какие-нибудь ручейки слёз, жалкие, и которых можно пожалеть, как я пожалела тогда, когда он плакал тихо-тихо, как мой маленький братишка плакал когда-то, и поэтому я смогла его пожалеть — среди ночи. И тогда этого никто не узнал, моей жалости к нему, а теперь не узнать было невозможно, когда он рычал, как дикий зверь, который рвёт свою добычу, рвёт на куски, но он пока что не меня на куски разрывал, а своё нарядное убежище, и орал мне что-то в лицо, что никаким паном быть больше не хочет, никаким господином проклятым, и все эти кружева — вдрызг, и все жемчуга — по полу и ногами растоптать, и остаться совсем без ничего, потому что ничего другого на нём и не было, кроме этого возвышенного одеяния, отличающего его от всех прочих людей, а теперь он никаким господином быть не хотел и выходил из себя, как море выходит из берегов. А когда все эти кружева и манжеты лежали на берегу, перепутанные и растоптанные, то от всего его великолепия остался полуголый и почти неживой, в каких-то ошмётках, в лохмотьях, и успокоился наконец, потому что весь свой гнев выпустил на эти кружева на запястьях, на эти пуговицы на жилете. И как будто успокоился и лежал теперь, как море у ног, только чуть-чуть всхлипывая, и можно было бы даже и обойти его стороной, и выбраться из всего этого раздрызга, но море нежно плескалось там, под ногами, и умывало мои лодыжки своими слезами.
О чём теперь было говорить и как успокоить? Мне казалось всегда, что если человек тебя любит, то он ведь хочет тебе сделать хорошее? И разве не говорил ксёндз в церкви, что надо любить своих врагов? Поэтому я предположила тогда, что, может быть, он превратится назад в человека, если я предложу ему свою запасную рубашку: свою старую, в которой меня сюда привезли, и сняли с меня, и выстирали, но не отобрали. И я так ему и сказала тогда:
— Хочешь, дам тебе свою рубашку?
Дикого волка под окном, не волка, а овчарку, приручить не получилось бы, но у этого, у пана проклятого, который ведь не захотел больше быть паном и тем более проклятым, у него пробежала по спине как судорога от этих моих слов, и он вытер глаза этой моей застиранной рубашкой и сел на полу передо мной. И отпустил, из рук выпустил мои пятки.
— Что теперь будем делать? — спросила я. На своём собственном языке, и он теперь мог бы уже догадаться, что я не ангел и поэтому понимаю только один язык. Я хотела вернуть его к своей речи, чтоб он мог опомниться и как-нибудь превратиться — назад, пусть не в барина, барином быть он теперь отказался и насовсем, но он мог бы превратиться в кого-нибудь ну хоть немножко нормального — не в зверя и не в потоки слёз. О чём плакать? Ну, может быть, о том, что я его не люблю? Что я его отталкиваю, и ненавижу, и всегда прошусь только к своей матушке?
Вот теперь — после всего того безобразия, что он устроил у меня на полу, он вдруг утих и смотрел на меня как ребёнок. Как маленький совсем, и как будто я — его мама.
— Ну что теперь будем делать? — спросила я опять и тут заметила раны на его руках — что он сам себя поранил, когда бился об стены и об пол — не кровавые раны, а ссадины и синяки.
— Так! — сказала я. — Это всё надо убрать! — и он подчинился, и с радостью даже в лице. И я поняла так, что он никогда никому ещё не подчинялся, и ему это в новинку. Но если его так увидят, то решат, что это я его расцарапала, и меня высекут, как секли по приказу моих хозяев там — за разбитую синюю вазу, которую я уронила ведь не нарочно!
— Меня будут сечь, если увидят эти твои синяки.
— Сечь? — переспросил он, и видно, что он не понял этого слова. Видно, его никогда не секли.
— Сечь — это больно. Это очень больно! Розгами — по голому телу!
Он нахмурился — и повзрослел. В один миг.
— Тебя никто никогда не будет бить! — и добавил: — Теперь мы — друзья.
И сам надел мою рубашку. Она пришлась ему впору — видно, что похудел за время болезни.
— Теперь я — как ты! — попробовал он было обрадоваться, но я видела, что он всё ещё не наплакался, всё ещё слёзы наготове, и он перетекает снова в тот свой возраст, когда он был совсем маленьким и мамы ему не хватало, кого-то ему не хватало, чтобы уткнуться и выплакаться уж совсем, до конца. И я тогда решила спросить, чтоб выяснить наверняка:
— Почему ты плакал? — и указала на безобразие на полу.
Он стал эти кусочки складывать, эти разорванные манжеты, один к одному, и прошептал:
— Потому что я не хочу — не могу — я просто не могу — этого всего. Не хочу быть… — и он не договорил и снова скривился, так, что сейчас заплачет, и я сказала:
— Ну давай тогда будем так играть, что ты — не пан! Что ты кто-нибудь другой: как мой брат! Давай играть так, что как будто мы — брат и сестра? Я буду тебе сестра, и мы вместе отсюда — убежим. Давай?
Вместе с паном, который теперь не пан, и когда он снял свои кружева, когда без серебряных пряжек и пуговиц оказался, то кого-то он мне стал напоминать, и совсем не страшного, и глаза у него не светлые сами по себе, но светятся, вот сейчас почему-то такие как бы лучики пошли, и лоб тоже — светлый как будто. И он успокоился совсем, и я поняла так, что он не наигрался в детстве и что детства никакого у него, может быть, и не было, и играть было не с кем, а надо было всегда и с самого начала притворяться важным господином — паном во всех этих гадких кружевах, а ему хотелось поиграть, и я сказала ещё:
— А об этом мы никому не скажем! Да? Это будет наша с тобой тайна — ладно?
19 глава.
Почти полгода счастья
Барчук
Надо молчать и притворяться, что ничего этого и не было. Что я не разрывал свою одежду проклятую и не выбрался из её комнатки уже под вечер и не в своей рубашке. И надо было потом скрывать свои синяки и царапины. И надевать наутро — опять ту же самую. Как ту, что я разорвал? Но я выпросил другую, попроще. И велел все жемчуга спороть и кружева отрезать. И что это всё по сравнению с тем счастьем, что началось в моей жизни с тех пор и продолжалось — почти полгода?
Когда нас никто не видел, я называл её таким именем, как ей самой хотелось, а когда нас с нею видели — Амалией, как хотелось мне. Мы были теперь как союзники, и оставалось только придумать, как бы нам убежать на волю и вместе, и надо было что-нибудь придумать, действительно, но мы ведь уже не были больше врагами, и что я её купил, это так некрасиво звучит, это мы постарались забыть, это мы решили превратить в игре во что-нибудь другое, и повсюду у неё были тайны, вот откроешь ящик в столе, а в нём лежит тайна, перевязанная ниткой, или завёрнутая в платочек. И на осколках стекла она рисовала какие-то загадки, а я должен был догадываться, что это такое, и так хорошо мы с нею играли, пока не наступила эта тяжёлая осень, когда я стал понимать, что в ней что-то не так становится, и она изменилась в лице и побледнела, и играть ей совсем расхотелось. И сидела теперь неподвижная и говорила только:
— Отпусти меня к моей родимой матушке! — как будто забыла, что мы ведь друзья и что нам с нею так хорошо — было. А теперь — до свиданья! И всё вернулось в свои берега, в те ненавистные, и — «Купи ты мне мою родную матушку!»
20 глава.
Никанор
И до самого конца, до самого последнего дня она всё ещё надеялась, что он всё-таки пожалеет её и купит ей в подарок ту самую «матушку», о которой она тосковала всей душой.
Её прозорливости не хватало на то, чтоб догадаться, что он ей её родную матушку не купит никогда, потому что при матери заниматься всем тем, чем он надеялся заниматься с нею, всё же несподручно — даже если эта мать — крепостная рабыня, принадлежащая ему по праву рабовладения. Но он чуял, как собака чует издали опасность, что у матери оставалась какая-то другая власть и другое право, таящееся под покровом времён: да, он был её господином и она принадлежала ему по закону его времени, но всё же вставала откуда-то оттуда, из глубины веков, эта фигура, завёрнутая в покрывало с головой, и показывала ему, что она есть, хотя и не вполне понятно, кто она такая и в чём суть её власти.
21 глава.
Барчук
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
