
Бесплатный фрагмент - А тополя все растут

Пока деревья будут большими
Перед тем как сесть за это краткое предисловие, я перечитал книгу Мухамеда Кармокова «А тополя всё растут». Не потому, что сюжет позабыт или нужно было готовиться к подробному анализу романа — объем предисловия не давал простора для последнего. Я хотел воспользоваться случаем, чтобы попытаться разгадать одну загадку, заданную этой книгой исследователям литературы.
Всякая книга • — плохая она или хорошая — должна непременно-обладать одним свойством: ее должны читать. Социология чтения, мак и общая социология культуры, массовых коммуникаций, у нас плохо разработана. Тем более нет сколь-нибудь удовлетворяющих методик измерения читательской аудитории литературы на кабардинском и балкарском языках, призванных отразить и сложные условия ее взаимодействия с русскоязычной литературой. Неопределенный массив информации о читательских вкусах и пристрастиях применительно к кабардинской литературе последних лет все же накоплен путем опросов, интервью, своеобразных контент-анализов, с участием библиотек, республиканской организации Общества любителей книги. Да спросите любого библиотекаря, особенно сельского, какую книгу на кабардинском языке читают больше всего? И вам ответят: «А тополя всё растут».
С момента появления романа, выходившего двумя выпусками — в 1977 и 1979 гг., — он стал самой популярной кабардинской книгой, она не задержалась на полках книжных магазинов и мало отдыхает на библиотечных полках. Посвященные ей читательские конференции, другие обсуждения прошли во многих селениях и городах. Еще до выхода книги на русском языке автор получил более 200 писем от читателей — мало кто из нас может похвастаться таким вниманием публики.
Роман заслуживает быть особенно отмеченным еще и потому, что он опровергает досужие вымыслы пессимистов по отношению к родной словесности, позволяющие составлять неверные прогнозы о ее будущем, домыслы, будто бы кабардинцы на родном языке мало читают, а все ждут перевода на русский. Что точно по многим наблюдениям — мало пишут (говорю о читателях), что, по всей очевидности, связано, с особенностями национального характера: не привыкли «изливать душу» на бумаге, публично обсуждать свои чувства, не выработался вкус к эпистолии. Вот почему приведенное количество читательских писем представляется рекордным.
В чем же загадка, тайна этого литературного феномена?
В этом легче будет разобраться с позиции нашего сегодняшнего понимания жизни, с учетом изменений, происшедших в обществе и в сознании людей.
Не забудем, что первые варианты романа появились в период, ставший пограничным между двумя эпохами в истории страны,
когда в обществе сильно ощущалась необходимость перемен. В литературной жизни завершался этап героического эпоса, уходили в прошлое романтика революции, эпоха «индустриальных» и «аграрных» романов, поэтизации «трудовых подвигов». Как отклик на усиление внимания общества к вопросам морали, проблемам гуманизма, четко обозначалась тяга писателей к внутреннему миру человека, к изображению деталей быта, не героических дел, а обыкновенных повседневных занятий людей.
Не станем скрывать и это: некоторые из нас в /гот период позволяли себе свысока смотреть на произведения, подобные «Тополям»: бытовизм! Теперь видно, что именно сочувственное изображение быта, художественное исследование психологии попавших в драматические ситуации простых людей и принесли роману успех. И надо признаться: писатель раньше нас ощутил потребность людей в обновлении подходов к этим вопросам. И хотя был риск натолкнуться на глухое непонимание ценителей «производственных» романов и на косые взгляды официальных лиц, смело пошел на это. Как. и на нарушение господствовавшего в те годы в культурной жизни республики странного табу. После известной кампании разноса романа ведущего кабардинского писателя о Великой Отечественной войне считалось антипатриотичным писать что-либо плохое о национальной жизни, об изменниках, убийцах, ворах, женщинах легкого поведения из своего народа. Но М. Кармоков решил не проходить мимо тревожных тенденций, подтачивающих устои народной нравственности, мимо отрицательных явлений в быту, ведущих к деградации личности, засорению общественной морали новыми, чуждыми народному духу, стандартами поведения.
В романе, однако, значительная часть отведена хозяйственной жизни села. Есть в нем и традиционный для той поры треугольник: председатель колхоза, парторг, (секретарь райкома. И в этой сюжетной линии автор ясно выражает свое видение конфликтов: промедление с назревшими изменениями, особенно в методах управления, равносильно краху.
Но в центре повествования оказалась печальная судьба юной красавицы Альмажан, не перенеся предательства, оскорбления лучших своих чувств, заболевшей неизлечимой болезнью. Созданная для любви и счастья, она угасла во цвете лет. Это в ее душе всё цвели тополя, которые когда-то были ей подарены любимым — двадцать саженцев, в день ее двадцатилетия. Центральный образ романа — тополя — альтернативный знак застою, а в обобщенном понимании — смерти — воспринимается с большим трепетом оттого, что является олицетворением живой природы, постоянно возобновляющейся жизни.
Метафоры, производные от дерева, обладают большой образной эшспрерсией. Они близки к поэтике народного эпоса, к мироощущению кабардинцев, издавна живущих в богатой лесами И садами полосе между горами и степью. Но дерево — вообще традиционный образ у многих народов. Библейские мифы сделали дерево, от которого вкусили блаженство Адам и Ева, источником познания Добра и Зла. Тополя: в душе Альмажан излучают
только добро. Умиротворяющий свет ее души пронизывает всех, кто ее окружает, соприкасается с ее трагической судьбой. Я думаю, что люди так тепло приняли книгу М. Кармокова еще и потому, что читатель, которого мы так долго кормили образами «правильных», решительных, но бездушных, игнорирующих, а то и презирающих простые проявления человеческих радостей героями, стал «аходить в чистом образе больной, но духовно стойкой девушки опору своей силе и своей слабости. Читатель ищет утерянное, тот нравственный стержень народного бытия, который был сильно поколеблен истекшим временем. Хочется. надеяться, что роман будет помогать ему и в наше время сомнений и тревог, когда какая-то неведомая сила решительно потянула людей к своим духовным истокам.
Во всех монотеистических религиях сущность Бога определяется как воплощение идеи справедливости. Но священные писания православия однозначно провозглашают: «Бог есть любовь!» Любовь к ближнему. Да простят мне эту ересь отцы церкви, но получается, что не важно — есть ли бог на небесах или нет его там. Важно, чтоб он был в каждом из нас. Бог есть добро. И только творящий добро в конце концов остается победителем. И еще тот, кто верен памяти.
Каждый раз, когда вижу заголовок на обложке книги Кар-мокова, вспоминаю название давно полюбившегося всем кинофильма «Когда деревья были большими». Не только по созвучию слов, но и по смысловой общности. Помните, как героиня, прекрасная в своей душевной простоте девушка, в конце фильма не хочет верить, что неожиданно заявившийся к ней пожилой мужчина — не ее отец? Она смутно помнит, что в старом дворе, где они жили, когда она была маленькой, росли большие деревья, под которыми они сиживали с отцом. И она не может забыть то время, когда они все были вместе, т. е. когда деревья были большими. Они с тех пор растут из детской памяти, воплотив в себе тоску по родным и близким.
…Умершую Альмажан провожали в последний путь всем селом. Люди еще долго оглядывались на ее дом, вокруг которого вдоль ограды стройными рядами взметнулись в небо ее тополя — все двадцать. Эти люди будут помнить о ней, о ее любви, пока в их памяти эти деревья будут большими.
Будем помнить и мы, читатель.
Мухамед Кармоков пришел в литературу зрелым человеком, пройдя хорошую школу жизни. И творческую — в журналистике. Первая была далеко не всегда радостной. В средней школе учился в военные годы, в вузе в не менее трудные послевоенные. В журналистику его привела любовь к родному языку, уважение к печатному слову. Много лет руководил отделом в газете, главной редакцией республиканского радио. Большая заслуга принадлежит ему в становлении современной радиожурналистики на кабардинском языке. Сам учился умению соединять традиционные, фольклорные формы родной речи со спецификой звучания живого слова в эфире и учил этому многих других. Этот опыт хорошо прослеживается в языке, в стилистике его художественных произведений, написанных легко и изящно в виде живого диалога с читателем.
Первая книга М. Кармокова, сборник рассказов, появилась в 1964 году. С тех пор увидели свет 15 его работ — сборники, отдельные повести, романы. Перевод книги «А тополя всё растут» на русский язык был осуществлен в 1982 году, тогда же роман вышел в Москве, солидным 50-тысячным тиражом. И получил хорошие отклики уже у читателей всей страны.
Это стало. возможным в значительной мере благодаря кропотливой и плодотворной работе над текстом переводчицы Ирины
Ракши. Известной русской писательнице удалось бережно передать художественные достоинства оригинала, сделать достоянием широких читательских кругов отраженные в романе кабардинского писателя обычаи, традиции, особенности быта и мышления его народа.
Настоящее издание является повторением первого. Предваряя его мыслями, навеянными новым прочтением романа, я высказывал свое мнение. У читателя может быть свое. Но, как говорит писатель в авторском вступлении к роману, «сначала надо прочесть эту книгу…».
X. Кауфов
КНИГА
ПЕРВАЯ
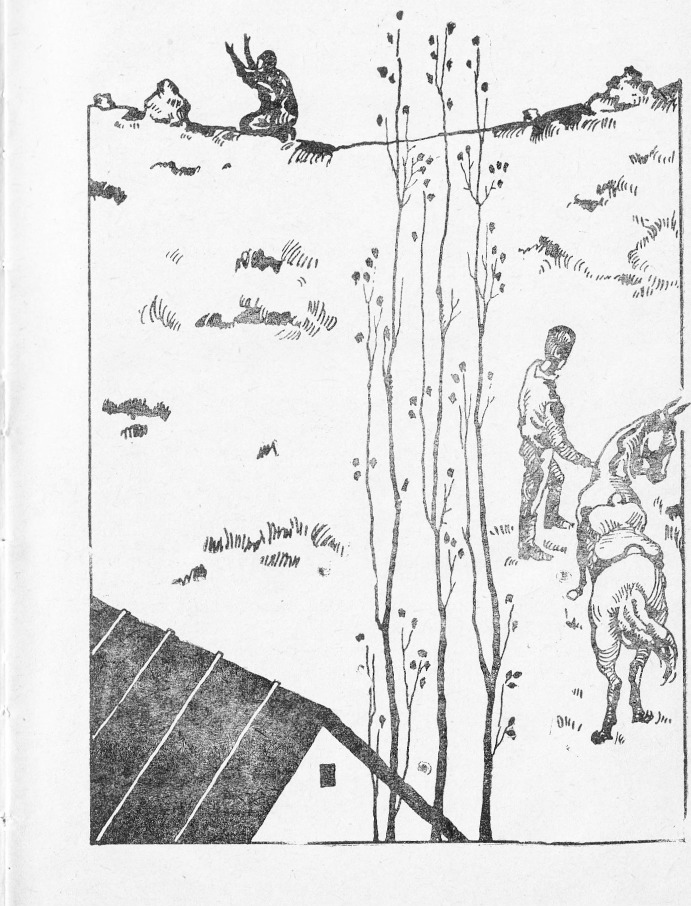
Что-то не припомню, чтобы мне хоть раз в жизни попалась в руки книга, в которой автор, в своем вступительном слове или в авторских отступлениях, высказал бы мысль, что он недоволен своим творением или своими героями.
Думаю, втайне каждый писатель отчасти даже любит свое литературное детище. И наверно, это естественно, потому что слишком много дней и ночей он провел над белым листом. Весь ушедший в свое сочинение, он, конечно, постарался вложить в него и ум свой и сердце.
И даже, быть может, душу. А пока автор все это писал и вкладывал, он ведь мог и личного счастья лишиться — от него мог уйти любимый человек. Действительно, кому же захочется быть рядом с тем, кто отдает душу свою и сердце не ему?
Да, писателю нелегко. Нелегко еще и потому, что надо все время иметь в виду и читателя. Надо постараться увлечь его и, таким образом/заставить прочесть до конца написанные почти что кровью строки. А сегодняшнему читателю очень некогда. И он не может отложить на время свои домашние и общественные дела. Он спешит. Темп жизни вырос. Как говорится, век такой. У читателя — и личная жизнь, и, возможно, уже дети и внуки, и работа напряженная. Он, быть может, -труды многих классиков еще не прочел. А тут вдруг незнакомое имя. Стоит ли рисковать?.. Но лично я, набравшись мужества, посоветую — стоит.
Я очень старался, когда писал эту книгу. Старался увлечь читателя и вложил в нее всю свою душу и сердце. И тому, кого заинтересует мой роман, я хочу признаться, что в нем есть кое-какие противоречия. Порой его герои действовали даже вопреки воле автора. Ведь когда-то и у них началась собственная жизнь, а в жизни не может не быть противоречий. Разве нет, например, в твоей жизни, уважаемый читатель, противоречий и неувязок, и все ли в ней гладко? Если ты скажешь «да», позволь мне не поверить. Потому что и в моей жизни, и в его, и в нашей всегда есть шероховатости, неувязки и узелки, и даже какие-то неожиданности. А ведь издавна известно, что книга — это зеркало жизни. Другое дело — какая книга, какое зеркало? О своей, во всяком случае, я судить не берусь и не буду больше утомлять тебя своей речью. Скажу только коротенько еще об одном.
Живет в нашем городе здоровый тучный мужчина. Когда он проходит по ¡улице, тот, кто не знает его, может подумать, что это мудрец или мыслитель. Но кто знает его давно, тот никогда такого не скажет. Никто не видел, чтобы он ускорил шаг или громко заговорил, слишком плохо или слишком хорошо оделся, пришел в восторг или рассердился, кому-то помог или помешал. Книг он не пишет и не читает. В ¡шахматы не играет, «за футбол» не болеет… Он даже рукой не шевельнет, если увидит, что бьют слабого или женщину. У него есть и место работы, вернее, службы. Он его не менял ни разу в жизни. Сослуживцы не могут сказать о нем ни плохого, ни хорошего. Говорят даже, что его ни разу не видели за рюмкой. Один шутник как-то со смехом сказал знакомым: «Хотите, я расскажу
последний анекдот?.. Я видел вчера человека, который видел позавчера нашего «мудреца» с рюмкой в руке». И все рассмеялись.
У нашего «мыслителя» никогда не болел живот. Даже кори у него в детстве не было. Раз только доктор случайно при каком-то обследовании заметил, что у него повышенное давление. Но и тогда у него ничуть не болела голова. А у меня, представьте, давление нормальное, но голова то и дело болит.
Мне кажется, что он спокойно мог бы есть вкусный пирог на глазах у голодных детей и греться, развалившись у костра, и, глядя на него, никто из замерзших уже не смог бы приблизиться к огню.
Я, дорогой читатель, рассказал все это для того, чтобы заверить тебя, что таких людей в моей книге нет. Конечно, своим рассказом о равнодушии я забежал немного вперед и поступил по пословице: «Нет терпенья — пей горячее»… но я готов поклясться, что мои герои, прищемив палец при закладке фундамента,;не прекращают строить свой дом.
Конечно, есть в этой книге и не очень хорошие люди. Но разве в жизни нашей они уже исчезли? Самое. главное, что мы с тобой, дорогой читатель, знаем: рано или поздно они поймут, что в жизни нужно делать только добрые дела. Какой бы прекрасной была тогда наша жизнь!
Разумеется, сейчас, при нашем разговоре, уважаемый читатель, у меня более выгодное положение, чем у тебя: я говорю, а ты только слушаешь. И если ты не согласен — возразить тебе некому. Но сначала надо прочесть эту книгу, тогда мы и поговорим. Можем даже письменно.
1
Собралось все село. Молча стоят у ворот своих домов старухи в темных платках и только скорбно качают головой. Непривычно тихо и печально шепчутся девушки. Молодые парни и те присмирели, группами стоят вдоль всей улицы. И все село Акун находится во власти тишины и скорби.
По кабардинскому обычаю, только мужчины несут мертвое тело. Завернутое в ковср, его выносят из дому. Покачиваясь, оно проплывает мимо двадцати набравших силу тополей, стоящих вдоль ограды. Все село знает, что посажены они несколько лет назад самой Альмажан, теперь уже покойной. И посажено их ровно столько, сколько ей тогда было лет.
Несут по селу всеобщую любимицу, несут в сторону сельского кладбища, на котором издавна хоронят акун-цев.
Покойница — молодая девушка, но каждому здесь известно, что на ее долю выпало столько переживаний, сколько, возможно, не выпадало на долю и зрелой женщины. Все знают, душой она давно повзрослела и как бы перешагнула свою юность, стала старше своих подруг.
Медленно, очень медленно движется похоронная процессия, и невольно кажется, что сама покойная не может и не хочет согласиться с несправедливым, неведомо кем вынесенным ей приговором: так рано покинуть эту прекрасную землю.
Вот и ветки тополей — свидетелей ее любви — словно с надеждой цепляются за безжизненное тело, словно пытаются остановить процессию: может быть, все еще можно исправить? Но люди знают — смерть еще ни разу не возвращала жизни свою добычу.
Вот и кладбище. Возле могилы молятся старики, мужчины. Поодаль стоит парень, по всему видно, не здешний, городской. В руках он держит блокнот и, всматриваясь в лица, в толцу, в контур деревьев вокруг могилы, рисует. Он ловит выражение скорби на лице убитой горем матери, страдание или недоумение на лицах взрослых и детей. И все это быстро, уверенными штрихами ложится на бумагу. Но и на лице этого парня тоже лежит печаль.
Он художник, ему нельзя просто отдаваться своему чувству. Все — и боль, и радость — принадлежит не только ему, а всем тем, кто потом увидит его картины, постигнет его чувства. И возможно, тогда откроется им что-то такое, чего раньше они не понимали или не замечали.
А вон там другой парень. Он одиноко стоит на холме, за кладбищем. Гнедой конь, которого он держит в поводу, худ и печален. Печален и сам джигит. Он неотрывно следит за похоронным обрядом и не решается подойти ближе. Он словно отверженный.
Но даже и такое его присутствие вызывает гнев многих, провожающих покойницу. Особенно женщин, причитающих за оградой.
— Гоните оттуда эту собаку, — кричит какая-то старуха.
— Еще глазеет ка свое грязное дело, — вторит другая.
Парень слышит, но не уходит. Видно, прогнать его
можно только силой. Вчера он приходил к дому покойной проститься. Но его не пустили. Иное дело здесь: горе провожающих велико, но поле вокруг широкое, хватает места и для друзей, и для врагов. Да и кто станет гнать человека, который не хочет уходить и норов которого, как знает все село, не отличается кротостью.
Вот и опустили тело девушки в могилу. Вот и посыпались первые комья земли, издавая глухой и скорбный стой… Вот и закончила свой земной путь Альма-жан.
Наверно, на кладбище нет сейчас человека, который не помнил бы тот далекий летний день. А ведь немало времени уже прошло с тех пор, и немало воды утекло в быстротечном Баксане.
Все это помнят. Но, может, острее, больнее всех — Мачраил, который стоит сейчас за кладбищем, держа коня под уздцы и не смея приблизиться к односельчанам, не смея разделить с ними горя…
В тот давний день Мачраил был весел и молод, потому что никакая вина перед людьми не омрачала его жизни.
Он громко пел, въезжая в село и уже не понукая взмыленного от. долгой дороги коня. Молочная ферма, которой он заведовал, с весны была переведена на высокогорные пастбища, и в летний сезон Мачраил не так уж часто приезжал в родной дом.
На холеном гнедом коне наконец въехал он в свой двор. Но не успел еще снять седло, как в ворота -влетела его племянница, дочь старшей сестры. Косы ее были растрепаны. Она кричала пронзительно и громко:
— Дядя! Дядечка! Где мама? Наш Алик утонул! В Ба|ксане!
Мачраил вскочил на полурасседланного коня и помчался к реке.
Во дворе додоа, стоящего почти на самом берегу реки, было полно народу. Женщины причитали, всхлипывали. Какая-то костлявая старуха грозно размахивала своими черными, как ветки мертвого дерева, руками, кричала:
— Не давайте ей! Отнимите! Не давайте девчонке таскать труп ребенка! Это грех! Что она с ним делает?
Мачраил подъехал и увидел на земле своего племянника Алика. Вокруг толпа почтительно смотрела на девушку, наклонившуюся над бесчувственным полуна-гим тельцем. Девушка нажимала на грудь ребенка, поднимала и опускала его руки — проворно и умело делала искусственное дыхание.
Конечно же Мачр’аил давно знал эту девушку — кого не знаешь в своей деревне? Но сейчас…
Вокруг галдели, шумели, рассказывали, что именно она, Альмажан, вытащила Алика из воды. Он, видите ли, вздумал купаться. А она шла мимо, услышала крик. Вдруг видит: ребенок тонет — и, не раздумывая, прыгнула в стремнину. И вытащила. А могли бы оба погибнуть. С Баксаном шутить нельзя.
Мачраил стоял пораженный и не сводил глаз с Альмажан. Мокрое платье облепило ее тонкое тело. Слипшиеся пряди волос падали вниз. Вот она подняла голову, сердито взглянула на Мачраила, который хотел было помочь ей… И он впервые за долгие годы увидел Альмажан так близко — ее лицо, ее глаза.
Так нередко бывает в жизни: живешь рядом, встречаешься с человеком чуть ли не ежедневно, и вдруг однажды будто какой-то луч озарит знакомое лицо. И увидишь его словно заново. Лицо покажется прекрасным, а человек — самым желанным в мире. И вот сейчас, в таких трагичных обстоятельствах, Мачраил увидел Альмажан другою.
Как же он раньше проходил мимо? Как же раньше считал ее просто шустрой девчонкой-подростком, такой, каких на селе много? А теперь взглянул в ее неожиданно бездонные, тревожные,, совершенно черные глаза и застыл сраженный. Кроме жалости к племяннику, зародилось еще одно неведомое дотоле чувство.
Но тут Альмажан взглядом заставила его выпрямиться, только коротко бросила:
— Врач нужен. Может быть, еще спасем.
И Мачраил уже, нахлестывая коня, вихрем летел по деревне. Сердцем же он чувствовал, что где-то глубоко в душе что-то изменилось в нем, изменилось по отношению к этой красивой девочке, ко всему миру.
Когда, взметая пыль, он с медсестрой прискакал обратно к Баксану, племянник сидел в углу опустевшего двора, на земле, уже пришедший в себя, почти невредимый, и смущенно улыбался, моргая густыми длинными ресницами. При виде дяди Алик испугался. Ребенок был еще не способен понять, что рядом с ним только что прошла смерть. Сейчас одного боялся Алик — а вдруг дядя будет ругать за то, что он без спросу полез в воду, что сейчас прибежит мать, начнутся крики, а то еще, чего доброго, и отлупят на глазах у посторонних. Но Мачраил только потрепал племянника по щеке и улыбнулся.
Альмажан во дворе уже не было.
Мачраил несколько дней бродил по селу в надежде увидеть ее. Но она нигде ему не встречалась. Казалось, все девушки, которые родились в селе за последние двадцать лет, то и дело сновали по улицам, одной ее не было видно.
Пора было возвращаться на ферму — на высокогорные пастбища. Но парень все оттягивал отъезд, выдумывал самые нелепые предлоги.
Зачем искал Альмажан, он и сам себе вряд ли бы мог объяснить. Мачраилу было уже двадцать шесть лет. Он был известный красавец и сердцеед не только в родном селе, но и во всей округе. Не одна девушка уже горько всплакнула, поджидая его вечером на свиданье, в то время как он, погоняя своего горячего скакуна, мчался к другой,, а то и к третьей…
Альмажан же было всего восемнадцать. И она еще не знала, что такое любовь. Недавно окончила школу и теперь собиралась поступать в институт. Медицина давно привлекала девушку, и не потому, что ее интересовали шприцы и лекарства. Просто ей хотелось делать людям добро, исцелять от страданий. Это была потребность души. С каким рвением и упорством она откачивала и приводила в чувство спасенного мальчика. По книгам ей давно были известны все приемы искусственного дыхания. И так хотелось победить, спасти.
Многие ее подруги еще в школе заглядывались на мальчишек: шептались о них долгими летними вечерами. Сердце же Альмажан было спокойно. Она почти не смотрелась в зеркало, не замечала своей красоты, не замечала и того, как из тоненького, нескладного подростка превратилась в ладную, стройную девушку. И, как ни странно, она мечтала не о любви, а о белом медицинском халате.
Но событие на берегу Баксана перевернуло многое в ее жизни. Потом, много месяцев спустя, она скажет Мачраилу, что и ее потрясла их первая встреча. Что и она словно впервые увидела его — статную фигуру, округлый подбородок, а над жгучими глазами — сросшие брови вразлет, словно крылья парящей птицы. Но это будет потом. А пока… Пока они не могли встретиться.
Однажды быстрым легким шагом Альмажан куда-то шла по селу, опустив голову и задумавшись. А навстречу прямо по середине улицы не спеша ехал на своем Гнедом Мачраил. Она очнулась только тогда, когда едва не наткнулась на морду коня. Сдерживая отпрянувшего Гнедого, Мачраил загородил ей дорогу.
— Куда спешишь, красавица? — начал он слегка озорным и уверенным тоном, каким привык разговаривать с девушками. Но в груди от волнения похолодело.
Альмажан резко взглянула на него и сразу опустила ресницы, потупилась. Смотрела на копыта танцующего коня.
— Скажи хоть словечко. Хочу услышать твой голос.
— Пропусти, — не поднимала она глаз.
— Ни за что. Я уже неделю тебя ищу. — Он не боялся быть откровенным. — На ферму не еду.
— Что тебе нужно?
— А как ты думаешь?.. — лицо его светилось улыбкой. — Зачем такой красивый парень, как я, может искать такую красивую девушку, как ты?
«Беги, беги прочь с его дороги», — шептало что-то в. душе Альмажан. Но ноги не слушались. Не слушались и глаза. Взгляд сам собой отрывался от земли и устремлялся на Мачраила. Сердце отчаянно бухало в груди. И вот глаза их встретились. Недаром в народе говорят, что взгляд — это своего рода поцелуй. Порой он может сблизить людей сильнее, чем многолетняя дружба, может сказать друг другу многое без единого слова.
Она не ушла с дороги, как подсказывало сердце, какая-то сила приковала ее к земле. А он соскочил с коня и продолжал говорить с ней, порой похлопывая Гнедого по гладкой, блестящей шее. О чем они говорили?
Сейчас уже трудно вспомнить. Но была музыка голоса, трепетность взглядов. Кажется, Мачраил благодарил девушку за спасение племянника, спрашивал, что она собирается делать после школы, говорил о своем любимце коне.
Так они и не заметили, как простояли добрых полчаса. Это была их первая встреча, первые полчаса, когда они были вместе. Но потом… потом они стали частенько встречаться случайно: то в магазине, то у почты, то среди улицы. А потом начались уже условленные встречи. И очень скоро Мачраил заговорил о любви. Альмажан не умела, да и не хотела кривить душой. Она тоже призналась, что полюбила.
Я, дорогой читатель, специально не рассказываю тебе об этих встречах подробно, потому что первые встречи всегда и у всех похожи.
Все село любовалось этой парой. Приятно посмотреть на красивую любовь. И лишь много повидавшие женщины покачивали головами: «Ой, связался черт с младенцем! Нет, не будет у них счастья».
И действительно, Альмажан скоро забыла обо всем на свете. Больше не было медицины и желания учиться, не было родных, не было солнца на небе… Все и всех заменил ей ее прекрасный возлюбленный, ее рыцарь, словно герой из легенды, быстрее ветра скачущий на Гнедом.
— Ты не поедешь в институт, — решительно сказал ей Мачраил однажды, — Ты выйдешь за меня замуж.
— Нет, ты не выйдешь за него замуж, — строго сказала мать, наутро выслушав дочь и с тревогой отметив ее радостный и смущенный взгляд. — Не выйдешь, пока не пройдет… ну, хотя бы два года… Тебе же надо учиться. — Сказала и пожалела. Увидев, как сразу сникла дочь, добавила: — Вам надо проверить друг друга. Серьезно ли это… И потом… Он ведь многим девушкам морочил голову… В общем, начинай готовиться к экзаменам в институт, а пока не мешало бы и поработать. А то у тебя слишком много свободного времени, вот и думаешь не о том…
Против этой свадьбы была и еще одна женщина — старая Гуаша, бабка Мачраила, глава их семейства.
— Нет, -мой внук не женится ни на ком из рода Озроковых, — сказала она однажды соседям. — Наши рода разделяет давняя кровная вражда. Мыслимо ли родниться при таких отношениях? Нет, я не допущу этого.
Но Альмажан ничего об этом не знала. Она просто послушалась мать. Что ж, два года — срок небольшой. Когда любишь, можно и век ждать любимого.
Ее мать Таужан была женщина молодая, решительная, была главой семьи в полном смысле — она давно схоронила мужа. Вскоре устроила Альмажан работать продавщицей в сельмаг. И теперь ее дочь наполняла кульки пряниками и конфетами, взвешивала селедку и огурцы, принимала товар. А учебники по медицине, которые она все еще прихватывала с собой, лежали под прилавком.
Но, несмотря на нелегкую работу, несмотря на то, что временно, а может быть, навсегда — кто знает? — девушка отказалась от своей самой заветной мечты, весь облик ее изменился к лучшему. Она на глазах расцветала. Походка ее стала» плавнее, увереннее, взгляд мягче. Теперь шла она по селу, и казалось, сейчас вспорхнет и улетит. Не один парень оборачивался ей вслед, провожая взглядом. Но Альмажан ни на кого не смотрела. Во всем мире для нее существовал лишь Мачраил: он был умнее всех, лучше всех, красивее всех. И… он принадлежал ей. А все, что говорили о его прошлом досужие сплетницы, она знать не желала.
Они вместе бывали в кино, гуляли по вечерам у Баксана. Однако сколько ни пытался Мачраил обнять или поцеловать Альмажан, она отскакивала, как дикая серна.
— Не надо… Вот поженимся, тогда…
Мачраил был недоволен, горяч. Еще ни одна девушка не обходилась с ним столь сурово, а ведь предстояло целых два года ходить в женихах. Но пока он мирился с девичьими причудами…
Старики шептались:
— Ой, не к добру все это. Зря Таужан встала на их пути. Любовь — это ведь как пожар: вспыхнет и спалит обоих.
В большом селе всегда найдется повод для сплетен и разговоров, ведь каждый день случается что-то новое: кто-то умер, кто-то женился, у кого-то родился первенец… Однако об Альмажан и Мачраиле не переставали говорить. Уж слишком заметны были они: и
молоды, и красивы.
Мачраил стал понемногу нервничать. Как-то он снова попытался поцеловать невесту, и та опять мягко отвела его руки.
— Послушай, ты, кажется, меня любишь, — резко сказал Мачраил. — Ведь я же живой мужчина. Сколько можно потакать капризам твоей матери. Надо иметь свою голову. — Сказал и ушел.
Альмажан не спала всю ночь. Впервые задумалась о том, что станется с нею, если Мачраил вдруг разлюбит. Ведь такое бывает. Сколько подруг ее вздыхают от неразделенной любви! Сколько об этом книг написано!..
Хорошо это или плохо, что он так красив? Слишком уж привлекает женщин его статная фигура, морщина, разрезающая лоб, глубокая, как шрам воина, по-мужски крепкие руки…
Но нет, нет и нет!.. Он… он прекрасен. Он принадлежит Альмажан. Это только так, это тучка набежала на ее сердце. Набежала и уплыла прочь.
И назавтра действительно он опять шептал ей, как она любима.
Так шло время. Но скоро, уже совсем скоро ей должно исполниться двадцать лет. И они смогут наконец пожениться. Мачраил к этому дню приготовил необычный подарок. Где-то в горах он выкопал двадцать крошечных топольков и, завернув в мешковину, прислал в село с попутчиком — пусть Алик, племянник, на тележке отвезет Альмажан.
— Ах, доченька, посмотри, что прислал тебе Мачраил, — радостно крикнула ей мать со двора, открывая мальчику ворота. — Деревца! Настоящие топольки!
— Он прислал подарок давно, — сказал Алик. — Мне все некогда было их привезти. Они немножко подсохли.
Но Альмажан была в восторге.
— Ничего, все еще поправимо.
Во-первых, деревья были подарены по числу лет, во-вторых, очевидно, это был знак того, что свадьба не за горами. Во всяком случае, так думала Альмажан.
Наутро она встала рано, с рассветом. Тихо вышла во двор. Вот лежат в ее дворе все двадцать деревцев, тонкие стволики вцепились крохотными детскими корнями, словно пальчиками, в комья земли. По одному считая и пересчитывая, Альмажан осторожно стала вытягивать их из рассыпчатой земли и сажать в саду. Пусть стоят аллейкой во всю длину ограды, пусть растут, тянутся ввысь на виду у всех, как их любовь.
Альмажан была счастлива. Она аккуратно рассаживала саженцы, каждый щедро поливала водой, даже веником выравнивала землю вокруг каждого. Ей хотелось, чтобы все было красиво, и именно сейчас, сию минуту, когда она самая счастливая на свете.
«Сегодня он приедет, наверняка сегодня, — размышляла она. — Сейчас помогу матери сажать картошку, потом искупаюсь и надену белое платье. Оно ему очень нравится. И белые [босоножки. А потом пойду к сестре Мачраила проведать Алика».
Обоим доставляло особое удовольствие делать вид, |б|удто они встретились в доме сестры совершенно случайно.
Однако сегодня этой встрече не суждено было состояться. Когда Альмажан аккуратно сажала топольки, находясь во власти мыслей о Мачраиле, по улице далеко тянувшегося села к ее дому бежала, задыхаясь, маленькая девчушка. Одна из тех, которых Альмажан часто собирала у себя дома в длинные зимние вечера, чтобы рассказать им сказку или затеять какую-нибудь игру… Акунские дети любили свою взрослую подругу. Она их часто угощала то пряниками, то конфетами. К тому же всегда принимала всерьез их маленькие детские тайны, радости или огорчения.
Девочка бежала, порой спотыкаясь, а в глазах ее почему-то стояли слезы. Ей было лет шесть, но девчушка уже понимала суть той страшной вести, которую несла для Альмажан. Понимала плохо, но чувствовала своим маленьким женским сердечком, что весть тяжела и горька.
Альмажан уже убирала ведро, лопату, когда пестрое, раздувавшееся от ветра, как парус, платьице замерло подле нее и опало.
— Альмажан, — выдохнула девочка — у нее было розовое, словно налитое яблочко, личико. — Альмажан, не умирай, пожалуйста, не умирай. Мама сказала, что ты умрешь! Не надо! Не надо!
— Что случилось?.. Кому-то плохо?.. Кто-то умер?.. — Девушка ничего толком не поняла, но щеки ее стали белеть.
— Нет, нет, никто не умер. Мама сказала, Мачраил женился.
Словно тонкое лезвие медленно вошло в сердце Альмажан и замерло, причиняя острую, незнакомую, боль. Она стояла неподвижно, молча. Потом осторожно погладила девочку по голове и почему-то опустилась на колени. Сердечная боль продолжалась. Может быть, ожила ее старая хворь? Когда-то, еще в пятом классе, она болела, и врачи лечили ее сердце. Но с тех пор все прошло, позабылось. А вот сейчас снова пронзила такая боль, что она не могла двинуться. Девочка задела ведро, оно со звоном покатилось. Альмажан тихо спросила:
— Как же зовут… его жену?
— Феня, — испуганно прошептала девочка.
И Альмажан покинули силы. Девочка вскрикнула, Из дома выбежала мать, уже спешила соседка.
— Что с тобой, доченька, детка моя?
Женщины подняли девушку, понесли в дом.
— • Мама, он женился. Узнай, мама, — шептала Альмажан. — Может, девочка напутала. Узнай… Узнай скорее.
Но матери было не до того. Ей казалось, что дочь вот-вот расстанется с жизнью, так она была бледна и бессильна.
Чтобы узнать новости,. идти далеко не пришлось. Через час одна за другой в окно. стали стучать соседки, знакомые. Шептали:
— Ты слышала? Мачраил-то… Мачраил…
— • Тсс… — Таужан всех обрывала на полуслове. — Тихо… Она, кажется, задремала. Надо будеть врача вызвать.
Но слух Альмажан обострился, как слух загнанного зверька. Она слышала даже то, чего не успевали досказать сплетницы. Очень скоро девушка узнала всю правду
— Мама, мама! — как в бреду, то вскрикивала, то шептала Альмажан. — Этого не может быть. Или это не я? Ее надо убить, эту Феню. Нет, нет. Это надо убить меня… Двух любимых у человека не может быть…
Больную навестил врач, назначил лечение. Сестры в белых халатах делали Альмажан уколы — успокоительные, «сердечные». Но спокойствие к больной не приходило: она то металась по кровати, то затихала.
— Мама, мама! Бежим к нему… Это неправда… Он же прислал мне деревца…
По ночам она бредила. Порой начинался жар. Мать вовсе лишилась сна и покоя. Правда, через неделю Альмажан стало лучше. Прошли опасения, что девушка потеряла рассудок. Однако подняться с постели она не могла. Стоило ей попытаться встать на ноги, как голова начинала кружиться так, что комната плыла перед глазами, опять появлялась сердечная боль…
Родные привозили врачей и из Нальчика, но диагнозы не радовали. «Да, сердце неважное, но не настолько, чтобы больная не могла ходить. Да, это нервное, это шок… Это стресс. Возможно, со временем пройдет… Главное — нужен покой. Лекарства. И положительные эмоции…»
И опять приходили медицинские сестры. Приносили лекарства, делали уколы… Альмажан послушно на все соглашалась. Она словно не чувствовала боли от уколов, безропотно глотала горькие лекарства… Но встать на ноги не могла. Никак не могла.
Каждое утро мать тщательно умывала ее над тазиком, помогала расчесывать густые волосы, надевать свежее платье • — Альмажан почему-то хотелось быть нарядной. Быть может, чтобы все знали о том, что и сейчас, болея, она все так же красива и так же опрятна. Ей хотелось, чтобы рассказы об этом дошли и до Мачраила или хотя бы до Фени, которая, по слухам, уже работала в больнице вместе с медсестрами, которые бывали у Альмажан…
Шли дни, недели, месяцы… Альмажан все еще была прикована к постели. А на другом конце села молодые доживали первое полугодие своей супружеской жизни.
Акунцы посудачили-посудачили о случившемся — о спешной женитьбе Мачраила, болезни Альмажан — и успокоились. Жизнь в селе продолжалась, появлялись герои новых историй, новых драм и комедий. К тому же у каждого что-то случалось и в собственной жизни.
2
Что же произошло с Мачраилом? Что заставило его отказаться от Альмажан? Почему в свой дом он неожиданно привез жену?
А было все так. Мачраил, привыкший к легким победам, привыкший часто менять женщин, эти два года ходил следом за Альмажан как пришитый. Кровь его играла как молодое вино. И он устал, устал ждать. Он, еще не женатый человек, затосковал по былой, вольной жизни, по женщинам.
— Сделала из меня какого-то паиньку, — негодовал Мачраил. — Все, хватит! Скоро парни начнут смеяться…
Так часто бывает с людьми: они годами способны ждать, добиваться чего-то и вдруг, когда желанное на пороге, все ломают и разбивают вдребезги.
Как-то заехал Мачраил по делу в одно село соседнего района. Там его мало кто знал. Дела в правлении и на ферме он закончил быстро. Но заболела у парня голова. И зашел он в маленький медпункт попросить таблетку. Привязал лошадь к стойке у крыльца. Толкнул белую дверь, и вдруг обдал его запах лекарств. Дежурная медсестра встретила Мачраила приветливо. Было в ней что-то такое кроткое, ласковое, почти беззащитное, что Мачраил вначале даже опешил…
Крупными глотками воды запивая таблетку, которую протянула ему миловидная сестричка, он вдруг неожиданно спросил.
— А что вы делаете сегодня вечером?
— Ничего, — искренне ответила она, исподволь глядя на красавца парня.
— Значит, мы можем встретиться?
— Нет. Не можем. — Она принялась мыть стакан.
— Почему же?
— А я с незнакомыми парнями не встречаюсь.
— Но мы можем познакомиться. Вас как зовут?
— Феня, — ответила она просто.
— Ну, так что? Встретимся вечером, а, Феня?
— Нет. — Девушка ответила, как отрезала, и пошла ставить стакан в шкафчик.
— Ух какие мы гордые, — то ли всерьез, то ли шутя сказал Мачраил. Но его самолюбие было задето, и он, как всегда, если только встречал какое-то сопротивление, решил, что не даст белолицей красавице пройти мимо.
Дежурство Феня заканчивала поздно. И даже не потому, что работала по расписанию полторы смены, просто Феня любила оставлять на завтра все в полном порядке: промыть каждую скляночку, баночку, прокипятить шприцы, разложить по местам лекарства, которые вновь получены.
Она уже забыла о красивом чернобровом смуглом парне, который заходил нынче утром, когда собралась наконец домой. Шла по селу, тихонько напевая какую-то старинную мелодию.
Медпункт был на самом краю села. Правда, вокруг ютились несколько домишек, но это были старые дома, выстроенные еще задолго до войны. Новое село разрасталось на выселках, верстах в двух от старого. Их соединяла дорога, нырявшая вверх и вниз меж поросших редким кустарником холмов.
Фене и в голову никогда не приходило чего-то бояться. Здесь знал ее каждый. Здесь она родилась, сюда же вернулась после училища. Девушка сотни раз проделала уже этот путь, и никогда никто ей и грубого слова не сказал, если встречался по дороге. Короче — любили ее на селе за ласку, за доброту, за ловкость в работе.
— Хорошо, что наша Феня по медицине пошла, — говорили старухи. — Девушка она старательная, душевная. А для фершала это главное дело…
Неожиданно впереди, тихо и как-то тревожно, послышалось ржанье коня. Сама не зная почему, Феня вдруг почувствовала, как у нее заколотилось сердце и словно ослабели и стали ватными ноги. Ни коня, ни всадника впереди не было видно. Но, присмотревшись, девушка различила большую тень, пересекшую ей дорогу и исчезнувшую в придорожных кустах. «Надо вернуться, — решила она, чувствуя, как от страха все внутри похолодело. — Вернуться и попросить, чтобы кто-нибудь проводил до дома».
Но из-за какого-то упрямства она все же не послушалась самое себя. И смело пошла вперед. «Что за глупости? Стоит себя распустить — и куста бояться станешь».
Не успела она пройти и сотни шагов, как сильные незнакомые руки склонившегося с седла всадника схватили ее и подняли на лошадь. Одной рукой кто-то крепко держал ее за талию, а второй — зажимал рот, так как любой ее крик мог взбудоражить село. Она задыхалась, билась. Но от потрясения не было сил кричать.
— Ну чего, чего ты боишься? — твердил мужчина почти ласково. — Сегодня ты меня сразила как молнией. Решил — моей будешь. А уж если я решил — от меня никто не уйдет: ни конь, ни зверь, ни человек.
Феня попробовала вырваться, но бесполезно. Резвый конь мчался по отливающей чернотой дороге, а железные руки Мачраила все крепче прижимали девушку.
По девичьей ли неопытности, потому ли, что слишком сильно засели в ее юной головке стародавние обычаи предков, но, когда Мачраил, прискакав на ферму, внес ее в свой неказистый домишко и положил на кровать, у нее уже не хватало сил сопротивляться. Она даже забыла о том, что у нее есть жених, с которым учились вместе и который теперь ждет ее далеко отсюда…
А наутро… Наутро Феня чувствовала себя самым несчастным человеком на свете: смотрит сквозь щелочки глаз — ¿ лежит рядом с ней чужой, с недобрым ястребиным лицом, парень. О аллах, как же все-таки красив он!
В тот нее день Мачраил привез ее в Акун. Мрачная старуха в черном сидела, как ворон, на ступеньках дома.
— Вот, нана, решил жениться. Одобряешь мой выбор? — сказал он старухе. И, не дожидаясь ее ответа, бросил Фене резко и повелительно: — Собирайся. Причешись, умойся. В загс пойдем.
Феня и не пошла бы, но что ей было теперь делать? Куда деваться? Ни хитрости, ни лживости никогда не хватило бы у нее, чтобы придумать какой-то предлог для своего внезапного исчезновения из села, чтобы скрыть все от родных и подруг, чтобы лгать потом всю жизнь… до конца.
Феня села на ступеньки дома и горько заплакала — ведь там, за Тереком, остался Юсуф, который так ждет ее…
Немного успокоившись, обдумала свое положение и решила: что вспоминать теперь, когда жизнь привела ее в Акун, в этот старинный дом Мачраила, где неуютно и холодно и на крыльце эта злая старуха.
Феня молча повязала платок, опустив его по самые брови, и медленно пошла за Мачраилом.
А парень был горд. Как захотел, так и вышло. В одну ночь приобрел девушку-красавицу, о которой поговаривали парни всей округи. А Альмажан?! Хватит уж — и она с ее матерью, и бабушка Гуаша испытали его терпенье. Надоело ждать.
И все же на сердце было скверно. Искал оправдания. Альмажан он любил, и девушка любила его. Любила! Но ведь он не опозорил ее, не обесчестил. К тому же слова бабушки Гуаши не выходили из головы: «С этой девчонкой из рода Озроковых ты будешь несчастен».
В эту минуту Мачраил не думал о том, что вскоре пожалеет о содеянном. Сегодня он казался себе героем, настоящим, почти легендарным джигитом: захотел: — присушил одну, захотел — присушил другую, да еще увез на коне, украл, как теперь и не делают. Если бы Феня не захотела связывать с ним свою жизнь, протестовала бы. А она молчит.
Сколько раз потом в беспутной своей жизни вспоминал и проклинал Мачраил этот час, этот свой поступок! Сколько раз видел перед собой укоряющие глаза Альмажан! Насколько милее потом казалась она ему, чем его тихая белолицая Феня. Но прошлого не вернешь…
3
Бабушка Мачраила Гуаша, кряжистая и еще грозная, была так стара, что казалось, только что вышла из прошлого и состоит из воспоминаний, давних обычаев и легенд. И только общаясь с любимым внуком, она словно оживала на время, теряла свою застывшую омертвелость. К ней словно слетала тень полузабытой молодости. И тогда бабушка любила рассказывать. Однако все ее рассказы и дочь и внук давно уже знали. И теперь бабушка Гуаша была даже рада, что в доме появилась Феня — будет кому рассказывать и кому послушать.
Как-то они остались в доме одни, и молчаливая волевая старуха, чье слово было законом для семьи, да, пожалуй, и для соседей, сидя на террасе, крикнула Фене в открытую дверь дома:
— Эй, сноха, принеси-ка мне четки, что *у меня под подушкой.
Феня вздрогнула от неожиданности — старуха едва ли впервые за несколько недель обратилась к ней, — стремглав бросилась выполнять поручение. Она принесла гладкие темные четки и подала их старухе. Та с гордой осанкой сидела в старинном кресле, постукивая об пол красивой расписной тростью. На ее землистом, словно грецкий орех, лице блестели моложавые глаза.
— Да не те, не те… Разве ты не приметила, что эти я не выношу из своей комнаты. Другие принеси, поменьше.
Феня принесла другие, посветлее и, едва не кланяясь старухе, спросила:
— Есть сейчас будете, нана?
— Можно и поесть. Подай мне сюда, на террасу.
Феня быстро собрала еду на маленьком круглом
столике и осторожно поставила его перед старухой.
— Садись и ты со мной, — сказала Гуаша. — До сих пор я ни одну душу не сажала рядом с собой. Но ты, мне нравишься. У тебя кроткий нрав, как и подобает горянке. И потому, я хочу кое-что рассказать тебе.
Гуша попросила Феню подставить ей под ноги низенький расписной стульчик, поудобнее развалилась в кресле и начала свой рассказ.
— Так вот, сношенька, ты, конечно, слышала, что до тебя на нашего глупого парня пялила глаза девчонка из семьи Озроковых, с нижнего края села. Я сразу сказала ему — свадь|бе не бывать. Сейчас я — старшая в роду. И уж коли я что скажу, никто не должен ослушаться. Теперь, говорят, слегла та девчонка… Ох, ну и времена пошли! Как можно выставлять напоказ свои чувства?! Умей все перенести, как и пристало нам, горянкам. И боль и радость — да так, чтобы никто и заметить не мог. У, бесстыжие!.. Но я расскажу тебе, почему не отправили мы сватов к этой слюнтяйке из рода Озроковых. У нас с этим родом старая, очень старая вражда. И до сих пор она тянется лишь потому, что только кровь может смыть кровь. А кто теперь посмеет ее пролить? — Старуха тяжко вздохнула. — Так вот, давно это началось… — Вспоминая, она прищурилась, словно от солнца. — Еще до японской войны. В роду Озроковых был такой Олий. Отчаянной красоты и смелости был мужчина. Все на него заглядывались — и женщины и даже мужчины, как на нашего Мачраи-ла, — добавила с гордостью. — Этот Олий на всем свете видел одну Забинат. Мы, женщины, в общем, недобрый народ. Дай бог, чтобы ты оказалась не такой. Много, ох, много джигитов гибнет из-за нас, женщина, из-за красоты нашей. Так вот и Олий погиб из-за этой своей Забинат. Еще до войны разглядели они друг друга. Разглядели, полюбили и сговорились. Но тут началась война. Село наше должно (было отправить трех лучших джигитов. Послали и Олия. Одни говорят, потому что он был смелее и лучше иных, другие — потому, что он чем-то прогневал нашего князя Атажукина, и тот услал его в бой. И побежали месяцы, как вода в Бак-сане. Многие сватались к Забинат. Она — ни в какую. Наконец посватался к ней один парень из нашего рода, мой двоюродный брат. Фатих его звали. Красивый был и богатый. Сватал он Забинат и хорошую цену родителям за нее предлагал. Но она упиралась. Тогда старший рода приказал немедленно решить дело. Олий писем не шлет — наверно, убит. Отец Забинат побоялся ослушаться. Братья ее — а их было пятеро — любили, лелеяли сестренку. Но тут поворчали, позаступались и тоже сдались. Взяли хороший калым и, сосватали.
Раньше девушке после сватовства полагалось еще пожить в доме родителей. Вот Забинат, сосватанная, и жила себе преспокойненько, как и раньше. Братья ее балуют, жених не тревожит, — -Гуаша в сухих пальцах перебирала светлые бусины четок. — Налей мне чаю погорячей да слушай, что дальше было…» — Она отхлебнула из синей пиалы, вздохнула: — Но вот однажды по улицам села застучали звонко копыта. На стройном вороном коне, в белоснежной бурке скакал джигит. И на груди его сверкал Георгиевский крест. Это был Олий. — Она на мгновенье умолкла, закрыла глаза, потом вновь зазвучал ее хрипловатый голос. — Одни отворачивались от него. Говорили, что, получив от русского царя награду, он сделался гяуром; другие, наоборот, гордились, что их земляк заработал орден отваги и мужества. У него на боку, в блестящих на солнце ножнах, сверкала сабля.
Все выскакивали за ворота, глядели в окна. Перекатывалось от дома к дому: «Олий едет! Олий! Олий с войны вернулся!»
Феня слушала, сидя на ступеньках, забыв про еду, широко открыв глаза.
— А Забинат, — продолжала старуха, — вскоре тайком все же встретилась с Олием. И порешили они бежать из села. С приездом Олия наши заволновались, стали поторапливать со свадьбой, стали требовать невесту к себе. Но она то ли притворилась больной, то ли вправду слегла в постель от волнений, как эта несчастная Альмажан, только теперь увидеть ее ни на улице, ни на гулянье было невозможно. И дома ее по очереди, как какой-нибудь клад, стерегли братья. Наши даже пытались выкрасть невесту: «Если больная, то наша больная, если умрет, то наша покойница», но ничего у них не получалось. В селе стали посмеиваться: «Не могут свою невесту домой забрать».
Жил в нижнем селе один наш родственник, отчаянная голова — Магомет. Призвал его старейший рода и велел помочь Фатиху выкрасть невесту и отправить в дом жениха, пока об этом не догадался Олий.
И вот Магомет вместе с другими джигитами нашего рода напали на дом Забинат. Мужчины Озроковых преградили им путь, а женщины заперлись. Нужно было действовать осторожно. Ведь если бы нашим удалось увезти Забинат, два рода, сразу же породнились бы. Поэтому нельзя было стрелять — родня есть родня.
Нападающие просто вышибли дверь, боролись, дрались с мужчинами. Мать Забинат, громко причитая, клялась, что отправила дочку в гости к родным. Потом женщин и детей заперли в одной из комнат, спешно стали о! бшаривать дом. Но Забинат нигде не было. Ну нигде!
Магомет был самым смекалистым среди наших мужчин, Он забрел в какую-то отдаленную комнатушку, что была вроде кладовки. Там темным-темно. Магомет быстро вошел в открытую дверь, постоял, огляделся и тут явственно услышал чье-то прерывистое дыханье. «Здесь она», — понял он и раскинул руки, чтобы не могла проскочить в дверь. Но Забинат стояла не шелохнувшись, словно вросла в стену и готова была не дышать. Но Магомет уже шагнул в ее сторону.
«Стой! Стой, если хочешь жить! Да видит аллах, я сделаю то, что не сделали наши мужчины», — Магомет на какой-то миг застыл от слов девушки.
Но что для храброго воина угрозы хрупкой девчонки? Магомет кинулся к Забинат, готовясь набросить на нее бурку и выбежать с нею к своим, но тут… со всего размаху напоролся на вытянутый вперед вертел, обыкновенный витой вертел, другой конец которого Забинат уперла в стену. Острие так глубоко вошло в его тело, что когда, потрясенная, она попыталась выдернуть вертел, то не смогла. Магомет сам своей могучей рукой рванул прут, но сталь не поддалась. Только страшная боль пронзила тело джигита — вертел прошел насквозь.
Тогда разгоряченный Магомет прикрыл грудь башлыком, подхватил Забинат и вынес ее к своим спутникам.. Не сказав ни слова, вскочил на коня и ускакал домой.
«Дело свое он хорошо сделал. Но почтительности в нем мало, — заметил старейшина, — Умчался к своей жене, вместо того чтобы поднять с нами тост за удачу. Забинат теперь наша».
Что с ним случилось, никто не знал, кроме Забинат. А она молчала. Рассказывали, Магомет собрал родных и двоюродных братьев, и каждый из них по очереди старался вытащить вертел. Но прут будто врос в тело, причиняя адскую боль. Тогда храбрый Магомет, всех, выпроводив, своими слабеющими руками загнул конец вертела и, зацепив его за деревянный столб, что стоял, подпирая потолок, посреди избы, дернулся изо всех оставшихся сил. Вертел вылетел из тела, но сам Магомет тут же упал замертво.
Этот вертел много лет хранили у нас в роду и передавали как символ мужества от отцов к детям. Я сама много раз его видела, а потом стала его полной владелицей. Погнутый, он весь заржавел от крови. Куда он подевался, теперь уж и не припомню!
Старая Гуаша замолчала и словно заснула в кресле с открытыми глазами, с четками в костлявых руках. Кажется, старуха устала и больше не разомкнет своих морщинистых, коричневых губ.
Феня, которая так боялась эту древнюю старуху, теперь тоже замерла, с трудом сдерживая вопросы. Но женщина смотрела куда-то мимо нее далеко-далеко, в давно отшумевшие годы.. Словно рассказ отодвинул ее на целую жизнь в прошлое.
Наконец Феня не выдержала:
— Нана, а что случилось с Забинат, из-за которой погиб Магомет? Что с ней потом стало? И как же ее Олий?
— Что с ней стало? Нельзя же было двум родам опять становиться друг против друга с оружием. Так и осталась она нашей невесткой. Красивая была, гордая и проклятая. — Старуха вздохнула и поглядела на Феню. — И не один Магомет погиб из-за ее красоты… А Олий? Храбрый Олий убивался, узнав о случившем-
зг
ея. Забинат, правда, несколько раз пыталась убежать к нему, но ее вовремя ловили и возвращали.
Конечно, Олий не только против всех старых законов готов был пойти, он и самого князя Атажукина не боялся. Когда он вернулся с войны и все село чествовало как героя, он и не подумал явиться пред очи князя, чтобы сказать: «Вот он я, великий князь! Я выполнил твой приказ, исполнил свой долг и вернулся».
Князь ждал, ждал и тоже затаил обиду на Олия. Когда такое было, чтобы после похода не явиться к князю с поклоном, с подарком?! А князья у нас были ох какие! Всем князьям князья…
Старуха задумчиво отхлебнула из пиалы остывший чай. Прикрыла темные веки, и перед ее взором словно ожили давно минувшие события, лица давным-давно живших людей.
— ■ Ну вот, а Олий будто в насмешку взял да и построил дом прямо перед поместьем князя, на берегу Баксана. Вот какой отчаянный был этот Олий!.. Но тогда по всей России волна забастовок прокатилась, дошла она и до нас. Нищий народ объединялся, громил богатые жилища, и князь не стал шуметь. Он вообще скоро исчез из наших краев.
А Олий все не женился. Жил в пустом доме, лишь изредка тайно присылал Забинат весточку. — Старуха торжественно откинулась в кресле и словно прочла вслух: — «Если любовь твоя не умерла, я не отступлюсь, будь ты даже с колыбелью». — «Пусть меня сделал женой ненавистный, — отвечала смелая бесстыдница, — а рожать для него я не буду. Те! бе бы я родила джигита». — «Хорошо. Жди».
И слова у них не разошлись с делом. Как-то поздним вечером из дома мужа Забинат вышла во двор. Тут же скрипнула калитка, ахнул ветер и гулко застучали, удаляясь, копыта.
«Вставай, вставай! — расталкивала спящего хозяина мать Фатиха. — Я чую беду. Забинат исчезла…»
Но когда выскочили за ворота — Забинат и след простыл. Только утром рассмотрели — вот на песке отпечатались маленькие шаги Забинат, вот конь нетерпеливо плясал у забора, вот копыта взрыли песок на дороге и унесли неверную к Баксану, в сторону дома Олия. Она и вправду потом родила ему джигита.
Феня слушала затаив дыханье. Вот бы сейчас явился Юсуф и вырвал бы ее, разнесчастную, из этого постылого дома, из объятий совсем нелюбимого Мачраила, стреляли бы они друг в друга, прямо и честно глядя в глаза. Но такое было давным-давно. Те времена миновали.
Сейчас Феня рада-радехонвка, если ее Мачраил за день хоть слово скажет, хоть трезвым вернется. Теперь все чаще и чаще он стал выпивать.
Забыв страх перед старухой, Феня подергала ее длинную черную юбку:
— А дальше, нана? Что (было дальше? Так интересно.
— И дальше было… Сейчас все узнаешь. — Гуаша внимательно взглянула на невестку. Молодость старухи стояла перед ее глазами, и они от этого сделались лучистыми, как много десятков лет назад, отливали зеленью, будто изумруд. — С праздника, который Олий устроил в честь рождения сына, он вдруг уехал. Может быть, он стыдился такой необычной и всем известной истории своей любви. А может, просто захотел подстрелить свежей дичи к вечернему столу для гостей. Короче говоря, в поле он поехал охотиться один.
Что происходило в его душе, один аллах ведал. Может, он до конца хотел испытать судьбу, бросить ей вызов или скинуть с плеч тяжелый груз горечи! Несмотря на то что другая дорога к его дому была вдвое короче, он поехал почему-то мимо Каменной клети — низинки, что при дороге, где собрался весь наш род на тавренье скота. Раньше таврили скот — клеймо ставили. И это было как праздник.
Вот едет он в белоснежной, всему селу знакомой черкеске — и все его узнают, едва появляется из-за поворота.
Наш Фатих, бывший муж Забинат, тоже среди остальных. А надо сказать, в те времена мужчины без оружия за ворота не выходили и за свою честь без колебаний могли отдать жизнь. Фатих сразу ружье вскинул, хотел стрелять в ненавистного человека, но старший строго прикрикнул: «Ты что, неразумный, хочешь всем показать, что тебе спать не дает тоска по этой шлюхе? Не твой черед мстить!»
Никто не хотел крови, но все же снести спокойно, что Олий не торопясь проезжал мимо, было невозможно.
Был у Фатиха друг — Ойтов, сын Уета. Наверно, никого в нашем селе не было смирнее и тише его. Так вот этот парень, с согласия старших вскочив на коня, устремился в сторону Олия и закричал: «Да возлюбит тебя аллах, сын Озрокова! Я только посредник, не более. И меня просили передать тебе — вернись назад и поезжай другой дорогой».
Но Олий, говорили, только усмехнулся и поехал дальше. Он сказал: «Если ты пришел с добром, сын Уета, да будет и тебе добро. Если со злом, пусть и оно тебя не минует. Но ты сам знаешь: жизнь мужчины — в пути, в дороге. И если сегодня я сверну со своего пути, когда я ни в чем не виновен, то сколько еще дорог мне суждено будет изменить? А зачем? Нет, мужчина не сворачивает с дороги, он находит могилу там, где упадет с коня».
А издали все смотрели на двух джигитов, вроде бы мирно беседующих, но понимали, конечно, что Олий не из тех, кто повернет своего коня. А джигиты между тем приближались.
Тогда Осман, ¡брат Фатиха, не выдержал. Схватил ружье и стал делиться в Олия. Говорят, он крикнул: «Посторонись, сын Уета!»
Олий слышал крик, видел нацеленное на него ружье, но слишком был горд — даже не шелохнулся в седле. Прогремел выстрел. Олий застонал, согнулся. Но тотчас же выпрямился. Пришпорил коня и ринулся прямо к толпе своих врагов. В него стали делиться. Олий же, подскочив прямо к Фатиху, выстрелил в него в упор, развернул коня и ускакал.
Домой конь принес Олия уже мертвым. Его сняли с седла. И горе опустилось на дом. Женщины стали плакать, причитать, кричать, а мужчины — седлать коней. Надо было опять мстить.
Но тот, чью честь собирались отстаивать, сам за себя отомстил. Фатих был ранен в голову и к вечеру умер.
Двух покойников хоронили в один день. Село словно бы разделилось на два лагеря. Одни хоронили Олия из рода Озроковых, другие — Фатиха из нашего рода. Но до крови на этот раз, слава аллаху, не дошло. Покойников хоронили по разные стороны кладбища. Пожалуй, это была последняя открытая вражда между родами в нашем селе. Вскоре в России революция совершилась. Пришли новые времена…
Старуха снова умолкла. Видно, рассказ утомил Гуашу. Она сидела неподвижно, только слышно было, как постукивали четки. А Феня опять и опять теребила ее за край одежды:
— А дальше, нана! Расскажи, что дальше?
— Сейчас, уж скоро конец, и ты поймешь, почему наш Мачраил никак не мог бы жениться на Альмажан. Почему не могло быть на то воли аллаха…
Конечно, новая власть уже не разрешала мстить, неправого стали судить по закону. А Олий, сын Олия, — так назвала Забинат сынишку, вырос, выучился, был в комсомоле, потом стал работать в Советах — писать какие-то (бумаги. Видный был мужчина, весь в отца. Ездил всегда в гимнастерке, на гнедом коне, наган носил у пояса. Когда создали колхоз, он был у нас вторым по счету председателем. Где ни проедет, все шепчут: «Вот Олий — сын Олия». Любили его за справедливость, даже покойный мой муж хвалил. Но я не помню, чтобы хоть раз он что-то хорошее сделал нашей родне: дал бы работу повыгодней или землю получше. Такого не было. Но и не обижал…
Началась Отечественная война, наших акунских мужчин забрали в армию. И в моем роду никого из мужчин не осталось — все ушли на фронт, а Олия не берут — председатель… Потом фашисты проклятые до нас дотопали. И уж не без их помощи разыгрался конец этой истории кровной мести.
Феня слушала, сидя у ног старухи и обхватив руками колени. Все это казалось старинным сказом, легендой. Да и сама старая Гуаша, в своей расписной шали, в старинном кресле, с резной тростью у ног, будто вышла из собственного рассказа, будто была иллюстрацией тех давно отшумевших дней. И понимала Феня: надо терпеливо ждать. Ведь, может статься, — старуха не скоро откроет рот, чтобы поведать одной ей известное.
— Эти фашисты — что звери лютые. — Гуаша пристукнула палкой об пол. — На том берегу Баксана были наши, а в селе стояли фашисты. Все поразграбили: и колхозное добро и домашнее. Олий вроде бы, говорили, к партизанам подался.
Как-то утром просыпаюсь и слышу — ,стрельба идет. Кучка фашистов и несколько полицаев стреляют будто бы в гору, по дальним кустам на том б§регу. Правда, я сразу смекнула, что там кто-то хоронится. Глаз у меня что у ворона. Долго стреляли, потом разошлись. А народ говорил, что это Олий — сын Олия прячется в тени гор на той стороне Баксана. Конечно, только своего там мог бы найти. Немцам там делать нечего. И стало мне жалко Олия, ¡хоть и кровный он нам враг. Но ¡когда родную землю иноземцы топчут, разве должны мы, горцы, вспоминать о своих распрях? Только успела я все это обдумать, гляжу, наш злодей, внук мой — мальчишка Хамада, что в полицаях служил, гонит через Баксан Олия. Сам Хамада на коне, вооружен до зубов, а Олий — на веревке по грудь в ледяной воде. Руки ему Хамада связал. Еле идет он, бедняга, председатель-то наш, — совсем закоченел. Немцы, на счастье, уже ушли из села, а то сразу пришел бы конец Олию.
Хамада увидел меня и кричит радостно: «Ну что, нана, вот пришел и мой черед мстить за наш род».
А я, веришь ли, не чувствую в сердце ну никакой вражды к Олию. Когда они вышли на берег, оттеснила я Хамаду в сторону, взяла под уздцы коня его бешеного, а сама ругаюсь: «Ах ты проклятый! Ах ты нечестивец! Если сегодня пришло сюда собачье племя, то завтра ему не ¡бывать на нашей земле. А вы оба — мусульмане. Что ж, будете убивать друг друга им на радость?! И без вас убитых хватает».
Но Хамада упрямится, спорит со мной.
«Ах так! Ну что ж, — говорю. — Тогда дай ему хоть обсохнуть, потом где-нибудь в стороне, без посторонних сочтетесь…»
На том согласился: «Ладно, заведи его в дом, обсуши. А я караулить буду». Встал он у ворот со своим ружьем, привязал коня, по сторонам глядит.
Ввела я Олия в свой дом, где никогда нога Озроко-вых не ступала. Ввела и сказала: «Не такой нынче день, чтобы мстить кровь за кровь, сын Озроков. Скажи, что надо сделать, чтобы помочь тебе». — «Помоги мне бежать», — а у самого челюсти свело от колода. «Но как?» — — «Когда я выжму одежду, позови Хамаду, уговори поесть, попить чаю, чтобы и он, мол, согрелся. А я схвачу ружье…» — «Ты получишь в руки ружье?» — «Клянусь аллахом, против Хамады курка не взведу». — «Но ведь большевики не верят в бога». — «Сейчас ты мой бог, Гуаша. Я тобой клянусь».
Зазвала я в дом Хамаду и все сделала, как договорились. Олий схватил ружье, выбежал на улицу, вскочил на коня — и был таков… Вот так и вырвала я его у смерти.
Не зря народная мудрость гласит: «Не враждуй со старой родней и не роднись со старым врагом». После войны мало мужчин осталось из наших родов. Но мы никогда не роднились. Теперь, поняла, к чему я тебе эту длинную историю рассказываю? В жизни она, конечно, куда длинней, я уж так, через слово говорю… Так поняла?.
Феня отрицательно покачала головой.
— Говорю к тому, что Альмажан, на которой я запрещала жениться Мачраилу, дочь того самого Олия, о котором я тебе толкую. Поздняя и единственная. Олий умер, когда девчонке было шесть лет. Вот такие дела…
Феня смотрела на старую Гуашу, думала про себя: «Да, нана, много в тебе гордыни. И сколько сказок и былей хранит седая твоя голова! Но все же наивно ты думаешь. Теперь другое время и другая мерка чести и цены человека. Неужели мой Мачраил мог послушать тебя? Да никогда в жизни! Наверно, он просто разлюбил эту Олиеву дочку из рода Озроковых, вот и женился на мне. Приехал, увидел, украл. Значит, я лучше».
Обе женщины сейчас думали, что знают единственную правду, и обе заблуждались, потому что ни одной не приходило в голову, что их Мачраил — просто гордец и повеса. Ему не нужны ни бабкины истины, ни ласки жены. Безразличны и старые сказки, и новые слезы. Единственным человеком, к которому влекло его сердце, была Альмажан. Но сейчас Мачраил пытается заглушить в себе свои чувства к девушке — прошлое ушло, кануло, его не вернешь, и уже ничего не изменишь.
4
Что говорить, легкомысленный парень Мачраил. И все же… Все же… Если б не Гуаша, которая за эти два года все уши ему прожужжала про кровную вражду и про то, что, если введет он в дом дочь Озроковых, она — его единственная бабка — уйдет из дома куда глаза глядят, может быть, его беспутному сердцу не на что было бы опереться в ту минуту, когда он, забыв Альмажан, увозил Феню. Может быть, он и остановился бы…
Но сейчас… Сейчас его мучили угрызения совести. Минутное увлечение Феней давно прошло, а Альмажан лежала прикованной к постели, как укор, раздражала. Он не видел выхода из тупика, в который забрел по своему легкомыслию, стал частенько уходить из дома, бывать среди закадычных друзей.
Однажды Феня услышала топот копыт. Он приближался все ближе и ближе к дому. У самых ворот все смолкло. Но никто не вошел в калитку.
— Эй, сноха, — раздался из дома голос насторожившейся Гуаши. — Посмотри скорей, не наш ли это парень вернулся с пастбищ?
Феня выскочила за ворота. Вспотевший, загнанный Гнедой покорно стоял как вкопанный. Мачраила Феня не узнавала. Тупо уставясь вдаль, он неуверенно держался в седле. Он, видимо, не понимал, что приехал домой.
— : Мачраил, что с тобой? — прошептала Феня. — Ты пьян, что ли? Тогда не показывайся Нане на глаза. Вот она, на террасу вышла.
— Ну и что, что пьян?! — Мачраил наконец сообразил, что он возле своего дома. — Что, я права не имею выпить? Или я на твои деньги пью? Совсем меня в раба превратили, — и, слезая с коня, грубо оттолкнул жену.
Феня в слезах бросилась к дому, вбежала в спальню и уткнулась в подушку.
Старуха измерила внука жестким взглядом, но тот на всё это и внимания не обратил. Держа коня за узду, покачиваясь, подошел к террасе и заговорил с Гуашей таким тоном, какого та от него в жизни не слыхивала.
— Значит, четки перебираешь, нана? Днем и ночыо аллаху молишься? Смотри, молись хорошенько. Проси аллаха, чтобы он пожалел твоего единственного мальчика. — Мачраил концом плети постучал себя в грудь, чтобы бабка точней поняла, какого мальчика он имеет в виду. — Может, пожалеет меня аллах. Я вот тоже вчера медведя пожалел на тропе. У-у… Какой огромный был зверюга! Как мой конь.
— Не болтай ерунды. Лучше иди проспись, — возмущенно шептала старуха. — Не хватает еще, чтобы ты запил. Такой позор на мою седую голову. — Гуаша замахнулась было на внука четками, но тут же спохватилась и, бормоча, стала замаливать свой грех.
Из окошка выглянула испуганная мать Мачраила — вдова Лили. Мать не любила Гуашу, очень уж суровую свекровь послал ей аллах. Поэтому и старалась редко
бывать дома. Работала в детском саду по две смены. Сейчас Лили только пришла с работы.
— Мачраил, что случилось? — обеспокоенно спросила мать.
Но ее сын ни с кем не хотел говорить. Молча привязал коня за домом, там с трудом расседлал его. Кое-как добрался до комнаты и, не раздеваясь, завалился на диван. Мать и жена с трудом стащили с него сапоги, раздели, укрыли.
А ведь то, что он говорил про медведя, было сущей правдой. И было действительно вчера…
От самой фермы они с бригадиром пешими спустились в ущелье. Там, как говорили, шатается огромный, дурной медведь, ворует телят, пугает людей.
Очень скоро они нашли медвежью тропу, обдумали все, разделились — каждый влез на дерево, поджидая зверя. Не прошло и часа, как послышался шорох — к дереву Мачраила медленно подходил огромный медве-дище. Нижняя губа была разорвана, видно, он уже сразился с человеком.
Охотничий азарт зажегся в душе Мачраила, и сердце застучало радостно и взволнованно. Глаза человека и зверя на мгновение встретились. Медведь увидел двустволку, направленную прямо в лоб. Охотник ждал, что предпримет зверь. И тут зверюга, к удивлению Мачраила, закрыл морду лапой и завыл. Он выл тоскливо и страшно, как плачет мать над могилой сына. А потом опустил лапу и поглядел прямо на Мачраила загнанными, полными горя глазами. А может, Мачраилу только так показалось? Ведь он смотрел на медведя через листву, и всякое могло померещиться. Но ведь померещилось же, увиделось. И еще показалось, что глаза у медведя полны слез. И почему-то в этот момент он представил глаза Альмажан, когда она плачет.
Правда, он ни разу не видел ее плачущей. Рядом с ним она, как всегда, была весела, радостна. Но в ту минуту он готов был поклясться, что встревоженный медведь чем-то напомнил ему Альмажан. И не нашлось сил у Мачраила выстрелить в беззащитное существо — он опустил ружье. А косолапый, словно сразу почуяв, что опасность миновала, смешно переваливаясь, отправился восвояси.
Потом весь день Мачраил видел перед собой этого грустного зверя и милые глаза Альмажан. Поэтому и
напился в чайной по-черному, в одиночку, чтобы не видеть больше ничего, чтобы как-то забыться.
Но нет! От себя не уйдешь. Сквозь спиртной туман увидел лицо Фени и сразу вспомнил: не то лицо, и она не та. Нет, совсем не эту женщину хотел бы он видеть в собственном доме!
Теперь Мачраилу стало казаться, что он знал в жизни истинную любовь и потерял ее, погубил. Себя он, конечно, был склонен винить меньше всех. Тогда кто виноват? Кто? Как всегда в таких случаях — самые близкие, родные. Бабушка, которая вечно лезла со своими советами и байками про кровную месть. Мать, которая вообще молчала и ничего не советовала, а ведь могла бы понять и подсказать, что нужно сыну. И конечно же Феня, которая не сопротивлялась, не убежала тогда. А теперь не хочет видеть, что он ее вовсе не любит. Ах, несчастный, преданный всеми горестный Мачраил! Жалко, очень жалко ему было себя.
Может, развестись с Феней и пойти к Альмажан? Мачраил заворочался на диване. Но разве Альмажан примет? Да и больна она, люди говорят, лежит, не встает, с сердцем плохо. Что же он сделал, шут, что сделал с любовью — отверг, растоптал, погубил?! Ах, какая любовь ушла!
А Феня? Черт бы ее унес! Не успела войти в дом, и вот вам подарок — уже беременна. Куда теперь ее девать с младенцем? Тоже хороша, стоило приманить — на все согласилась…
Когда Мачраил проснулся, за окном уже пылал закатный вечер. Не глядя в тревожные глаза женщин, которые безропотно ждали его объяснений, он оделся и решительно вышел из дому.
Совсем неожиданно он появился у своего приятеля и подступил к нему с просьбой йходить к матери Альмажан, сказать, что ему невмоготу, что он хочет повидать свою бывшую невесту.
Приятель отговаривал:
— Они тебя выгонят. На порог не пустят. Да и меня выгонят. Вся деревня знает, как родные Альмажан тебя ненавидят.
Но Мачраил. есть Мачраил: если что вбил себе в голову — не отступится. И тут упросил.
Поплелся дружок к Озроковым. Мачраил стоял поодаль, в темном проулке, и, прислушиваясь к своему сердцу, чувствовал, как оно стучит все чаще и чаще.
О боже, как ему самому хотелось влететь в этот дом, крепко прижать Альмажан и просить у нее прощения за все, что он вытворил! Сейчас он ясно понимал, что не будет ему покоя без этой девушки. А что же будет? Ведь Альмажан не может ходить. Развестись и жениться на инвалидке?! О, горе!!! Где же выход?
Он сидел у дороги против дома Альмажан и ловил себя на мысли, что с каждой минутой ему все меньше хочется видеть Альмажан и, вероятней всего, если приятель придет с отказом, он не расстроится. Прошла минута, другая, третья… Безразличие окрепло. Хотелось выпить…
Когда приятель выходил из ворот, убитая горем Таужан, проследив за ним в окошко и словно что-то почуяв, выскочила на улицу.
— Скажи этому негодяю, — приглушенно крикнула она вслед, — чтобы он и дорогу забыл к нашему дому! Чтобы он даже имя моей дочки не упоминал! Скажи, что ему не будет счастья на этой земле и на том свете!
Женщина говорила яростно и тихо, чтобы не услышала Альмажан. Потом быстро вошла в дом.
Мачраил слышал, как она запирала дверь на три щеколды. И в душе его росло какое-то» облегчение, словно он перешел трудный рубеж и теперь наконец все позади.
5
…Тополя росли. Но Альмажан все не могла подняться. Она похудела, побледнела. И теперь, начисто отрезанная от мира, радовалась приходу своих подружек, ставших медсестрами, и была готова за короткое общение с ними вытерпеть боль от уколов, горечь микстур. Чаще всего к ней прибегала из больницы веселая, смешливая Нюра, ее бывшая одноклассница. Альмажан, добросовестно выполнив все медицинские процедуры, неизменно просила подружку:
— А теперь посиди просто так. Не спеши. Расскажи что-нибудь. Как там дела? Кого видишь?
Нюра давно уже поняла, кто больше всего интересует больную. Теми или иными путями разговор неизменно приводил к Мачраилу и Фене, которая работала теперь вместе с Нюрой.
— А какая она? — спросила Альмажан однажды. — Скажи — какая?
— Ну, как тебе сказать — какая, — мялась Нюра, она не обладала большим красноречием. — Ну, невысокая. Ну, в общем… не знаю даже, как сказать. Обыкновенная.
— Невысокая, — вскинула глаза Альмажан, — Значит, коротышка.
— Ну нет, почему коротышка? Она и не низенькая, — отвечала Нюра.
— Красивая?
— Ну, не красавица. Нет, конечно.
— Уродливая?
— Почему уродливая?
— Ну, я лучше? — допытывалась Альмажан.
И тут Нюра понимала, что надо отвечать.
— Конечно лучше, ты гораздо красивее! — и рукой махала. — Куда ей до тебя! Ты у нас самая красивая.
Альмажан только грустно улыбалась:
— Ты это нарочно говоришь, чтобы меня поддержать… Я когда-то была красивой, а теперь становлюсь уродиной. — Потом помолчит немного, будто что вспомнит, и опять удержаться не может:- — А какие у нее глаза?.. Какой голос?..
Бедная Нюра совсем измучилась. Ей так хотелось утешить подружку, но она не могла сказать истинную правду или соврать так, чтобы подружка поверила. «Терпи, терпи, — приказывала себе Нюра. — Ей плохо, ведь ей так плохо, что и представить трудно! И сердце болит. И душа».
После укола наступало облегчение, и Альмажан разрешала себе помечтать.:
— Вот погоди, Нюра. Я скоро встану, и тогда сама во всем разберусь. Опять пойду работать в магазин. Для тебя буду самое лучшее откладывать. Я тебя так люблю.
— Я знаю, знаю… Не убивайся, скоро встанешь.
— Знаешь, Нюра, — робко попросила Альмажан. — Ты пока не выходи замуж. Я так хочу погулять на твоей свадьбе. Дождись, пока я встану, — и горько улыбнулась, поправила косу тоненькой рукой.
— Ладно, не выйду, — с готовностью обещала Нюра, — тем более что выходить пока не за кого, — и засмеялась.
А Альмажан вдруг сделалась мрачной и, приподнявшись на локте, зашептала, схватив Нюру за руку:
— Л пока не выйдешь, никого не люби. Не будь такой дурехой, как я. Обманет. И погубить может. Поняла?
В такие минуты глаза Альмажан становились темными, полубезумными, как в первые дни болезни, и Нюра пугалась, старалась побыстрей уйти.
А порой Альмажан обращалась ко всем с жалкой, растерянной улыбкой:
— Мама хочет везти меня в Ростов. Там меня вылечат. Правда, вылечат? Я тогда поступлю в медицинский. Мачраил меня встретит на улице, скажет: «Здравствуй, Альмажан». А я… Я ему не отвечу. Пройду мимо и даже не обернусь. Пусть увидит, что я к нему холодна.
— Нет, нет, — спохватывалась она через минуту. — Может, он и не виноват. Может, все это его родня, его бабка и эта Феня? Тогда я скажу: «Здравствуй, Мачраил. Может, пройдемся, поговорим?»
Словом, металась больная дни и ночи. И чем больше думала о себе, тем меньше было надежды подняться.
Мачраил несколько раз пытался увидеть Альмажан. Но мать ее становилась у него на дороге:
— Еще не сыт ее болью? Не пущу. Нет тебе веры.
— Кто там? — слабым голосом спрашивала девушка.
— А никого. Ветер.
Мать понимала, что дочери только хуже будет от таких свиданий. И «была права: с чем может пожаловать женатый человек и что он может обещать девушке? Только новые муки, потому что неверный человек был Мачраил.
И уходил он от ворот Альмажан угрюмым.
6
Перед самой весной повезла Таужан дочку в Ростов, на врачебный консилиум. Она всегда была человеком энергичным. Решила и тут не ждать и не выслушивать множество мнений то одного, то другого доктора.
Разом хотела услышать всю правду: суждено ли ее ненаглядной дочери, как прежде, носить легкие, лодочками, туфли на каблуках, быть первой в девичьих хороводах, или уже не бывать этому никогда. Ждать ли ей, когда прижмется к ее груди вспотевшая после подвижных игр кудрявая головка внучонка, когда детские губенки произнесут долгожданное слово «бабушка»? Или нет?
Если ждать, то все силы семьи надо направить на лечение Альмажан, на то, чтобы их жизнь вошла в прежнее спокойное русло, прекрасное и теперь такое далекое. А если мудрые ростовские профессора скажут «нет» — значит, надо смириться со своей долей и строить жизнь так, чтобы и Альмажан не чувствовала себя обузой, и им, уже давно перешагнувшим свою половину жизни — матери, бабке и прочей родне, — как-то радовать свою единственную дочь или внучку.
И вот запряжены лучшие колхозные кони в лучшую повозку. Альмажан сама попросила отвезти ее на станцию на лошадях, чтобы насмотреться на давно не виденные поля, перелески, надышаться давно не залетавшим в ее окошко свежим горным ветром.
Вот полулежит она, прикрытая ярким ковровым пледом, тщательно уложены ее прекрасные косы, радостным блеском надежды и отраженного солнца сияют глаза.
Она и сама не знала, хочет или нет, чтобы внезапно встретился ей по дороге Мачраил: Как приятно было бы ослепить его своей неувядающей красотой, облить безразличием. Она не только не выдала бы своей слабости, она даже и обиды не показала бы. Может, заговорила бы с ним, как с любым встречным: «Привет, как дела?..»
Но не встретился Мачраил, хоть и проехали они медленно по всему Акуну. Зато уж кумушек и подружек встретила множество. И каждая останавливалась и спрашивала:
Куда это ты отправилась, красавица наша?
И каждому Альмажан объясняла, что едет в Ростов к докторам и там уж ее непременно вылечат.
— А как же твои топольки? — спрашивали иные. Топольки эти стали не меньшим интересом в Акуне, чем сама Альмажан.
— Ничего, без меня поживут: бабушка последит, соседи. По теплу они примутся, оживут.
Подружки согласно кивали и понимали: Альмажан надеется на чудо — не погибнут топольки, значит, любовь не умерла до конца, значит, может, еще и воскреснет каким-то волшебным образом.
В поезде тоже обратили внимание на молодую красавицу, которую на носилках внесли в вагон. Альмажан, правда, сидела (тогда еще у нее хватало на это сил), и это придавало ей сходство с шамаханской царицей.
Почти месяц пролежала девушка в больнице: исследования, анализы, консультации.
Врачебный консилиум был долгим. Мать нервничала, как маятник металась но длинному пустому коридору, сжав руки у подбородка. Там, за большой белой двустворчатой дверью, решалась ее судьба, судьба ее дочери, судьба их рода.
Альмажан, сгорая от стыда, е помощью медсестры раздевалась перед важными седовласыми докторами. Ее тщательно простукивали, выслушивали, ощупывали, советовались, даже спорили. Но по взгляду, каким смотрел на нее один старый профессор, она многое поняла. И боль, залегшая в глазах старика (за десятки лет практики он, видно, не научился быть равнодушным), словно перелилась в сердце Альмажан и осталась в нем жить навеки.
Когда ехали домой, Таужан уже знала, что дочери никогда не подняться и, более того, жить ей оставалось на свете не слишком много. Сколько — сказать не могли. Год, два, а может, пять? Но до старости не доживет ее девочка, ее кровинка. И вернее всего, не ей придется идти за материнским телом на кладбище, а матери нести туда своего единственного ребенка.
И хотя женщина бодрилась, как только могла, улыбалась и даже подшучивала, Альмажан догадывалась: мать очень страдает, понимала это так же подспудно, как углядела сострадание в глазах'старого профессора. Она закрывала глаза, а молодое сердце трепетало внутри, и душа твердила: «Боже, как хочется жить!» Скверно было у нее на душе.
И показались ей бессмысленными весенние закаты и рассветы, добрые улыбки и различные лакомства, звуки музыки и общенье с людьми.
От вокзала ехала Альмажан в повозке полулежа и все боялась увидеть знакомых.
С полей дул теплый весенний ветер. Дорога подсохла. Перелески вдали подернулись зеленым пухом.
Вот женщины уже повернули в свой проулок, вот подъезжают к дому. Вон бабушка на крыльце. И вдруг Альмажан тихонько вскрикнула и села в повозке, опираясь на похудевшую смуглую руку.
— — Мои топольки!
Она увидела деревца. Тоненькие, прозрачные, пошатывались они от каждого порыва ветра и уже зазеленели крошечными клейкими листочками. Как изумруд, они отливали свежей зеленью на каждом деревце. Листочки дрожали, они еще не освоились, не укрепились в этом суровом и пока не привычном для них мире. Они учились жить. И, как глаза ребенка, удивленно смотрели вокруг себя, слегка поворачиваясь на ветру. Но они уже были. Они уже стали принадлежностью того круговорота вещей, который царит в природе.
Навстречу приехавшим уже сбегали по ступенькам дома бабушка, тетка, родные. Они окружили подводу, целовали Альмажан и ее мать. Но по тому, как Таужан постарела и вся словно уменьшилась, похудела и голос стал приглушеннее, тише, поняли: дела плохи. Плохи дела с их Альмажан — дочерью покойного Олия.
Но в этой семье не принято было голосить на людях и вслух выражать свои, пусть самые горькие, мысли и чувства.
Сделав над собой неимоверное усилие, мать весело повернулась к дочери:
— Смотри, Альмажан, топольки привились! На них уже появились листья, — и мать жилистой, рабочей рукой указала дочери на деревца. — Это что-нибудь да значит. Раз деревья, посаженные во имя счастья,, дают корни, счастье тоже придет следом. Ах же вы мои красавцы! И ведь ни один не засох. Все живы, здоровы. Не каждому такое судьба дарует. Ну, а теперь давай в дом. Что нам там приготовили?
7
Пока родные Альмажан, не жалея ни денег, ни сил, возили ее по врачам, пока сердце ее задыхалось при мысли о том, что Мачраил предпочел ее Фене, пока зацветали и отцветали деревья, рождались дети и умирали старики, в семье Мачраила окончательно прояснились отношения. Стало ясно, что муж не любит жену, а жена, люби не люби, не в силах овладеть его капризным и неверным сердцем.
Когда-то и у Фени, как и у любой девушки, были свои мечты. И, как у любой девушки, были они красивы и праздничны. Но налетел Мачраил, как неожиданный ураган, разметал все и смял. И разбил вдребезги ее планы и все мечты. Ну а тот, кто нравился ей, милый Юсуф, жил слишком далеко от Акуна. Да и что теперь, после ее внезапного замужества, вспоминать о прошлом? Но она вспоминала, и горевала, и ругала себя. Зачем, зачем она решила повременить, когда он еще в училище сделал ей предложение? Зачем обратилась за советом к родителям?
Конечно, может, это и романтично даже, что Мач-раил решил ее «украсть», словно в старинных песнях или легендах. Но вот и украл на свою голову, на ее горе. Родные приехали за ней в Акун, посмотрели — понравился им красавец джигит, сказали: «Ну, что теперь делать? Теперь уж нечего горевать. Муж-то какой отыскался: статный, сильный, молодой. На всю округу один и будет. Надо свадьбу играть». А после непышной свадьбы уехали восвояси, спокойно оставив дочь с красивым мужем, суровой бабушкой Гуашей и бессловесной Мачраиловой матерью.
А Мачраил день ото дня понимал, что видеть не может свою суженую. Порою он делался даже ласковым, пытаясь скрыть свою неприязнь. Но разве молено обмануть сердце женщины? Она то с нежностью приникала ¡к нему, то, видя его холодность, отвечала тем нее. Начались частые ссоры. Несколько раз Феня пыталась уехать домой. Но горские законы суровы. «Что же ты, еще не родив, решила оставить ребенка без отца, — говорили ей дома. — Нет, милая, так горские женщины не поступают. Такая твоя судьба. Смирись».
Вскоре родился ребенок, сын. И словно бы радость вошла в дом Мачраила, ходил он сдержанно-гордый, спокойный. Подолгу смотрел в сморщенное личико малыша, иной раз, когда никто не видел, неясно брал его на руки или осторожно покачивал в коляске, временами приникал губами к нежному тельцу.
Грозная Гуаша тоже подобрела, смягчилась, ведь у нее появился первый правнук. А уж о добросердечной матери Мачраила — Лили — и говорить нечего. Та всю жизнь свою готова была положить к ногам внука и даже невестки, которая ей нравилась все больше и больше.
По вечерам в доме стали чаще собираться все вместе, ужинать, разговаривать… Словом, прежде холодный, пустой дом стал понемногу олсивать, и в семью, казалось, пришли счастливые дни.
Теперь Мачраил настраивал себя на иной лад. Когда (безжалостная память воскрешала образ Альмажан, он уговаривал себя: «Ну и что? Чем Феня хуже? Мне просто жаль Альмажан. А из жалости любви не вырастет. Почему я обязан был на ней жениться? Потому что она спасла Алика из Баксана? Нет, мы с ней просто выдумали любовь. Не было ее, не было! А если Альмажан такая нервная, это уж не моя вина. Не у всех же девушек до замужества все ладно выходит, но в конце концов все заводят семью». Но Мачраил сам не замечал, что эти уговоры и споры с самим собой только расшатывали, истощали его нервы и душу. И еще больше настраивали против Фени, будто она была помехой на пути к его счастью.
Вновь и вновь Феня с тревогой ждала его до поздней ночи. И опять, сидя в компании дружков с рюмкой в руках, Мачраил бахвалился своей свободой и силой, поругивал дом, жену. А то вдруг, устремив взгляд в пространство, начинал толковать о жизни.
— — Зачем живем?! Рождаешься, растешь, карабкаешься все время куда-то, добиваешься чего-то, а потом — хлоп, и в могиле. Жизнь коротка, незачем себя ограничивать: пей, гуляй, люби, кого хочешь.
Словом, недолго продолжался Фенин покой. Все началось сызнова. Но теперь у нее была единственная радость — ее сын.
8
Возможно, ты, дорогой читатель, прожил на свете не меньше, чем я, а может, и больше. А возможно, ты совсем молодой, зеленый росточек, который еще мало знает о жизни. Но в любом случае то, о чем я собираюсь рассказать, возможно, будет для тебя небезынтересным. Тем более что дальше на страницы этого повествования придут новые герои. Они будут любить, спорить, совершать различные поступки. Среди них будут, как я уже говорил, хорошие и дурные люди. Хорошие будут бороться за правду и за добро, дурные — предавать, хитрить и даже бессовестно лгать. А потом каждый из них, как это, в конце концов, всегда бывает в жизни, получит свое. Это будет награда или возмездие, но они найдут наших героев, и найдут непременно.
Героев свяжут такие сложные, сплетающиеся в замысловатую сеть отношения, что распутать их будет непросто, и в конце концов я, может быть, просто разрублю этот узел.
Итак — в путь!
Мачраил очередной раз поссорился с Феней, с матерью и даже с бабушкой Гуашой и отправился в клуб на комсомольскую свадьбу. Эту свадьбу устроило правление колхоза. Рождалась новая семья. А виновниками были молоденькая, но уже знатная доярка и техник по доильным аппаратам. Порой задаю себе вопрос: хорошо это или плохо — люди одной! профессии в семье? Наверное, все-таки хорошо.
В зале, в конце длинного стола, сидела невеста в. белом воздушном платье. Жених — в строгом черном костюме. Невеста краснела, жених бледнел. Все помещение украшено яркими шарами, цветами. Много шума, музыки, пестреет яствами богато накрытый стол. А народу — видимо-невидимо.
Сидя в конце стола, Мачраил заметил рядом с давно знакомой ему библиотекаршей Ларисой, подружкой шофера Фуада, хлопотавшей и о столе, и о танцах, и вообще о гостях, незнакомую девушку. Мачраил все время беззастенчиво разглядывал ее. Девушку невозможно было не заметить, очень уж была хороша — залюбуешься. Светлое платье в синий горошек облегало безукоризненную фигурку. Воротничок-стойка оттенял длинную шею и нежное лицо. Короткое платье открывало тонкие, стройные, как у лани, ноги в изящных туфлях на высоких тонких каблуках.
Эта девушка на первый взгляд казалась просто чужеродной здесь, в сельском клубе. Многие девчата, переглядываясь, настороженно и ревниво следили за ее летящей походкой, за улыбчивыми, горящими радостью глазами. А уж парни!.. Парни просто глаз не могли отвести. Даже невеста вызывала меньше внимания, чем эта новенькая.
А Мачраил?.. Его душа, уже уставшая от тягот семейной жизни, так и рванулась навстречу возможному любовному упоению.
Он дождался в коридоре высокую дородную Ларису, с которой учился когда-то в школе, и, подводя ее к окну, спросил вполголоса:
— Слушай, кто эта тонконогая красавица, которую ты привела?
— Ай, старый волк! — • смеясь, погрозила пальцем Лариса. — Сразу заприметил? Ну и глаз у тебя!
— Ну, раз я старый волк, так, может быть, она Красная Шапочка?
— Она, скорее, ягненок.
— Тем более… Ну, так как?!
— Что как? — Лариса словно не понимала.
— Я ведь отблагодарю. — Он огляделся и уже тише добавил: — Отдам тебе нашу Звездочку… Пуд молока в день надаивает.
Лариса даже ахнула:
— Смотри какой князь нашелся. Вон как зацепило тебя, родненький. Уже казенное стадо не жаль базарить! Твоя ферма и так сползла с первого места на пятое. А он еще Звездочку решил подарить! Умник! — Она тоже посмотрела по сторонам. Из зала доносились шум, музыка.
— Да не отвлекайся ты на общественные дела. И без тебя на собрании уже прорабатывали. Скажи лучше, кто она? Откуда?
— Моя начальница. Новая заведующая клубом, — и лукаво улыбнулась, — интеллигентная. Только что культпросветучилище окончила. — Лариса отстранилась. — Ладно, пусти. У нее еще молоко на губах не обсохло. Так что не лезь. Поубавь пыл, — она не на шутку рассердилась.
— Ну хоть познакомь! А? Познакомь, ради аллаха. Крючком зацепило, аж горит все внутри.
Приволокнуться хочешь? — Она сощурилась. — Ты
ж женин муж? Да еще с таким прошлым. Эх ты!
— Ну тебе-то что за дело? Познакомь, говорю. Как хоть ее зовут? — Лариса видела, как неистово горели глаза Мачраила, и испугалась.
— Зовут ее Замират… Ладно, хватит. Пусти, меня ждут. — Девушка резко отстранила его и, стуча каблуками, заспешила в зал.
На том разговор и закончился.
Правда, Замират, новенькая завклубом, не могла не заметить темноглазого, плечистого и угрюмого парня, который ни с кем не танцевал, а весь вечер бесстыдно глядел на нее, не отводя взгляда.
— Кто это был? — спросила она у Ларисы, поздно вечером возвращаясь с нею домой.
— Да так, один тип, — неопределенно ответила та. — В общем, недобрый человек.
Как я мельком уже сказал, дорогой читатель, у Ларисы был друг, а точнее жених, колхозный шофер Фуад, которого она не сЛишком-то и любила. Прежде всего потому, что ее бедное сердце, по правде говоря, не умело любить. Зато в ней с избытком было развито чувство собственности: «мое платье», «мои дела», «мой жених». И она очень дорожила всем тем, что могла назвать «моим».
Как-то после работы зашел Фуад в клубную библиотеку за Ларисой и увидел там Замират, сидящую у стола за стаканом чая. Фуад застенчиво улыбнулся и, словно споткнувшись обо что-то, замер в дверях. Если бы Лариса не заметила этого, ей достаточно было бы взглянуть на саму Замират, чтобы понять, что что-то произошло. Девушка чуть было не обожглась чаем, лицо ее вспыхнуло, залилось краской:
— Ой, как вы нас напугали! — сказала и глаза опустила.
Все трое почувствовали неловкость. Вдруг Лариса сказала громко:
— Познакомьтесь, пожалуйста, — и своим властным голосом словно вернула на землю взметнувшиеся души. — Это Замират. А это — Фуад, мой жених.
Слово «мой» прозвучало в устах Ларисы как окончательный приговор.
Фуад и Замират пожали друг другу руки. И опять — молчание. ф
— Ну ладно, — поднялась Замират, — я завтра подберу литературу для клуба. Может быть, получим из коллектора, — и быстрым шагом направилась к двери, словно пустилась в бегство.
Фуад хорошо знал, что он может услышать сейчас от своей нареченной, но все же оглянулся вслед убегающей Замират.
Но Лариса не стала ничего говорить Фуаду. Она поняла, что это ни к чему. Лучше смолчать. Тем более что с самого появления Замират в колхозе Лариса почему-то боялась именно этого знакомства. Нет, она была уверена и в себе и в Фуаде. Но все-таки… Ведь девчата так часто говорили ей: «Твой парень куда лучше тебя», или: «У тебя золотой парень». И правда,, Фуад был привязан к ней еще со школы. Писал записки, таскал ей яблоки, давал списывать контрольные и домашние задания. А потом стал ее женихом. И все-таки, все-таки…
Правда, Фуад уже сделал ей предложение и здесь, в библиотеке, пропадал все свободное время. Он провожал Ларису домой, засиживался у нее допоздна. Но свадьбу пока откладывали, хотели подкопить денег.
Но теперь! Теперь, когда Лариса увидела, как Фуад вспыхнул при виде ее новой юной начальницы, по-настоящему забеспокоилась. И грозный клич «мое!» зазвучал в ее душе с неистовой силой. «Свадьбу. Скорее свадьбу», — решила она. И еще подумала: «Надо бы проучить эту красотку, еще не вылупившуюся из яйца, чтобы не строила глазки чужим женихам».
А Замират и не подозревала, какая гроза собирается над ее головой. Она с таким увлечением окунулась в клубную работу, что свободного времени не остава-,лось.
По нраву своему Замират была энергичной, веселой и непосредственной. Да и много ли наработаешь в клубе, много ли сделаешь, если сама будешь унылой, суровой, непривлекательной? Кто ж пойдет к тебе в клуб? Здесь люди хотят отдохнуть, отвести душу после работы. Поэтому Замират всегда старалась держаться и выглядеть так, словно сама пришла на праздник.
А какой унылый, заброшенный клуб она получила в наследство! Все дела здесь были развалены. Пришлось все самой начинать, все сначала. Она поотдирала со стен старые, всем надоевшие, поблекшие от времени плакаты. Специально съездила в город и привезла репродукции знаменитых картин. Сама высадила в горшочки цветочную рассаду и расставила по подоконникам в зале и коридорах. И вскоре клуб превратился прямо-таки в сад. Никто за тот месяц, который проработала Замират, не видел на дверях клуба амбарный замок, который, казалось, отродясь и не снимал прежний заведующий и библиотекарь. В клубе стало уютно, чисто. Теперь Замират заставляла уборщицу мыть пол, протирать пыль. Да и саму завклубом часто видели с веником или мокрой тряпкой в руках. Уставала так, что засыпала, как говорится, еле голову донеся до подушки.
А кино? Кино и раньше привозили в село, но что обычно делалось на сеансах? Даже в те дни, когда механик был трезв и не пускал фильм «вверх ногами», молодежь, в основном юные зрители, словно напоказ, друг перед другом галдели, шумели, комментировали происходящее на экране, щелкали семечки. Публика постарше, та, что всерьез воспринимала фильм, тоже шумела, успокаивая крикунов. И в зале на протяжении всего фильма стоял такой галдеж, что текста с экрана не было слышно. Многие пожилые люди даже перестали ходить в кино из-за этого.
Однажды фильм внезапно прервался на самом интересном месте. Зажегся свет, и все увидели на сцене новую прехорошенькую заведующую.
— Механика на мыло! — сразу пронеслось по залу.
— Давай, крути!.. Сапожник!..
Кто-то засвистел, кто-то затопал ногами. Однако девушка молча стояла. И скоро все поняли, что остановка фильма не случайна. Притихли, уставились на Замират: и платье йодновато, и прическа необычна для их сельских нравов, ну в общем, ничего не скажешь — хороша!
— Видим, видим, что красавица! Насмотрелись! Кино давай! — кричали из зала.
Замнрат стояла, строгая, пунцовая от волнения, но со сцены не уходила.
— Какое вам еще кино? Смотрите, она сама кино! Любуйтесь, сколько влезет, — язвили одни.
— Иди к нам сюда, мы тебе место заняли, — похохатывали другие.
— С такой девахой посидеть одно удовольствие, — подхватывали третьи.
Но Замират все стояла, как монумент, и молча ждала, пока зал утихнет. И постепенно зал стих — невозможно же кричать вечно. Эту простую истину Замнрат хорошо знала.
Раздались голоса:
— Да тише вы!
— Вы что, орать сюда пришли? Делайте это за дверью бесплатно.
— Дайте ей слово сказать!
И вот крики и свист смолкли. Слышны были лишь шепотки и хихиканье девушек. Замират все молчала. Наконец в зале установилась звенящая тишина.
Нахмуренные бровн Замират разгладились, сверкнула улыбка, и она неожиданно мягко и приветливо сказала:
— Ну вот и хорошо, теперь давайте познакомимся. Я — ваша новая заведующая клубом. И впредь прошу во время фильма вести себя достойно. И подобное поведение для молодежи не к лицу. А теперь давайте смотреть фильм. Там дальше очень интересно будет.
Она прошла по сцене и исчезла за кулисами. И
впервые за всю историю клуба фильм смотрели в тишине и покое. С тех пор так и повелось. А если кто по старинке и начинал шуметь, сами зрители его быстро урезонивали.
9
Время шло, а недоброе сердце Ларисы не успокаивалось. Ревнивые чувства ее к Замират разгорались. Конечно, она была неплохим библиотекарем. Но как трудно ей работалось с людьми! Чего стоило установить тишину в зале на какой-нибудь читательской конференции, которую она устраивала раз или два в год. А вот эта девчонка подойдет, улыбнется своей милой улыбкой, и все готовы ее любую просьбу выполнить. Она словно не работает, а играет. И по селу уже по-, ползла молва: «Какая все же славная у нас Замират! Ну и девушка! Какая добрая! Слава аллаху, наконец-то клуб наш попал в хорошие руки».
Все это Лариса, может, и «простила» бы сопернице. Но те взгляды, которыми порой обменивались при мимолетных встречах Замират с Фуадом, болью отдавались в Ларисином сердце. Она не могла забыть, как однажды Фуад сказал, глядя вслед случайно встретившейся Замират:
— Вот походка, так и летит, словно земли не касается, правда?
Не могла забыть, как Замират оказала как-то:
• — Хорошего парня ты отхватила. Самого доброго, 1 самого симпатичного во всем Акуне. Заочно учится в институте. Прямо позавидовать можно.
И однажды, когда девушки разбирали новые книги, привезенные в библиотеку, Лариса словно шутя сказала:
— Ты говорила, что мой Фуад самый лучший парень в Акуне. Нет, самый красивый у нас Мачраил. Помнишь его? На свадьбе? Разве не так?
Замират опустила глаза:
— Возможно, но я слышала — он женат и у него ребенок.
И Ларисе показалось, что какая-то грустинка мелькнула в глазах девушки. Для себя же она решила и дальше плести потихоньку эту тонкую паутинку.
Через несколько дней Лариса, неожиданно встретив Мачраила в магазине, игриво напомнила:
— Ну, Серый Волк, ты разве забыл свою Красную Шапочку?.. Ладно уж. Познакомлю… Только ты не показывай сразу все свои зубы, а то спугнешь…
А у Замират как-то спросила, когда они составляли в библиотеке программу очередного молодежного вечера:
— Ну как, не видишь нигде красавца нашего Мач-раила?
— Я думаю, мужчине красота ни к чему, — Замират посмотрела Ларисе прямо в глаза. — И лучше нет парня, чем твой Фуад.
«Опять Фуад у нее на уме, — злобно подумала Лариса. — Ну подожди! Ты у меня получишь».
И вот наступил этот самый вечер отдыха для. молодежи. Гремела музыка. Молодежь упоенно танцевала. На этот раз Лариса сама подошла к Мачраилу.
— Эх ты, теленок! И не стыдно? — сказала она резко. — Самая красивая девушка стоит и подпирает стенку, а ты не приглашаешь…
И все сомнения для Мачраила исчезли. Он уверенно направился к Замират и, получив согласие на танец, с радостью обнял тонкий девичий стан. Они танцевали слаженно, легко, словно давным-давно танцевали вместе. И обоим было так весело, так хорошо, словно они были одни в целом свете. И Мачраил снова почувствовал себя молодым и беззаботным, словно он никогда не любил Альмажан, словно не было у него ни Фени, ни сына.
Весь вечер Мачраил не отходил от Замират. Многие уже заметили это. А кое-кто даже собирался поговорить с новенькой заведующей о его прошлом, предупредить ее, а может, и устыдить — негоже так развлекаться с женатым. Но почему-то оттягивали.
.Дорогой читатель, да разве мы всегда успеваем вовремя сделать то, что необходимо? Иногда нам просто некогда, и мы откладываем дело на завтра. Иногда стесняемся, как говорится, лезть не в свое дело или думаем: пусть это сделает кто-то другой, более смелый и быстрый. А когда этот более смелый наконец появляется и совершает разумные или даже отважные поступки, помогает слабому или карает подлого, нам становится стыдно. Но мы уже опоздали, и правда и справедливость восстановлены без нас. А ведь есть хорошая поговорка: «Спешите делать добро». Но вернемся к нашим героям.
Никто и слова не сказал Замират о Мачраиле, никто не рискнул начать разговор на щекотливую тему.
Решили: сами не маленькие, разберутся. Одна только Лариса была небезразлична к тому, что происходит, уж она-то знала, что посоветовать, что подсказать.
Домой подруги возвращались вместе. Мачраил, как подсказала ему Лариса, в провожатые не набивался.
— Ну, о чем вы с ним болтали? — весело выспрашивала Лариса.
Ах, читатель! Думаю, все знают эти девичьи разговоры. «Он сказал… а я говорю… а он ответил…» Они могут продолжаться часами и обычно бывают взволнованными, буквально захватывает дух. Но совсем не то было сейчас.
— Да так, ни о чем. Просто весело было. Он хорошо танцует, — ответила в темноте Замират и на ходу сорвала душистую веточку придорожного тополька.
— Ну уж, так я и поверила! И проводить не захотел?
— Ой, что ты говоришь, Лариса? Разве я бы позволила?
— Ну и зря. И провожать, и целоваться — это так интересно, и главное, ни к чему не обязывает… Ты просто еще ребенок.
— Нет, я думаю, обязывает. Вот вы с Фуадом поженитесь скоро, вам можно и целоваться и обниматься…
— Нет, ты пойми главное. Поцелуй — • это пустяки, это же мелочь. Главное — не допускать других вольностей.
— Нет, я в жизни еще не целовалась, — улыбнулась во тьме Замират. — Нам покойная мама всегда говорила…
— Тогда были совсем другие нравы, — перебила ее Лариса, — нельзя же жить так, как жили старики. Сознайся, разве Мачраил тебе не нравится? Такой красавец!
— Да, красоты ему не занимать. Это верно, — вздохнула Замират. Хорошо, что в темноте не было видно ее зардевшихся щек. — И все-таки внешность для мужчины не главное… Ну, вот я и пришла. Счастливо тебе.
Лариса постояла минутку. Увидела, как в доме, где Замират снимала комнату, зажглось ее окно, и пошла потихоньку вдоль села, обдумывая планы на будущее.
10
Тополя все росли и росли. Бежал и струился белопенный Баксан. Каждый прожитый день приносил селу какую-нибудь новость — радость или печаль. И люди на берегах Баксана горевали и веселились, как все люди на земле.
При этом, кажется, все вроде бы остается на месте, все по-прежнему, но в то же время все меняется, хотя сразу перемен и не заметишь. Эх, взлететь бы на минуту ввысь и взглянуть на все из поднебесья! Тогда, может, и впрямь уловишь быстротечность жизни. А изнутри увидеть почти никому не дано.
Вот если бы Альмажан могла взглянуть на жизнь сверху, с высоты птичьего полета! Ведь она все так же неподвижно лежит на своей опостылевшей кровати, и ей плохо — тяжело и черно на душе. Так плохо и так черно, что хоть плачь. Уже набрали силу топольки и каждый год раскидывали свои свежезеленые ветви. И ветви эти уже заглядывали к Альмажан в окно. Как далеко ушло то утро, когда она их сажала, когда ей было всего двадцать лет. Саженцы раньше не дотягивались до уровня подоконника, возле которого стояла ее кровать, а теперь они так вытянулись, что их зелень полощется о стекло. И Альмажан любуется их ветвями и глянцевыми листочками, пляшущими на ветру. А когда в окно светит солнце, на кровать падает целый ковер разнообразных, резных от листвы теней, и ей радостно, словно удалось полежать под деревьями на мягкой весенней траве. Ах, как сузился круг ее радостей, как широк круг печалей!
Видимо, не слишком-то справедливо судьба делит порой счастье между людьми. И конечно, мало что знает о людских бедах прекрасная наша земная природа.
Вот Баксан. Он все спешит куда-то, летит, по весне особенно полноводно несется стремниной с близлежащих высоких гор, и нет ему дела ни до людей, ни до их чувств и страстей.
А впрочем, как знать, как знать! Может, оттого он даже весной выходит из берегов, чтобы забрать у людей все зло и лишние хлопоты и отнести все человеческие горести в далекие-далекие края.
Может, он ласкает людей, когда на его берегах они добры, веселы и спокойны. И его утихшие волны слов
но шепчут тогда: «Вот так и живите. Любите, согревайте друг друга словом и делом, не мучайте, не обижайте слабых. Если бы вы только вспоминали почаще, сколько подобных вам жило на этих берегах! Они тоже страдали, любили, спорили… И вот на смену пришли вы, отыграли и вовсе забыты их страсти… А какие яркие были судьбы! Какие личности! Но все канули в века. То же будет и с вами. Все то же самое…»
Немало валунов столкнулось за столетия на дне Баксана. Немало валунов стерла в песок неугомонная вода. И как это она не устает, не прекращает своей бесконечной и тяжкой работы!
Сколько бессонных ночей провела Альмажан у распахнутого окна, слушая отдаленные песни Баксана! Особенно говорлив он, когда село засыпает и все окутывает черная немая тишина. Многие мысли и чувства девушки, которые рождались в ночи, унесли уже вдаль беспокойные волны времени.
Но душа Альмажан не ожесточилась, а как бы стала уравновешеннее и добрее. Альмажан взрослела. Конечно, она не принимала участия в повседневной жизни, и даже с момента болезни не видела тех многих людей, о которых теперь слушала с упоением, с которыми происходили свои истории. Она говорила Нюре, которая продолжала частенько забегать к ней:
— Знаешь, у меня странное чувство. Хоть я и не могу для людей сделать ничего конкретного, но почему-то кажется, что я смогла бы взять на себя их беды и их печали. Ты рассказывай мне обо всем. Ладно? Вдруг мое соучастие да поможет кому-нибудь, хоть чуточку. Я, знаешь, верю в это… А мама жалеет меня, все скрывает…
И Нюра потихоньку рассказывала ей вечерами, с опаской поглядывая на дверь, кто умер, а кто родился, кто болен, а кто женился — все-все деревенские новости.
Нюра поведала, как в селе построили вместо старого клуба новый Дом культуры. И как там весело стало и интересно, потому что приехала новая заведующая Замират, как сумела организовать все так, что во дворец стали тянуться люди. Сколько там разных кружков организовано, проводятся музыкальные вечера… Вот бы Альмажан побывать там, познакомиться с этой Замират!
А еще умер Мухаметмурза — самый старый революционер в селе. Он жил последние годы в городе, но хоронить его привезли на родную землю, и похороны были очень торжественные.
А еще влюбились и поженились парень с девушкой, а их прабабки были сестрами. Далекая, но все же родня. А это, по обычаям, беду сулит. Старики в Акуне так шумели, что молодым пришлось уехать в Нальчик.
Ах, если бы Альмажан могла ходить, она обязательно пошла бы к ним в гости, ободрила бы молодых — нельзя слушать досужие пересуды. Если любят, надо жить, радоваться. Уж она-то знает, к чему ведут разные толки.
А еще какой-то маршал приезжал в Акун охотиться.
А еще умерла старая нагайка Дашка, и теперь акун-ским девушкам не к кому бегать гадать. Но это все поправимо. Кому уж очень понадобится, отправятся за три версты в соседнее село. Там живет еще одна гадалка. Теперь туда дорожку проторят.
Когда Нюра уходила, Альмажан становилось вроде бы даже легче на душе. Вроде бы и она что-то сделала и приняла участие в общей жизни. Уляжется поудобнее Альмажан и, слушая доносящийся шум Баксана, тихонечко напевает, мурлычет какую-то песенку.
Течет река. Текут годы. Течет жизнь.
Она видит за окном ночное звездное небо, мерцание далеких миров. И потихоньку засыпает, довольная.
11
С тех пор как Замират впервые увидела Мачраила, услыхала его голос, она словно покой потеряла. Теперь весь окружающий мир для нее и даже само солнце словно затмило отточенное, красивое и редко улыбающееся лицо Мачраила. Конечно, не давало ей покоя то, что он женат, что растет у него сын. Замират спорила сама с собой. Старалась помочь себе и убедить в собственной глупости. Но тщетно.
Она понимала, что кроме Мачраила на свете немало пригожих парней. Но сердце ее тронул почему-то именно он, и никто иной. Замират видела, что Мачраил в чем-то лучше всех остальных. Разве хоть один умеет так сидеть на коне, как он, и говорить таким теплым, уверенным голосом? И главное, разве хоть один признался ей в любви так, как он? Ну, а то, что женат?.. Разве он виноват, что ошибся, что живет с нелюбимой.
Это беда их обоих. Он, как и положено настоящему мужчине, ни разу ничего плохого не сказал о своей жене. Он вообще молчал об этом. Но зато о ней все-все рассказала Лариса. Эта Феня сама повисла у него на шее. А он никогда и не думал любить ее. Он с радостью разорвал бы эти цепи, но, во-первых, ему жаль ребенка, а во-вторых, ему не встретилась еще та, ради которой он сделал бы это. Но вот теперь, при встрече с ней, Замират…
Слыхала она и про Альмажан. Но тут, по словам Ларисы, дело было еще ясней. Бедный парень вообще ни в чем не повинен. Эта девчонка, эта чудоковатая Альмажан, по словам Ларисы, просто влюбилась в него до потери сознания. Вот и слегла. Впрочем, у нее и раньше было не все хорошо с головой, да и с сердцем тоже. Не мог же Мачраил жениться на ней — губить свою жизнь! С какой стати?! Даже подумать смешно.
Вот так незаметно плела паутину Лариса. И своего Фуада она теперь обезопасила от чар Замират. Ей вообще доставляло удовольствие вести эту игру, словно двигать фигуры на шахматной доске, придумывать им забавные ходы. Приятно чувствовать ей свою силу, приятно убеждать себя, что только она одна слишком разбирается в делах любовных. И на этом поприще ей везет, да еще как! А что касается зла, то кто же на него не способен, вступаясь за свою любовь?
Вот, казалось бы, красивая, умненькая Замират любого парня может покорить, но подтолкни ее легонько, и она станет соучастницей зла.
В последнее время Фуад заметил, что Лариса то и дело на вечерах или в библиотеке о чем-то секретничает то с Мачраилом, то с Замират. Он даже решил было вмешаться, но Лариса мягко сказала:
— Брось, Фуад. Это их личные дела. Я просто советовала. А вообще, пусть все решают сами. Они не дети. Замират прекрасно знает, что у него семья. И это ее ничуть не волнует. Если девушка на это идет, никто ее не остановит. Уж такой нрав… А собственно, почему ты так печешься о Замират, а?
Своим неожиданным вопросом Лариса обезоруживала парня, смущала усмешкой. А он терялся, не знал, что ответить. В то время он просто искренне был увлечен Ларисой. И верил ей во всем.
12
Опять наступила весна. Все вокруг благоухало, пело, наливалось соками жизни. И мир расцвел, улыбнулся, как девушка на смотринах.
Весенняя пора в этих краях самое горячее время у животноводов.
На ферме у Мачраила с утра все пришло в движение. Суетились люди, шумели машины, неслось по округе разноголосое мычание коров. Тех, что недавно отелились или вот-вот ждали потомства, грузили на машины. Им оказывался особый почет. Их оберегали — не гнали в горы пешими. Остальное стадо с утра двинулось в горы на летнее пастбище, с ним, верхом на лошадях, отправлялись пастухи.
Приехало из района начальство, что-то осматривали,, принимали… Честно говоря, Мачраил не очень волновался, тем более что ферма его вполне подготовилась к перегону.
Больше всех суетился новый председатель колхоза, маленький, толстенький, похожий на булку, румяный коротыш Хасбий. Он всюду лез сам. Все старался потрогать собственными руками, словно никогда никому ничего не доверял. Только свою новенькую «Волгу» он доверил водителю, который уже хорошо знаком нам с тобой, дорогой читатель. Это Фуад — бывший шофер колхозного «газика». Недавно шофера председателя взяли в армию, и Хасбий переманил Фуада к себе. «У меня не соскучишься. Это — во-первых. И работы много не будет. Это — во-вторых. Учись, пожалуйста, в своем заочном. Хоть полдня сиди в машине, читай».
С утра Фуад намывал и полировал председательскую «Волгу», потом делал с Хасбием два-три рейса по различным организациям, а вечером свободен. Но он действительно мог много читать и днем, когда ожидал своего начальника с совещаний, визитов…
Среди. животноводов мелькают и разгоряченные лица Ларисы и Замират. Они сегодня тоже здесь, на ферме. Срочно выпускают листки-«молнии», отправляют с отъезжающими газеты, журналы, книги. Прибивают к бортам машин лозунги. И от яркости кумачовых плакатов, от людской суеты еще более праздничным кажется это весеннее утро, а работа — приятной, необходимой людям…
Хасбий сам приглашает всех к накрытым, как во время большого праздника, столам. Правда, Фуаду как-то неловко, что слишком уж председатель суетится, слишком истово размахивает коротенькими руками, слишком усердно хлопочет вокруг столов. Он какой-то беспокойный, не хватает ему степенности, уравновешенности. И люди постарше, поопытнее, глядя на его притворно улыбающееся лицо, про себя думают: «Конечно, новая метла всегда хорошо метет, да поглядим, что будет».
Замират была возбуждена, словно на собственной свадьбе. Вроде бы ничего особенного не произошло сегодня между нею и Мачраилом, просто он, впервые на людях, то и дело не таясь подходил к ней, заговаривал, подсмеивался над тем, с каким азартом она вколачивала гвозди в борта грузовиков, как, прикусив кончик языка, дописывала витиеватые большие буквы в заголовке стенной газеты…
В общем, ничего особенного. Но сегодня впервые он смотрел на нее так нежно, впервые его глаза излучали столько страсти.
За столом, вопреки всему, он сел рядом с Замират, и она заметила, как переглядываются, посматривая в их сторону, девушки-доярки, как осуждающе покачивают головами старшие. Но ей было почему-то весело, очень весело… И пусть, пусть все смотрят! Ведь у нее с Мачраилом все серьезно. Что могут люди увидеть и понять в их чувствах?
Скоро многие захмелели, пошел беспорядочный веселый разговор. Послышались обещания перекрыть все существующие на свете нормы удоя. Хвастались, перебивали друг друга, шумели. Не переставая) кто-нибудь до небес восхвалял то тамаду, то соседа и с нетерпением ждал, когда и ему ответят тем же.
Наконец все поднялись. Стали рассаживаться по машинам, вразнобой затянули песню. Машины, пофыркивая и слегка переваливаясь с боку на бок, словно тоже хлебнули немного спиртного, тронулись в путь, в горы, вершины которых еще были одеты в снежные шапки.
— Эй, девушки-красавицы, — кричит Хасбий. — • Садитесь, до села подброшу. А ты, Мачраил? Ты на своем Гнедом?
Лариса, вкрадчиво улыбаясь, говорит председателю:
— Спасибо, спасибо, Хасбий. Мы тут уберемся немного, а потом пройдемся пешочком. Прогулка по воздуху — дело полезное.
Фуад сел за руль. Ему было не по себе, что девушки остаются на ферме с Мачраилом. И за Ларису было неспокойно, но почему-то особенно тревожно за Зами-рат. «Надо бы поскорей отвезти Хасгбия, — подумал Фуад, — и вернуться за ними».
Но молодой водитель еще плохо знал своего начальника. Отделаться от Хасбия «поскорее» ему не удалось. Промчавшись по селу, заскочив к себе домой, потом в правление, Хасбий погнал «Волгу» в райцентр, и планы Фуада — побыстрее вернуться на ферму — рухнули…
В тот день Фуад окончательно убедился, что новый председатель — человек скрытный, сложный, более сложный, чем кажется на первый взгляд… Уже тогда Фуад понял, что с этим человеком он долго работать не сможет.
— Итак, Фуад, — торжественно начал Хасбий, едва они отъехали от села, — мы с тобой вместе работаем уже столько времени, а как-то еще ни разу не поговорили по душам. Не возьму греха на душу — я ни разу не был тобой недоволен. Думаю, и ты ничего плохого не можешь сказать обо мне? А?
Фуад вежливо кивнул.
— Нет, ты головой не мотай. Ты словами скажи: хороший у тебя хозяин? А?
Слово «хозяин» резануло слух Фуада: «раб, хозяин, батрак». Но вслух он все же сказал:
— Хороший, хороший, лучше некуда.
— Ну так вот, раз мы с тобой друг другом довольны, значит, должны стать друзьями. А друг-водитель мне нужен особый… чтоб был слепой и глухой. Ясно? — и добавил значительно: — Как там в песне-то поется? «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», — и залился своим звенящим, режущим слух смехом.
Фуад молча взглянул на председателя: «Если я глухой, значит, я не слышу твоих речей. А если слепой,, то при случае могу ненароком и опрокинуть в канаву».
Что-то, видно, холодное уловил в его взгляде Хасбий, потому что тут же спохватился:
— Понимаешь, место председателева шофера — -очень хорошее место. Сам же видишь. Знаешь, сколько родственников ко мне приходили, приводили своих мальчишек и просили взять, устроить. Я всем отказал. А почему? Потому что нет хуже связываться в этом деле с родней, а тебя я сразу заприметил. Хотя твой отец ко мне тоже приходил. И неспроста я снял тебя со старого «газика». Да и что |хорошего было на ферме 1— вонь, грязь. А здесь преимуществ много. Но главное, свободного времени — во! — Хасбий провел рукой выше головы. — Меня ждешь, а сам сиди читай свои учебники.
Все, что сейчас говорил Хасбий, было правдой. Но что он имел в виду еще, куда он гнул, было неясно.
Голос Хасбия струился обильным потоком, как водопад:
— Мы с тобой, Фуад, больше не будем возвращаться к этому разговору, я этого не люблю. Что сказано, то сказано. Только запомни: ты мне не просто водитель, ты мой младший брат или даже сын родной. Я не из тех, кто сидит в ресторане, а его шофер голодный спит в машине. Я буду тебе доверять, всеми тайнами поделюсь. Но опять прошу о (б| одном, — и он руками закрыл сперва глаза, потом уши, потом рот, — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу…
«Значит, я не ошибся — ему есть что скрывать, — настороженно подумал Фуад, спокойно держа сильные руки на белом руле, — и меня он прочит в сообщники».
— Пью — пей со мной, — продолжал Хасбий, — работаю — работай со мной, даже круг знакомых будет у нас общий. — Хасбий легонько подтолкнул Фуада в бок и захихикал.
Фуад ничего не ответил — может, председатель просто разговорился после застолья. А мало ли что болтает подвыпивший человек? В конце концов, может быть, вся эта болтовня — просто старческое хвастовство? Кроме того, сердцем Фуад был сейчас на ферме, с девушками. И неспокойно, ой как неспокойно было у него на душе! Ему бы повернуть машину и мчаться туда, куда звало сердце, а он сейчас летел в город по маршруту, указанному Хаобием.
Возможно, было бы странно, дорогой читатель, если бы шофер вдруг не послушался начальника и повернул машину в противоположную сторону. Однако как часто не слушаемся мы того, что тихонько, порой чуть слышно, нашептывает нам наша совесть. А надо, надо прислушиваться к внутреннему голосу и совершать поступки согласно зову сердца… Но Фуад крутил баранку, слушал медовый голос Хасбия и ехал в направлении, противоположном тому, где он мысленно был сейчас.
Вот они пересекли городскую черту. Замелькали дома, перекрестки. И Хасбий, опустив руку на плечо Фуада, велел остановиться. Он тяжело вывалился из машины и протопал к красной телефонной будке. Указательный палец его едва помещался в дырочке диска, однако он быстро набрал знакомый номер.
— Ал-л-о, — раздался в трубке высокий женский голос, но такой высокий и такой напевный, что можно было подумать, что это оперное сопрано.
Когда Хасбий услышал это «Ал-л-о», у него сладко заныло в груди, и он сразу забыл, как в последнюю встречу они поссорились из-за того, что Хаабий встретил ее на улице под руку с каким-то косматым парнем. Сейчас он живо представил себе ее коротко, по-мальчишески стриженные светлые волосы, ее небрежную, танцующую походку, представил — и забыл обо всем на свете.
— Это ты? — спросил Хасбий.
— Как будто бы я, — строго послышалось в ответ. — А ты, оказывается, еще жив.
— Умер бы — прочла бы в газетах. — Он помолчал. — Давай встретимся. Я не сержусь. Хочу хоть разок взглянуть на тебя…
— А я в газетах прочла, что ты интересуешься какой-то девчонкой из вашей библиотеки.
«Ну и газета у нее, — подумал Хасбий. — Раза два я заглядывал в библиотеку, и то по делам, а она уже знает». А вслух сказал:
Не трать время попусту, у меня его мало.
— Когда ты со мной, тебе всегда некогда. Я устала.
— Не злись. Выходи, я сейчас машину пришлю.
— Делаешь так, чтобы шофер был в курсе?
— Не волнуйся. Это свой парень.
— Свой не свой, — сказала она раздраженно, — но та самая библиотекарша, из-за которой ты вдруг так полюбил литературу, — его подружка. Он ей словечко скажет, и весь Акун знать будет. До жены дойдет. Зачем мне это?
Хасбий и предположить не мог, что эта дамочка совсем недавно беседовала о нем с Ларисой, когда та делала у нее прическу.
— Все-то ты хитришь. Ладно, не тяни время. — Хасбий уже понял, что она выйдет, и стал говорить более уверенным тоном. — Машина подойдет через десять минут.
— Нет, через час! Я не готова.
— Ты хочешь, чтобы я целый час слонялся по улице? Через двадцать минут.
— Через сорок пять.
Наконец маленький торг кончился, и Хасбий велел Фуаду ехать в самый большой гастроном. Оттуда он вышел минут через двадцать. Сцепив на животе руки, он нес какие-то кульки, пакеты и бутылки. Потом они погнали в небольшой ольховый лесок. Среди подлеска Хасбий нашел укромное место. Разложил на траве покупки. Расстелили плед, который оказался в машине, расставили, разложили пакеты, бутылки. Из машины Хасбий вытащил даже ящик с продуктами, прихваченный на ферме. Фуад давно уже понял, что задуман пикник.
— А теперь поезжай по этому адресу, — Хасбий написал его на бумажке. — Привезешь сюда товарища. И меньше слов!
Фуад подъехал к стандартному блочному дому-новостройке, просигналил, как ему было сказано, два раза, а потом еще один и стал ждать.
К его удивлению, товарищем, которого он дожидался, оказалась… женщина, легко сбежавшая по ступенькам подъезда. Она была совсем непохожа на знакомых Фуаду девчат, непохожа и на его казавшуюся образованной и элегантной Ларису. Она была похожа на киноактрису, какие иногда появляются на экранах и всегда кажутся нам обворожительными и самыми удивительными женщинами на свете. На этой женщине было надето вроде бы скромное, ситцевое, но очень красивое и, наверное, дорогое платье. Ноги украшали какие-то мудреные босоножки с тесемочками, вьющимися по стройным ногам до самого колена. «И такая… такая фея предпочитает общество Хасбия!» — недоумевал Фуад. — В таком случае она просто дура». Не поднимая глаз, он распахнул перед ней дверцу.
— Спасибо, — сказала она своим мелодичным голоском. И, минуту помолчав, добавила: — Куда мы едем?
— Сама знаешь, — с неожиданной для него грубостью ответил Фуад. Он не мог сдержаться, не мог слышать за своей спиной раздражающего запаха дорогих духов, ощущать на своем затылке насмешливый взгляд…
Долго ехали молча. Наконец она первая нарушила молчание.
— Ты чей будешь, такой сердитый?.. — и постукала в спину Фуада ярким остреньким ноготком. — Что молчишь?
— Отца с матерью, — неприветливо буркнул Фуад.
— А что такой злой? Смотри, я хозяину пожалуюсь. — Она игриво повела плечиком.
— Да жалуйся хоть самому аллаху. А хозяина у меня нет. Я служащей…
Но договорить он не успел, так как слишком долго искал подходящее слово, а машина уже въехала в ольховую рощу. И там среди зелени на разостланном пледе» грузным мешком блаженно нежился Хасбий. Над ним на развесистой ветке, покачиваясь, висела его соломенная шляпа, сапоги стояли в стороне, на ногах ярко рдели под солнцем рыжие эластичные носки.
— Ты вот что, Фуад, — поднимаясь, несколько суетливо заговорил председатель. — Мы здесь немного посидим, потолкуем, а ты пока сгоняй в Заготскот и забери там акты. И еще, — покопавшись в кармане, протянул бумажку, — не в службу, а в дружбу. Мой костюм забери из химчистки, а то, понимаешь, к начальству явиться не в чем, — и рассмеялся от всей души, видно, собственное остроумие ему понравилось.
Фуад рад был сейчас хоть в пасть к тигру отправиться, лишь бы поскорее уехать. Он только спросил чужим натянутым голосом:
— А когда приезжать?
— Да часика этак через три. А ты там где-нибудь зайди пообедай, — и пухлая его рука уже протягивала Фуаду красненькую десятку.
— Спасибо, не надо. Деньги у меня есть, — все так же сдержанно сказал Фуад, нырнул в машину и погнал в сторону города.
А Хасбий, поглядев вслед удаляющейся машине, сразу приобнял свою красивую высокую красавицу, которая, как ты уже догадался, дорогой читатель, работала парикмахером в салоне быта. Приобнял ее еще раз с удовольствием, ощутив сладкое чувство власти… и над этим угрюмым мальчишкой Фуадом, и над этой длинноногой красавицей. «Эх, а ведь не будь я начальником, разве?..» Он на мгновение задумался, и этих «разве» возникло столько, что Хасбий поторопился взяться за бутылку:
— Ну что, дорогая? Садись, будем за нашу любовь пить.
Хасбий давно уже твердо усвоил — место председателя его делает сильным и даже красивым.
13
Фуад и не подумал ехать в Заготскот или в химчистку. Он вообще дал себе слово больше не выполнять лакейских поручений и делать только то, что следует колхозному шоферу. Правда, Хасбий в будущем еще не раз будет прибегать к его услугам.
До фермы, откуда они выехали два часа назад, было не более двадцати километров. Белая «Волга» легко и красиво летела по дороге.
Быть может, Фуад куда более резко отбрил бы своего лихого хозяина и за подружкой его не ездил бы,, продукты не раскладывал бы в роще на пледе, но он плохо соображал и был словно сам не свой — его ни на минуту не оставляла мысль о Ларисе и Замират. Что там на ферме? Скорее бы Хасбий отстал от него, отпустил!.. И вот он уже мчался на ферму, и на душе у него было тяжко. Он вихрем обгонял движущиеся машины и только возле постов ГАИ сбавлял скорость. Он и сам толком не понимал, что гнало его с такой силой. Но не поздно ли?
Машина влетела в ворота фермы и резко затормозила на опустевшем дворе среди зелени. Фуад выскочил… и замер. Недаром его сердце било тревогу! На крылечке, обхватив тесаный столбик, казалось, так крепко, что не оторвать, стояла Замират. Что это с ней?! Ее праздничная белоснежная блузка разорвана, волосы рассыпаны по плечам. Глаза точно остекленели, она беззвучно всхлипывает, и, видимо, уже давно — вон как лицо опухло. В дверях появился Мачраил. Он настойчиво тянет Замират в дом, но она только горестно, как старушка, трясет головой и продолжает, как за спасенье, цепляться за столбик крылечка.
— Что тут случилось? — еще издали крикнул Фуад.
— Ничего не случилось, — резко ответил Мачраил. — А тебе что здесь надо? Тебя наши дела не касаются.
— Лариса! — закричал Фуад. — Где Лариса?!
И тут из окна в мягком, кошачьем движении появилась фигурка Ларисы:
— Приехал? Ну, а что шумишь? Не вмешивайся в их дела. Лучше отвези меня домой.
Но Фуад, взойдя на крыльцо, схватил Замират за РУку:
— Скажи, что случилось? Тебя обидели?
За другую руку ее крепко схватил Мачраил.
— Отпусти ее, сопляк! — закричал он. — Она тебе кто — жена, сестра?
— Ах вон ты как?! А если и не жена, и не сестра, так уж наплевать?! А совесть у тебя есть? Отпусти ее!
— Со мной связываться я тебе не советую. Видно, это про тебя поговорка: «Когда осел хочет, чтобы его отколотили, то идет к порогу мечети»… С чего ты взял, что ты тут кому-то нужен?.. А ну, убирайся с моей фермы! — Внезапно Мачраил толкнул Фуада в грудь так, что тот, не удержавшись, упал с крыльца.
Мачраил в прыжке кинулся на Фуада, и началась драка. В схватке они рвали друг другу рубахи, рычали, как молодые львы, катались в пыли, по которой утром мирно протопало в горы стадо коров, ушли машины с оборудованием.
Фуад был человеком миролюбивым, никто в Акуне с детства его не видел дерущимся. Но здесь, сейчас, в таких обстоятельствах!.. Непонятная злоба поднялась в его не слишком сильном, не слишком могучем теле. Еще минута — и подвыпивший Мачраил с разбитым до крови лицом, в разорванной рубахе лежал в пыли у его ног. Глаза его, покраснев от бешенства, метали стрелы. Он готов вскочить, разодрать противника в клочья, но силы его уже покинули, он устал. Он повержен. И едва ли не впервые в своей жизни он понял, что физическая мощь — не главное в человеке. Часто побеждает тот, кто сильней духом.
Медленно, очень медленно поднимается Мачраил с земли. Сперва на колени. Долго стоит так, чуть покачиваясь и сгорая от стыда. На душе гадко, противно. Его позор видит и этот парень-хиляк, и две женщины. Такого горец не забывает до могилы!
Да тут еще Лариса со своей вечной бойкостью и насмешливой услужливостью. Не успел еще Мачраил одолеть слабость и подняться с колен, как она, появившись в дверях, вынесла огромное эмалированное ведро. Бах! И обдала его! Поток ледяной воды течет с головы до ног. Холодные струи текут за ворот по спине, превращают в мокрые космы его еще минуту назад пышную шевелюру.
— Ну что, хватит? Или еще остудить? — почти весело спрашивает Лариса, и в глазах ее вспыхивают те самые озорные чертики, из-за которых так и льнут к ней акунские парни и даже сам новый председатель.
Мачраил, весь мокрый, грязный, поднялся и привадился спиной к крыльцу, скрипя зубами от бессильной злобы.
— Ты меня еще узнаешь, защитничек, — рычит он, ■сплевывая. — Я зла так не прощаю.
— Это ты меня не знаешь! Зла он не прощает! Ты его сам сеешь! За каждой юбкой волочишься, без чести и совести. Победитель, — и оборачивается к Замират: — Поехали!
— Куда? — еле шевелит она припухшими губами.
— Как куда? В милицию, вот куда, — и, не давая Замират опомниться, взяв за руку, буквально тащит к машине. — Садись!
Плюхнувшись на сиденье, та начинает беззвучно плакать.
— Ну что ты ревешь, что? — почти грубо говорит он, заводя машину. — Теперь уже поздно. Я же вижу, что он с тобой сделал!
— Эй! Эй! — Это бежит за ними вслед, махая руками, Лариса. — Уселась парочка. А меня с этим психом бросили?
Но машина не остановилась. А через Минуту и Лариса, и вся ферма уже скрылись из виду.
— Куда ты меня везешь? — шепотом спрашивает Замират.
— Я же сказал: в милицию, вот куда. Ведь ты не думаешь ему прощать такое?
Замират начинает всхлипывать громче.
— Я боюсь.
— Раньше надо было бояться… А сейчас приедем, составим акт. Я свидетель. И Лариса, я думаю, подтвердит.
— Зачем ты ее оставил?
— Ничего. Тут рядышком. Добежит.
Машина летит к Акуну, мелькают мимо придорожные кусты. Вот вдали среди зелени уже показались крыши домов.
— Надо подавать в суд. Сколько все это должно сходить ему с рук? Одна прикована к постели из-за его фортелей. На Фене, бедной, лица не стало. А теперь над девчонкой-несмышленышем надругаться придумал? Это уже уголовное дело.
И вдруг Замират хватает его холодными пальцами за руку и, глядя заплаканными глазами, придерживая у шеи разорванную кофтенку, умоляюще шепчет:
— Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо,, я очень тебя прошу! Того, что случилось, уже не поправишь. Я себя, себя во всем виню. Я шутила с ним.. Сама осталась наедине. — И она вновь начинает рыдать. — Но не надо никому говорить… Как я потом жить буду? Мне же с людьми работать… А милиция, суд, огласка — это такой позор!
Фуад посмотрел в детское, растерянное лицо Замират, в ее покрасневшие от слез глаза и живо представил себе, как пойдут по деревне суды и пересуды. Как некоторые будут рады падению гордой девушки. Он помрачнел окончательно и у околицы остановил машину.
— Ну, не хочешь — как хочешь. Я ведь помочь решил и перед тобой виноватым быть не хочу. Ни в том, что помощи не предложил, ни в том, что с помощью перестарался.
— Спасибо, Фуад, спасибо, — прошептала она и открыла дверцу машины. — Тут уже рядом. Я сама добегу.. Прости.
— Я-то прощу, — вздохнул он, разворачивая машину. — Но по-моему, зло все-таки надо наказывать. Легче жить станет.
14
И опять замелькали дни и месяцы. Закрутились, как колеса быстро ¡бегущего поезда.
И опять Нюра рассказывала Альмажан о сельских новостях: в их клуб из города приезжал сводный оркестр, свадьбу сыграли библиотекарша Лариса и шофер председателя Фуад. Но о Замират Нюра ничего не знала.
Много, много ночей проплакала Замират и вот окончательно поняла, что с ней случилось непоправимое: у нее должен появиться ребенок. Если бы Мачраил даже не был женат, не имел бы, другого, законного ребенка, какой из него был бы муж? Он опять пил. И Замират теперь видела его издали во всей его «красе» и понимала, как страшно судьба обманула ее.
Единственной опорой и советчицей была только Лариса. Замират, бедняжка, и не догадывалась, что изливает душу и все свои горести человеку очень коварному. А Лариса торжествовала. Теперь симпатия между Замират и Фуадом навсегда погребена, это во-первых. А во-вторых, ей вообще было приятно сознавать, что не она, а милейшая Замират становится причиной сплетен, насмешек, что понемногу стала разваливаться работа в клубе, к которой с такой энергией приступила некогда новая заведующая, что подруги уже хихикают за ее спиной — где ее прежняя фигурка. Живот у Замират все явственнее округляется, однако Лариса делала вид, что она одна жалеет и понимает беднягу и во всем готова ей помочь.
А Фуад все работал у председателя. Сначала он было подумывал перейти обратно на ферму или куда-нибудь на полевые работы. Но и родные, особенно отец, и Лариса, теперь уже в качестве жены, забросали его упреками.
— Ну что тебе до Хасбия? Ведь это не ты, валяешься с девками в ольховой роще? И вообще это не твое дело. Твое дело — крутить баранку.
И Фуад решил пока подождать с переходом на другое место работы. Тем более что скоро предстояла защита диплома. Здесь, у Хасбия, действительно было достаточно свободного времени, чтобы готовиться к сессии.
В городе председатель исчезал на полдня, а Фуад сидел и занимался. В машине на сиденьях и на полочке у стекла постоянно лежали книги по агрономии, животноводству.
«Головастый парень. Может стать большим человеком», — однажды с завистью подумал Хасбий. И вдруг его осенило. Впрочем, мысль эта была совсем не новая, но в голове Хасбия она вспыхнула ярко, как молния.
«Учиться! Надо учиться! — Когда-то в молодости, еще после армии, он даже окончил три курса агрофака. Но так и недоучился, бросил. — ■ Надо восстановиться, позаниматься, наладить контакты с институтским начальством. Глядишь — через два-три года будет и диплом в кармане». От раздумий сразу же приступил к делу. Что ни месяц — едет Хасбий с бараном в багажнике к каким-то новым городским друзьям. Даже зачетная книжка появилась у Хасбия, которую однажды показал Фуаду. А в этой книжке стали появляться «зачеты» и даже оценки. И вот за одну зиму почти догнал председатель своего трудолюбивого водителя.
15
Замират в тревоге ждала ребенка. Каждый день ощущала она в себе живую плоть, плод ее и Мачраила — чужого ей человека. И не было никакой радости в душе несчастной женщины.
Роды начались неожиданно. Замират отвезли в больницу, и через несколько часов появился на свет мальчик. Ушли куда-то все горести, и счастье засветилось в глазах молодой матери. Сын, защитник, надежда любой женщины. А вот отец не попытался его увидеть, так ни разу и не подошел к окну больницы. Да их и вооб-ще-то никто не навещал. Разве только разок-другой приходила Лариса.
Она решила, что теперь самое время окончить игру. Теперь дело было сделано и можно не напрягаться. И Фуад как принадлежал ей, так и останется ее. Хотя в душе она по-бабьи жалела девушку.
Мачраила вызвали в правление колхоза, но он, как всегда под хмельком, как всегда красивый и наглый, только и отвечал: «А кто докажет, что это я? Кто? А бабы пусть сплетничают. А потом, разве она жаловалась? Подавала заявление? — Он поскреб за ухом. — Со мной всегда так,, как с той приблудной собакой! Винят ее и в том, что она съела, и в том, чего не ела».
Да, Замират жаловаться не стала. Не в ее характере это было. Да и что толку? Больше позору. А проку нет.»
Родных у нее, кроме старшей сестры, не было. Мать умерла давно, когда Замират еще в школу ходила. Отец остался с двумя девочками на руках. Погоревал, погоревал да и взял себе новую жену. Вскоре у той пошли свои дети. Не зря говорят — мужчина сперва любит женщину, а потом уж ее детей. Как привязался отец к новой жене, к новым детям, так и поостыло его сердце к первенцам. И росли Замират с сестрой без любви и ласки. Их кормили, одевали, учили… вроде бы не обижали. Но родительского тепла они уже не видели.
Единственным близким человеком для Замират была сестра Аминат. Но Замират ей не стала писать о случившемся, не хотелось пугать своим несчастьем, не хотелось ее волновать.
Впрочем, нет таких тайн, которые не становились бы явью, и Аминат вскоре сама узнала о жизни сестры и, конечно, примчалась проведать.
Как старшая — она была старше всего на два года, — ■ Аминат чувствовала себя ответственной за судьбу сестры. И уже дома у Замират рассказала ей, как пеленать ребенка, как кормить его, какие соки давать. Но ругала ее на чем свет стоит. Уговаривала даже уехать куда-нибудь подальше из Акуна, где никто не знает ее, где она сможет начать все сначала и где ее станут уважать.
— Как ты теперь появишься в клубе? Что ты людям скажешь? Но главное — кто теперь тебя вообще будет слушать?
Аминат даже как-то намекнула на то, чтобы сдать малыша в детский дом.
— Нет, Аминат, нет, — в ответ твердила побледневшая от таких слов Замират, поглаживая крохотные пальчики малыша. — От себя и от судьбы не уйдешь. — -Она была грустной, похудевшей и повзрослевшей. — Сначала я плакала, все умереть хотела. Временами даже мечтала покончить с собой. А теперь даже подумать страшно, что моего малыша не было бы. Посмотри, какие у него смешные ножки и ручки, — и лицо ее озарялось нежной улыбкой. — А брови как нарисованные. Нет, я никуда и ни от кого бежать не стану. Здесь суждено мне было упасть, здесь я и подниматься буду. А сын — ну что ж, пусть разделит со мной мою горькую долю.
Сестры поплакали-поплакали, и после долгого прощания Аминат наконец уехала. Когда еще увидятся вновь? У каждой теперь своя жизнь, своя семья, свои. хлопоты и заботы.
И вот тут, дорогой читатель, надо напомнить тебе ю Ларисе с Фуадом.
Конечно, Фуад, которому Замират была в общем-то совершенно чужой, остро переживал ее горе, ее «грех», особенно когда у нее родился ребенок. «Вот, — думал он, — даже таким чистым девушкам выпадают на долю. лихие испытания. А Лариса? Кто же моя Лариса?!!»
Но Лариса вела себя умно и расчетливо и казалась мужу самой милой и мудрой на свете. Впрочем, много ли довелось ему знать женщин? По правде сказать, кроме Ларисы, он не знал ни одной. После школы, когда Фуад вздыхал по Ларисе, ушел он служить в армию. Потом работал и учился одновременно, из родного Акуна выезжал только на сессии. Вот тогда-то его окончательно захватила в свой плен Лариса, а вскоре их сосватали. Замират, юная, стройная, нежная, была первой девушкой, которую Фуад мог хотя бы отчасти сравнить с Ларисой… Но чем все кончилось?!
Может быть, мой читатель, ты не согласен со мной, когда я говорю, что с Замират случилась большая беда, что на ее голову пал великий позор? Сказать по совести, я и сам так думаю. Но горы есть горы. Здесь еще живы традиции и обычаи предков. И наше село Акун совсем не то, что большой европейский город. Здесь все на виду, и каждое новое происшествие здесь — всеобщее достояние, а также возможность и повод пообщаться, проявить себя, подчеркнуть свою добродетель или злословие.
И конечно, Лариса с Фуадом не раз и не два разговаривали о Замират и ее судьбе. Со временем в душе Фуада поселились подозрения, что его Лариса сыграла какую-то роль в несчастье девушки. Во всех подробностях восстанавливал в памяти случившееся тогда на ферме. И все больше укреплялся в своих подозрениях. А однажды прямо спросила жену об этом. Но Лариса конечно же искренне поразилась.
— Что ты, что ты? — возмутилась она. — Разве кто-нибудь может среди бела дня, на людях насильно овладеть девушкой? Она сама осталась с ним. Дыма без огня не бывает. Сама хотела этого. Я говорила ей, предупреждала. Не послушалась — упрямая. Иную, хоть осыпь золотом, все равно не поддастся дурному… — Потом притворно вздыхала: — И все-таки Замират мне жалко.
— Ну а ты, что ты делала тогда на ферме? — настаивал Фуад.
— Я тогда как раз за водой ходила. — Лариса говорила притворно, с сочувствием, и Фуад верил жене.
«Действительно, — думал он, — Лариса тут ни при чем. Даже если несколько раз и передала что-то Замират от этого Мачраила. Что же тут такого? У каждого своя голова на плечах».
1 ак иногда думал по ночам Фуад, лежа в постели рядом с женой. Но не кажется ли тебе, мой дорогой читатель, что он слишком «болел душой о Замират, о ее судьбе? А Ларисе казалось — наконец в ее дом пришло прочное супружеское счастье. И когда по утрам Фуад выходил из спальни, делал зарядку, обливался холодной водой, надевал белоснежную рубашку на упругое тело, сердце Ларисы пело от радости. Все! Ее жизнь, слава аллаху, устроена. И устроена так, как ей хотелось. Она вошла в семью Токмаковых, уверенная в себе и во всем на свете. Она гордилась тем, что такого дома, как их новый кирпичный родительский дом, нет больше во всем селе. Гордилась тем, что ее брат купил новенькую «Волгу», что муж ее старшей сестры — большой начальник в городе, и много, много чем еще гордилась она. Неплохо разобралась она и в перспективах своего супруга. Она прекрасно понимала, что такой упорный, честный и очень способный парень не засидится долго в шоферах. Как зверь безошибочно чует хорошую добычу, так Лариса чуяла, что у Фуада большое будущее. И уже в мечтах представляла себя женой большого начальника, в многокомнатной городской квартире, среди ковров, хрустальных люстр и ваз. Представляла себя принимающей важных гостей, потчующей их из роскошной посуды… Много о чем мечтала и что представляла себе Лариса! По раскладу ее карт — в жизни ей должны были выпасть самые крупные козыри. Ах, дорогой читатель, как часто ошибочен бывает первоначальный расклад.
После свадьбы Лариса действительно изменилась: расцвела, подобрела. Исчезла ее резкость, желание всем говорить колкости или часами молчать, приглядываясь к окружающим. Совсем перестала подсмеиваться над подругами или судачить о них. Но вот однажды вечером перед сном Лариса, словно потеряв свое женское чутье, совершила ошибку. Потушив свет и уже лежа с Фуадом в ночном мраке, Лариса, нежная, добрая, утомленная, вдруг ни с того ни с сего выпалила:
— Что ни говори, видит бог, Мачраил все же бессовестный человек. Пьет. А бедная Феня его измучилась с этими бабками, одна сына растит.
— Что сегодня с тобой? Ты же всегда этому жеребцу все прощала.
Но Лариса только провела рукой по волосам мужа.
— И Замират мне жалко. Слишком уж горько ей сейчас, бедняжке.
Фуад лежал неподвижно, но сразу насторожился.
— Ты же постоянно твердила, что она сама нарвалась на беду, — сказал он.
— Конечно нарвалась… Но она просто наивная дурочка. Безвинно погибла, как курица от слепоты. — Лариса тихонько засмеялась.
Вот тут Фуад, может быть, первый раз в жизни решил, что нужно схитрить ради того, чтобы узнать правду. Он тоже засмеялся, а потом как бы между прочим сказал:
— Не рассказывай мне, ради аллаха, сказки. Она сама хороша. Зачем мужчину дразнить? Самой на рожон лезть? Вот и добилась.
— Хочешь — верь, хочешь — нет, — разоткровенничалась Лариса, — но, в общем, она ни в чем не виновата. Я-то прекрасно это знаю.
И сердце Фуада сжалось словно от боли. «Ну нет, теперь ты мне всю правду расскажешь».
— Что ты там знаешь? Это дело двоих. — ■ И повернулся на другой бок: ему показалось, что жена даже во тьме может увидеть, как пылает его лицо.
— Да я все знаю. И могу рассказать. Что скрывать теперь, когда уже все позади.
— Да, что позади, того не вернешь, — глухим эхом откликнулся муж.
— Помнишь тот день на ферме, когда все это произошло?
— Это когда мы с Мачраилом сцепились? Припоминаю.
— Так вот, когда вы уехали с Хасбием, мы с ней вернулись в дом и стали посуду мыть. Тут Мачраил и усадил нас за стол. Давайте, мол, еще немножко выпьем в своей тесной компании. Ну, та, дурочка, и выпила. Он все до дна заставлял. Она и вина-то в рот не брала сроду. Ну, и опьянела.
— А ты?.. Ты-то что?
А мне что, я — сторона. Мне Мачраил подмигнул, уходи, мол, отсюда. Я и пошла за водой.
Лариса прижалась и нежно обняла горячее тело мужа, зашептала ему в самое ухо:
— Я ж это все из-за тебя. Я ж видела, как эта пигалица на тебя поглядывает. Да и ты на нее глаза пялил. А кто вас, мужиков, разберет? Я подумала, вдруг ты… Вот и свела их с Мачраилом. — Она откинулась на подушку и захихикала. — Так повязала, что и не разрубить.
Фуаду показалось, что руки, которые так нежно его обнимали, стали каменными. Они, горячие, словно обжигали его ледяным холодом. Он и сам еще не понимал всей правды, открывшейся ему в ту ночь. Как глубоко она потрясла его душу, как впервые по-настоящему он задумался о человеческой сущности Ларисы? А пока что он ощутил только одно — ему хотелось вырваться из этих каменных рук. Он сбросил их и резко сел на кровати. Зажег настольную лампу на тумбочке. Лариса сама удивилась чувству, которое охватило ее при взгляде на мужа. Словно она впервые его увидела. Куда девалась широкая, чисто ребяческая улыбка, ясный, открытый взгляд. Сейчас на нее смотрели злые, непрощающие глаза, рот был стиснут в незнакомую твердую линию.
— ■ Что с тобой? Что? — Она потянулась к нему.
Но Фуад резко, как еще никогда не делал, оттолкнул ее.
— Я все понял, — оказал он. — Именно этого я и боялся.
— Что? Что ты понял?
— Не хочу говорить. Такие вещи вслух-то произносить противно. Ты сама все знаешь не хуже меня.
И он, взяв одеяло и подушку, направился в соседнюю комнату. Лариса пыталась схватить его за отчужденно напрягшиеся плечи, пыталась плакать, в чем-то убеждать. Не попадая ногами в стоящие у кровати тапочки, она босиком бросилась за мужем. Но Фуад прямо перед ее лицом захлопнул дверь и щелкнул замком.
Оба не спали всю ночь. «Боже мой, — думала Лариса, — какая я дура! Неужели построенное с таким трудом здание моей жизни теперь рухнет? В чем же я просчиталась? Ах, не надо, не надо было болтать языком! Какая я дура… Ничего, — успокаивала она себя. — Услужу, уговорю, заласкаю. Но нет, — отвечало что-то ей из самых глубин души, — не простит, не забудет. Я же и вправду гадина. Что я наделала? А он святой, святой. Что ж делать? Как все исправить?»
«Боже мой, — думал Фуад, — как же я слеп, как был глуп! Не видел, не замечал, а может, не хотел видеть?.. Она же совсем лишена нравственности, соучастия, в конце концов, просто добра. Расчетливо погубила чистейшую, доверчивую девчонку. И из-за чего? Из-за того, что никому не верит — даже мне, даже себе. Нет, ради ласк и красивых слов нельзя прощать женщине ее человеческое убожество! Да и как я смогу принимать эти ласки?.. Она же убила, убила теперь все во мне!»
И утром, чуть свет, стараясь не разбудить родителей, он прихватил книги и ушел в гараж.
16
Альмажан по-прежнему не могла ходить. Летели месяцы, а она слабела, уже без помощи и приподняться было трудно. А сердце ее иногда сжималось от такой боли, словно чья-то безжалостная рука давила его с нечеловеческой жестокостью.
И как прежде — медсестры, уколы, страшные мысли о своей никчемности на земле…
Надо признаться, что и подруги навещали Альмажан все реже. К этому Альмажан тоже привыкла за долгие месяцы. О ней, конечно, не забывали, но ведь у каждого свои дела, свои радости и боли. Если раньше мать ее не могла отбиться от посетителей, боялась, чтобы дочке не стало хуже от бесконечных разговоров и девичьих шепотков, то теперь заглянет какая-нибудь подружка раз в два-три дня, посидит часок и бежит себе на работу, в клуб или на свидание.
А Альмажан от любого посетителя только и ждала, чтобы кто-нибудь заговорил или даже словечко сказал о Мачраиле.
Конечно, о нем она знала все. Часто в минуты особой горечи желала ему зла. Но, однако, дорогой читатель, любовь не спрашивает нас, кого выбрать, кого любить всю жизнь. Порой даже нельзя ответить, за что человек любит или любим. Порой любят недостойных и злых, глупых и некрасивых. Любви, видимо, помогает солнце: на кого его лучик упал, тот и освещен.
Правда и то, что чаще всего судьба не оставляет зло безнаказанным. У иного, кто хоть раз сделал подлость, бывает, уже и жизнь прошла, и сам он стал совсем другим, а вдруг что-то как рикошетом ударит по его судьбе, и все ломается, рушится.
Может быть, мы с тобой, дорогой читатель, еще увидим, как и Мачраила настигнет возмездие. Но пока он все еще беззаботен и даже бодр и до сих пор волочится за женщинами, а Альмажан все не может вырвать из своего сердца горькой любви. В ее душе чувства к Мачраилу пустили корни так глубоко, что не поддаются никакой логике.
Однажды Альмажан у дверей своей комнаты услышала незнакомый мальчишеский шепоток.
— Ты откуда? Ты чей? — спрашивала мать. Альмажан слышала в ее голосе неприятную тревогу. — Что тебе нужно?
Мальчишка лепечет что-то смущенно, невнятно. Но мать не унимается:
— Она больна. И тебе «беспокоить ее вовсе ни к чему.
И вдруг детский лепет обрел звонкость и силу:
— Мне надо к ней! Пожалуйста, тетя! Я буду вам помогать. Я ей книжки читать буду.
Альмажан не поняла, то ли смягчилась ее суровая мать, то ли мальчонка проскользнул под ее рукой, но вот — он уже в комнате. Влетел с разгону и сразу, словно споткнувшись, остановился возле дверей. Постоял секунду, потупясь, потом поднял на нее огромные темные глаза, прошептал:
— Я — Алик. Помните?.. Вы меня из Баксана вытащили.
Но он мог даже не говорить этих слов. Она сразу узнала его. С детского личика на нее глядели глаза Мачраила. Да и весь его облик напомнил ей о былом. Словно по мановению волшебной палочки, на мгновенья она покинула свою постылую постель. И вот уже вновь бежала по зеленому берегу шумящего, пенистого Баксана, ныряла в ледяную, обжигающую воду, потом хлопотала на берегу над бездыханным телом ребенка и сердито бросала красивому парию, протиснувшемуся к ней сквозь толпу:
— Не мешай. Разве не видишь, я спасаю его… Нужен врач. — И пыл этих глаз, словно увиденных впервые, жаром пронзает душу, согревает озябшее мокрое тело.
Алик стоял у дверей, но Альмажан его уже видела за пеленой воспоминаний. Вот она в саду своей сестры. Как только не устают ноги часами стоять с парнем под деревом! Неужели это она, Альмажан? Такая сильная, гибкая, отчаянная, подпрыгнув и громко смеясь, срывает яблоко?
— — Гляди-ка, какая птица, — говорит ей парень.
Запрокинув голову, с яблоком во рту, смотрит она сквозь пышные ветки туда, где вся, трепеща от радости и напряжения, поет маленькая пичужка.
— Какая красивая, — откусив яблоко, говорит Аль-мажан и вдруг чувствует на своих губах трепетные и властные губы Мачраила.
— Это она с тобой говорит, — шепчет парень. — Она принесет нам счастье, — и целует ее.
Альмажан вся сияет.
— А что она говорит? — Губы ее горят, глаза ничего не видят.
— Она говорит: Альмажан, не бойся Мачраила, верь, ему, он тебя любит, он ждет твоего поцелуя.
— — Ты и птичий язык знаешь, да?
— Я все языки знаю. Не обижай птичку. Сделай, что она просит. Ну, поцелуй меня. Птицы не говорят неправды.
Девушка смотрит в красивое лицо парня, а потом поднимает глаза вверх, на поющую птичку.
— Ой, сейчас она улетит!
— Тогда я буду петь тебе. Верь мне, Альмажан.
Они забыли о птице. Глядят друг на друга и медленно ходят по цветущему саду. Вдруг девушка говорит:
• — Знаешь, почему Алик упал в Баксан?
— Нет.
— Наверно, аллах его бросил, чтобы мы с тобой повстречались.
— Может быть, — кивает он, держа ее за руку…
И вот Алик стоит у дверей и не знает, куда глядеть, куда спрятать глаза, куда деть загорелые, в веснушках, руки. И Альмажан, словно очнувшись, смотрит на него. Он уже не малыш, которого она тянет за волосы сквозь тугие сильные волны. Он уже подросток, и уже видно, что станет таким же красивым, как его дядя. Но вдруг… таким же подлым?
Мысли Альмажан бегут как по кругу:
«Если бы я не вытащила его из воды, я бы не встретила Мачраила. И у меня была бы нормальная жизнь. Ах, лучше бы меня не было там на берегу. В прошлом же году потонул ребенок в разбушевавшемся Баксане. Чем этот лучше? И за что мне такое?.. Нет, нет, что это я?! — внутренне словно шарахается Альмажан от своих собственных мыслей. — Это аллах послал его мне. Как хорошо, что я вернула ему жизнь! Ведь больше я ничего хорошего не успела сделать. И может быть, он мне вместо сына подарен». Она поднимает руку и зовет его полушепотом:
— Иди сюда. Подойти сюда, Алик.
Он подходит к кровати. И Альмажан тихо и нежно обнимает его, чуть касаясь щекой тугой, прохладной щеки.
— Ты хочешь помочь? Тогда иди полей топольки, которые вон растут, под окнами, хорошо? Ведь их привез сюда ты…
На крыльце он живо гремит ведрами, идет за водой. Он и сам еще не осознает, что творится в, его душе. Но у него такое чувство, какое бывает, когда сильно набедокуришь, а тебя вдруг неожиданно и от всего сердца простят.
17
Акунцы были уверены, что Замират покинет село. Но она, родив мальчика, и не думала куда-либо уезжать. Похудевшая, повзрослевшая, но от этого, кажется, похорошевшая, опрятная и внешне спокойная, идет она каждое утро одной и той же дорогой в свой Дом культуры. А соседки, которые давно уже обо всем знают, выглядывают из окон и ворот. И летят ей вслед проклятья:
— Вот уж бесстыжая, так бесстыжая!
— В наше время таких по селу голыми провозили.
— И камнями забрасывали…
— Да. И камнями…
— Пусть аллах покарает ее за такой позор…
Замират, вся внутренне сжавшись, пунцовая, с полными слез глазами, идет, будто ничего не слышит, а сама себя уговаривает: «Терпи, терпи… Только не сорвись… Только спокойнее. Заслужила — получай…» И, уже подойдя к клубу, опрометью вбегает в здание и, горько плача, падает на диван в своей комнатке, причитая: «Я докажу… Я им всем докажу…»
А в доме старой Гуаши уставшая от переживаний Феня, которая тоже не сомневалась, что Замират уедет из села, стала вдруг опасаться: а что если она, чего доброго, ребенка к ним принесет? Всем случившимся, конечно, она была встревожена больше всех. Сплетницы проходу Фене не давали. И ни у одной язык не отсох, в сотый раз лезли к ней с «соболезнованиями»:
— А соперница-то твоя так в Акуне у нас и присохла… А ребеночек ее, говорят, ой как хорош!.. Да ты не горюй, Феня. Куда Мачраил денется от тебя.
— Да что говорить?! Ходит эта завклубом по улицам как ни в чем не бывало. Хоть бы голову платком прикрыла, а то еще волосы вон как диковинно крутит. Уж ей ли теперь прическами-то заниматься!
— Ой, Феня, смотри, будь осторожна. Неспроста она тут осталась. Может, надеется на Мачраила?
Эти думы Феню совсем согнули. Мало ей было истории с Альмажан, а теперь еще это. Да и в семье не все ладилось. Не очень-то складывались отношения с бабушкой Гуашой, отбивались от рук теперь уже двое детишек. Да, дорогой читатель, совсем недавно у Фени родилась дочь, маленькая Г'уаша, которую Мачраил,. вопреки желаниям жены, назвал так в честь своей бабки. «Ничего, — думала Феня. — Может, у дочери будет другая судьба». Работать приходилось не покладая рук. Помимо домашних дел Феня работала в медпункте да еще прирабатывала в больнице. Нужда заставила. Вконец отбившийся от семьи Мачраил не приносил в дом ни копейки. Хорошо еще, его мать Лили помогала, чем могла.
Теперь уже странным казалось Фене, что женщины так льнут к ее мужу. Ей, видевшей его и безобразно пьяным, и неряшливым, и разъяренным, он давно уже не волновал сердца. Впору было не Замират, а ей самой подаваться куда-нибудь из Акуна. Но кому она нужна, куда денешься с двумя малышами на руках?
Иной раз Феня даже думала: «Наверное, мне это кара господня, но за что нее, за что?»
Соседка, услужливая сплетница, однажды нашептала Фене, что вчера вечером видела, как Мачраил выходил из дома Замират. Сплетнице этой Феня делала очередной укол — радикулит замучил. Как только тетка не побоялась, что игла останется торчать у нее в мягком месте! И тут Феню как порвало — резко выдернув шприц и даже не скинув белого халата, она ринулась в клуб. Она так спешила, что не видела и не слышала встречных.
Замират стояла на сцене, окруженная ребятишками, и разучивала с ними детскую песню.
После того как всем стала известна история Мачраи-ла и Замират, некоторые родители перестали пускать своих детей на занятия кружков. «Чему может научить их эта женщина? Она и сама ничему не научилась в жизни. Так, грязь одна».
Но ты ведь знаешь сам, мой уважаемый читатель, что время лечит любые раны. Ребята рвались в клуб, и вот матери, поворчав немного, сменили гнев на милость, и ребятишки один за другим потянулись в клуб, опять стали посещать кружки.
На втором этаже (ведь это был уже не клуб, а Дом культуры, двухэтажный, с колоннами у входа) молодежь играла в шахматы, в шашки — проводился турнир.
С растрепавшимися волосами, в расстегнутом халате, с искаженным от гнева лицом Феня ворвалась в зал. Пока она бежала к сцене между рядами стульев, у нее было только одно желание: чтобы Замират испугалась и убежала, скрылась куда-нибудь. Но та повела себя странно. Она стояла, опустив свои хрупкие красивые руки, чего-то ждала. Ребятишки, окружавшие ее, сразу кинулись в стороны, словно стайка воробьев. С минуту соперницы молча стояли друг против друга, молча смотрели друг другу в глаза. И тут Феня, почувствовав, что ее приход сделался просто смешным, с криком отчаяния кинулась прямо на сцену.
— Ах ты… поганая! — всхлипывала она.: — Ты же хотела вместе со своим подзаборным убраться из Акуна! Не уехала по-хорошему, так я тебя выживу! Убирайся, уезжай куда хочешь! Чтоб и духу твоего не осталось! Я тебе покажу, как вертеть задом перед нашими мужиками.
Парни, игравшие в шахматы, слышали какие-то отдельные крики, но думали, что это идет репетиция. Только когда одна из испуганных девочек с криком: «Замират обижают!» — заскочила к ним в комнату, они бросились в зал.
Остановить Феню было непросто. У нее была истерика. Ее пытались увести со сцены, но она отбивалась, царапалась. «Уезжай… ненавижу… Пустите…» Но вот наконец кое-как удалось ее унять.
Она стояла растерзанная, обезумевшая, с разъяренным взглядом. Стояла и Замират, бледная как полотно, молчала, и только слезы крупными градинами катились по впалым щекам.
— Иди, Замират. Иди, смой слезы с лица, — ласково приобнял ее за плечи один из парней. — Я тебя провожу.
— Ее лицо теперь никогда не отмыть — это лицо дряни, — выдохнула Феня, — Недаром любой может обнять.
Но каждый из присутствующих думал только одно: «Обе, обе бедняги. Лучше бы Замират уехала из села! Нет, здесь ей не будет жизни. А то и вовсе поколотит ее эта шалая баба».
Замират же думала по-другому: «Именно здесь, где мне нанесли столько боли, где растоптали мое достоинство, я и должна остаться. Да что я сделала-то? Обворовала, убила кого, что ли? Нет, я должна доказать свое, вернуть уважение людей, отстоять себя. Человек не должен обращаться в бегство. К тому же бранные слова этой бедняги я, в общем-то, заслужила и должна принять эту кару…»
Пока все участники происшествия стояли на сцене, в зал, грохоча сапогами, вошли два милиционера. Кто-то успел сбегать в милицию.
— Что здесь случилось? Кто хулиганит?.. Кто пострадавший? — воскликнул мальчишеским голосом молодой паренек-милиционер и важно полез в планшет за бумагами. — • Протокол составлять будем.
— Судить вас придется, гражданочка, — сказал второй, постарше, обращаясь к Фене, и повернулся к Замират: — Сейчас же пойдем в милицию. Оскорбление при исполнении служебных обязанностей.
— Я не пойду, — тихо сказала Замират, и впервые губы ее дрогнули. — Я никуда не пойду: ни в милицию, ни в суд. — Она помолчала. — Я ее прощаю. Ничего она мне не сделала.
— Вы не имеете права прощать! — рассердился молоденький милиционер. — Если все начнут прощать, что нам останется делать?
— Все, что касается лично меня, я сама решаю, — устало махнула рукой Замират и повернулась к Фене. — А вам я могу сказать только одно — мне ваш Мачраил не нужен. Поймите. Если даже на свете он останется
* единственным мужчиной, я и то на него не взгляну. И запомните: ёсли вы ко мне еще раз подойдете, я тоже вспомню свои права, — и Замират медленно ушла за кулисы, стараясь как можно тверже ступать каблуками новеньких туфель.
Новый председатель Хасбий быстро привык к своему положению. Несмотря на свои короткие пальцы, он цепко ухватился за колхозные вожжи.
Неплохо зарекомендовал себя в районе, хотя не так уж много времени посвящал служебным делам. Он был угодлив, и это ему помогало: где надо — он мог проявить принципиальность, где надо — начисто ее забыть. «Я хозяин своего слова, — порой шутил он дома с дочерью и женой. — Хочу — даю, хочу — беру».
Фуад продолжал работать у него шофером. Незаметно для себя исподволь вникал во все дела колхоза. Часто присутствовал при деловых разговорах на фермах, на полях, а порой даже Хасбий вообще взваливал на парня то, что должен был делать сам. Сперва Фуад злился: «Что я ему, мальчик на побегушках или его заместитель?» Но потом он даже с интересом выполнял разные служебные поручения: общество Хасбия неожиданно оказалось для парня хорошей школой во всех сельскохозяйственных делах.
Хасбий теперь уже понял, что шофер его не из простачков, которых можно посвящать в свои рискованные махинации.
Свои сомнительные делишки Хасбий старался проворачивать сам. Фуад, толковый, смекалистый, был нужен ему в другом… По делам сельским, колхозным ленивец все чаще и чаще гонял своего шофера. Съезди, мол, на кошару и скажи то-то и то-то, слетай на ферму и при себе заставь их сделать так-то и так-то…
Фуад все больше и больше начинал разбираться в колхозных делах и еще и еще раз убеждался, что выбор он сделал верный, — сельское хозяйство очень интересует его. И он решил остаться у Хасбия, пока не получит диплома. Но работать с ним становилось все труднее. Фуад постоянно пребывал в каком-то напряжении. Словно что-то липкое и грязное, «хасбиево», обволакивало его, Фуада, душу.
— Нет, нет, завтра же подам заявление об уходе, — часто твердил он себе. — Получается, будто и я принимаю участие в его делишках. Ну ладно, еще неделю, и все, — повторял назавтра. — Уйду на ферму, сяду на «газик».
Однако Фуада задерживал здесь не только интерес к колхозным делам, но и ощущение того, что он все боль-
ше и больше нужен Акуну. Массу дел взваливал Хасбий на его плечи. Фуаду даже стало казаться: уйди он — и все пойдет прахом, многое налаженное развалится. Фуад словно чувствовал себя не вправе оставить земляков на произвол Хасбия. Да и земляки видели в нем хоть и не очень большую, но все же защиту, часто стали к нему обращаться за помощью, за советом, все больше тянулись к справедливому пареньку.
Этот год для Фуада был особенно трудным. Он разошелся с Ларисой. Та ночь, когда она неосторожно ■открылась ему, решила многое и была для них последней супружеской ночью. Прошлое всплыло в памяти и осветилось ярким светом, по-новому заставило его взглянуть на жизнь и принять решение: с этой женщиной идти по жизни он не сможет… Разве о такой жене он мечтал? Конечно же нет.
Впрочем, дорогой читатель, есть ли на свете люди, которые мечтают о плохой жене? Естественно, нет. А есть ли люди, которые всю жизнь живут с подобными женами? О-о! И отвечать на этот вопрос не стану. Тебе самому ответ прекрасно известен.
Но Фуад когда-то по-настоящему любил Ларису. В недолгой совместной жизни как он ласкал ее, согревал, стремился исполнить все ее желания, чтобы она была самой счастливой женщиной на земле. Но что из этого вышло? После той ночи, придя с работы, он сказал:
— Хочешь — живи здесь, у нас, хочешь — уходи, но я тебе больше не муж.
Взяв из гардероба свои рубашки, Фуад стремительно вышел из спальни и прикрыл за собою дверь.
Лариса пыталась вернуть былое, льстила, плакала, уговаривала его. Так прошел месяц. Но Фуад был неумолим, а она устала. Уже проходила словно чужая мимо родственников мужа, через их комнаты, стала замкнутая, чужая, перестала на кухне помогать свекрови.
И вот однажды появился ее брат, погрузил на машину ее вещи и увез назад в дом матери. Не оставлять же сестру на посмешище людям проводить ночи в пустой спальне.
Лариса теперь, конечно, неуемно болтала о том, что она бросила Фуада. Даже пускала по Акуну всякие небылицы о нем. Говорила и о Замират:
— Родила неизвестно от кого. А теперь на моего глаз положила. Но я за мужика драться не стану. Пусть забирает, если ей нужен такой рохля.
Ларисе и верили и не верили, всегда ведь найдется кто-то, кто готов поверить любой болтовне. На самом деле Фуад и Замират не виделись давным-давно. Только однажды Фуад подошел к ней, спросил, как живет. Но всегда вежливая Замират неожиданно метнула на него свирепый взгляд и резко ответила:
— Ты у Ларисы спроси, как я теперь живу. Никогда зла никому не желала, но пусть счастье обойдет стороной ее дом. Пусть аллах ей отплатит за мои слезы.
19
Как-то в клубе проходила встреча сельских руководителей района.
Замират, которая продолжала увлеченно работать,, приготовила Дом культуры к встрече гостей. Все было празднично, радостно — транспаранты, плакаты, цветы. После окончания совещания в буфете накрыли столы, и гости остались посидеть, потолковать в неофициальной обстановке.
Во всеобщей сутолоке к Замират пробрался Хасбий.
— Ну что, красавица моя, — сказал он. — Как живется? Ты такая у нас молодец. Если бы не ты, вышло бы сегодня у нас обыкновенное совещание, а теперь — праздник. Такого работника аллах не каждому посылает. Чем помочь тебе, подскажи? Я все могу, ты ведь знаешь.
Замират вскинула на председателя свои огромные глаза, мелькнула мысль: «А что, если сейчас обра
титься к нему с просьбой?»
— Мне есть о чем попросить вас, — тихо сказала она. — Может, вы выделите мне участок земли и поможете дом построить? А то мотаюсь с ребенком по чужим квартирам.
Хасбий посмотрел на нее испытующе. Неужели девчонка решила остаться здесь? Породниться с землей, с Акуном? А сам засмеялся:
— И только-то? Что ж тянешь с этим? Ладно. Приходи, потолкуем о твоем райском уголочке, — и снисходительно погладил по плечу.
«Нет. Все-таки не такой он бездушный, как говорят, — думала Замират, возвращаясь домой, — Может, правда поможет».
Действительно, не прошло и недели, как участок для Замират был выделен. Очень хороший участок. Колхоз выделил и стройматериалы. Приехали ее сестра с мужем, приехали и сестры матеры. Помогли и ребята, активисты Дома культуры. И вскоре поднялся чуть
поодаль от центра села небольшой, двухкомнатный, но уютный, а главное — свой собственный домик. Замират была счастлива и понемножечку, как говорят, оживала, вставала на ноги. Ее сынишка Аслан оказался на редкость здоровым, забавным ребенком, он прекрасно чувствовал себя в яслях, приносил материнскому сердцу нежную, светлую радость.
Конечно, дорогбй читатель, Хасбий не собирался даром оказывать заведующей клубом такую великую услугу. Но в то время, пока строился дом, да и позже, ему -было не до того. Накатили неотложные дела, которые и занимали теперь его изворотливую голову.
А началось все вот с чего. Во дворе склада лежали яркие оранжевые груды собранной кукурузы. Пошли проливные дожди. Но дела захлестывали, машин не хватало. На просьбы завскладом найти помещение Хасбий только отмахивался — еще успеется, и вот о кукурузе как будто бы все позабыли. Хватились только тогда, когда кукуруза уже подгнила и все собранное пришло в негодность.
Для колхоза — событие страшное. Что делать? Хасбий нервничал, искал выход. Но тут надо сказать, что у Хасбия были в колхозе «верные» люди, те, кого он выручал, «вытаскивал» из разных скверных историй, надеясь, конечно, что и они когда-нибудь его выручат. Сейчас он собрал кое-кого в своем кабинете. Они совещались, прикидывали и так и этак и наконец, чтобы скрыть дело, решили той же ночью тайком свезти гниль к реке, утопить в молчаливых волнах Баксана. Вода все скроет, а те, кого Хасбий крепко держит в руках, — не из болтливых. Но как быть с районным начальством? Со сводками? Ведь о кукурузе-то спросят? Хватятся?
В Акуне было несколько ферм. Было несколько и заведующих. Но ни к одному из них Хасбий не смел бы обратиться с рискованной просьбой.
И вдруг Хасбия осенило: «Мачраил! Вот тот человек, которому, во-первых, на все наплевать, а во-вторых, он и так чуть держится на своем месте, стал спиваться. Стоит припугнуть его немного, и он все для меня сделает».
И оказался прав. Поладили они быстро. Мачраил и спорить не стал, словно сам уверовал в то, что скормил своим коровам эту вдруг исчезнувшую кукурузу. Лишь несколько замялся, когда Хасбий протянул ему документ и велел подписать. И он нехотя, с оговорками, все-таки поставил свою неуверенную подпись.
— А в тюрьму не угожу? — только и спросил, уже откладывая ручку и возвращая листок.
— Со мной не пропадешь, — засмеялся довольный Хасбий, — Без меня и дня не проживешь. Небось, помнишь, как по трое суток на ферму не являлся, пьяный в канаве спал? Я же глаза закрыл… Людей дело должно связывать.
Вот так и связало их общее «дело». Теперь Мачраил совсем распустился. Все стало ему нипочем. Как говорится, «сам черт не брат».
Председателю уже и в районе порой говорили:
— Что ты держишь завфермой этого пьяницу? Если коров не пропьет, так переморит.
И действительно, Мачраил стал не только прогуливать, он приходил на ферму пьяный, приставал к дев-чатам-дояркам, ругался, а однажды ударил кнутом пастуха. На него стали жаловаться.
Хасбий чувствовал себя скверно. Он понял, что неверно выбрал сообщника. После работы оставался один в своем кабинете и думал, как справиться с Мач-раилом, как его урезонить? Ведь если что будет не так, Мачраил не побоится пустить в ход угрозы. Припомнит списанную кукурузу да, пожалуй, еще припугнет.
— Ну, ладно, — поднялся Хасбий и прошелся по комнате. За окном садилось огненное солнце, отражаясь в полировке стола. — Если все время думать, дальше и жить не-захочется. — Он высунулся в окно и позвал Фуада, сидящего в машине: — Слушай, Фуад, у меня появилось срочное дело к нашей завклубом. Сгоняй-ка быстренько к ней да привези ее сюда.
Фуад завел машину. Председатель остался сидеть в своем кабинете. И в голове каждого в этот момент проносились вереницы мыслей, и каждый думал о Замират.
Фуад ехал выполнять поручение председателя, но ему было все это не по душе. Нет, не зря Хасбий после работы вызывает к себе завклубом. Что, он не мог поговорить с ней днем или позвонить по телефону? Неужели же он задумал играть с ней в те же игры, в какие играл с городскими девчонками? Фуада даже передернуло при этой мысли. Не зная, что предпринять, как вмешаться, он почему-то злился на Замират: сама дала повод так относиться к себе, теперь немудрено, что и для Хасбия может стать очередной игрушкой. Но на этот раз он вознамерился оказать ей, если потребуется, помощь.
Думал, сидя в своем кабинете, о Замират и Хасбий. Как похорошела она за последнее время! Как расцвела! И как одинока! Если он предложит ей свое покровительство, свою подмогу, то, по существу, только сделает доброе дело: не годится молодой, красивой женщине не иметь заступника.
Наконец на улице притормозила машина. И скоро, поднявшись по ступенькам правления, в кабинет вошла Замират. Секретаршу Хасбий давно уже отпустил домой. Теперь он в окно крикнул Фуаду, что и тот свободен до завтрашнего утра.
Фуад медлил. Но Замират еще в машине резко сказала ему:
— Не обязательно было ездить за мной. Я и сама бы дошла.
Фуад уходил медленно. Не торчать же ему, в самом деле, под окнами конторы на смех честному люду и этой девчонке, которая бог знает что вообразить может.
— Проходи, Замират, садись, милая, — приветствовал гостью Хасбий. — Только подожди минуту, мне по телефону поговорить надо. Девушка, — сказала он телефонистке в трубку, — дай-ка мне партком, милая. — Хасбий сделал озабоченный вид.
«Все-То у него милые», — - подумала Замират, присаживаясь не в кресло возле председательского стола, на которое; указал Хасбий, а на стул у двери.
— Что, не отвечает партком? Тогда, милая, найди где бы он ни был, нашего секретаря, и пусть тотчас же позвонит мне.,. Да, на работу. Я еще здесь побуду, дел много. — Повесил трубку и внимательно оглядел Замират. — Ну, как дела, милая, как живешь? — Хасбий был в некотором замешательстве и, стараясь скрыть смущение, перебирал на столе какие-то явно не нужные ему сейчас бумаги. Он даже покраснел немного, но это быдо трудно заметить, так как щеки его были всегда» красны и напоминали помидор.
— Все хорошо, участок прекрасный, дай вам аллах здоровья, — как-то по-старушечьи ответила Замират. — Сказали, у вас ко мне дело — вот я и пришла. Хотя мне уже в ясли пора за сыном.
— Да, звал, звал… — тянул Хасбий. — Видал, видал,, какой хороший дом ты себе поставила.
— Это благодаря вам. Спасибо за ссуду и за участок.
— Но надо бы к карнизу доски приколотить, чтобы ветер там не гулял. Это, конечно, мелочь. Но все-таки сделать надо… Доски тебе нужны? Впрочем, о чем ты меня ни попросишь, я ни в чем не откажу.
— Пусть будет вам добро за заботу. — Замират не знала, что и говорить. — Есть у меня доски, вот зять, приедет и приколотит.
— Ай-яй-яй. Зачем же из-за такой мелочи зятя тревожить?! — заговорил Хасбий, но в это время зазвонил телефон, и он схватил своей короткой цепкой рукой трубку. — Алло! Никак тебя найти весь день не мог. Я насчет этого алкоголика, Жемухова Мачраила. Ты знаешь, он там уж плеть в ход пускать начал, с пастухом сцепился. Его не только с фермы, его из села гнать давно пора. Сколько мы с ним нянчимся… А я уже решил, уволить надо, верно?..
Замират насторожилась. Не понимала: почему, едва она вошла в кабинет, председатель принялся разыскивать парторга и говорить с ним о Мачраиле? И зачем; при ней вести этот разговор? Да и вообще, неужто он пригласил ее потому, что на ее карнизе нет досок? Встать бы сейчас и выскользнуть из кабинета…
Но Хасбий положил трубку и сразу, изменив тон и выражение лица, резко повернулся к Замират:
— Вот так, милая. Лодырей и подонков нельзя разводить. И хочешь быть для всех добрым, отцом родным — да не дают. Кто пьет, кто драку затевает…
Хасбий смотрел на Замират все более смело. Ей стало неловко под этим взглядом.
— Так я пойду, товарищ председатель? — Замират встала. — Сына из яслей брать надо.
— Вот уж и вскочила. Не убегут от тебя дела.. Посиди, поговори со стариком.
Замират понимала, что. надо бы разуверить Хасбия в том, что он старик, на то и рассчитана реплика, но страх и смущенье охватили ее.
— Нет. Я спешу.
— Еще успеешь в ясли. Там всегда дежурная есть. — Хасбий отпер сейф, достал из него коньяк, две хрустальные рюмки, коробку шоколадных конфет. Все — это
он расставил на столе, небрежно сдвинув на край стола все бумаги, которые только что «усердно» изучал.
— Отпустите меня, — почти умоляюще сказала За-мират, отходя к двери.
— Э-э, Замират, Замират! Ничего ты не знаешь о том, как устроен мир. Знаешь, сколько таскали меня за тот клочок земли, что я тебе подарил? Не знаешь. И ссуду давать не хотели. Говорили, что ты не наша,, приезжая…
«Как это „подарил“? Земля ведь колхозная», — подумала Замират, но вслух сказала:
— Отпустите меня, я очень спешу.
— Понемногу научишься жизни. Этому учатся не сразу. А для начала выпей со мной рюмочку коньяка.
— Нет, нет, я не пью!
— Как не пьешь? А вот говорят же люди, что ты как-то очень сильно выпила? Было такое, а?
У Замират перехватило дыханье. Так вот, значит, что?! Ее опасения подтверждались.
— Ты меня попросила — я тебе помог. Тебя же я в жизни еще ни о чем не просил… — Он вылез из-за стола и, подойдя к Замират, протянул ей рюмку. — Не хочешь меня удостоить, сесть за стол — выпей стоя.
— Пейте ¡без меня.
— Один я не пью.
Она растерялась.
— Ну и трусиха же ты. Значит, я недостоин того,, чтобы ты со мной рюмку выпила? Уйдешь, уйдешь сейчас, не будешь ночевать здесь. — Он подумал, прищурился: — А если у тебя отберут землю, на которой стоит твой дом?
Она отвернулась:
— Что ж, значит, мыкаться — мне на роду написано.
— На роду написано то, что сам человек напишет!
Негодование закипало в душе Замират. Сразу вспомнились все обиды, которые пережила она здесь, в Акуне. Неужели и этот уверенный в себе председатель может над ней измываться?
Увидев выражение ее лица, Хасбий вдруг рассмеялся:
— Не пугайся. Не пугайся, милая. Никто тебя не обидит. Но пойми и запомни, что на свете не все так просто, как ты себе представляешь.
— Я это уже поняла, — с трудом ответила Замират.
— Тогда выпей со мной. Не гнушайся! — руки Хас-бия начали так дрожать, что коньяк чуть выплеснулся из рюмки. Поставил ее на стул и потянулся к Замират. Она бросилась к двери и только тут поняла, что она заперта. Тогда она рванула стул, рюмка упала, разбилась.
— Не подходите! Вы что, с ума сошли!
— Замират, — тихо забормотал Хасбий, — ну, ударь, ударь. Ты ведь не знаешь, что я люблю те! бя. И давно. люблю. Я оставлю семью, женюсь. Только не гони.
Замират устало опустила стул, сказала горько:
— Эх вы!.. Сейчас же откройте дверь.
— • Ну что ты, милая? Перестань, успокойся. — И он опять шагнул к ней.
— Я закричу!
— Не закричишь, — глаза его зло сощурились. — А что люди скажут?.. Сама знаешь, что не закричишь.
В голове Замират лихорадочно проносились мысли. «Ах, — думала она. — Ну и подлец. Ловко же завлек сюда хитростью, видно, хитростью надо и выбираться».
Она сама удивилась, когда почувствовала, что губы ее шевельнула почти ласковая улыбка. Она сказала:
— Хасбий, ну кто же так делает? Вы, видно, привыкли к другим женщинам. Нельзя же зверем бросаться на меня в этих стенах. Разве могу я поверить, что вы хоть чуть-чуть меня любите?
И в этот момент раздался в двери оглушительный грохот. Казалось, целая, рота солдат берет приступом дом неприятеля. Хасбий заметался по кабинету, не зная, что делать, как выйти из щекотливого положения.
— Хасбий! Открой! Открой немедленно!
У председателя сразу же отлегло от сердца, когда он узнал голос Фуада. А Замират, наоборот, вся сжалась: что подумает тот, увидя рюмки, расстегнутый ворот председательской рубахи, красное его лицо.
Хасбий не открывал, а Фуад, который все же вернулся в дурном предчувствии, поскольку оно безудержно гнало его обратно, навалясь покрепче на дверь плечом, распахнул ее настежь.
Что далась ему эта девчонка? Почему уже второй раз вмешивался он в ее жизнь, и в самые трудные для нее минуты? На этот вопрос Фуад и сам не смог бы ответить. Просто он не смел оставлять Замират в беде.
Когда он влетел в кабинет, Хасбий, пытавшийся придержать дверь своим толстым телом, отскочил, словно его ударило током, стал бормотать что-то про совещание в клубе, про связь с молодежью…
Но Фуад не слушал его. Он смотрел на Замират — полные горя глаза, подавленный вид. Нет, это не его Лариса. Нет, и сегодня Замират была виновата лишь в том, что еще более похорошела, что так красивы ее волосы и тонка талия.
Замират проскользнула мимо мужчин на улицу как безумная. Вслед ей, покачав седой головой, смотрел с крылечка старик сторож.
Она бежала домой задыхаясь. Как вихрь влетела в дом соседки, которая обычно забирала из яслей Аслана вместе со своим малышом, если Замират задерживалась на работе. Прижала к себе упругое тельце сына, словно обрела его вновь после долгой разлуки, и, постояв минуту, пошла к себе в дом. У нее не было сил ни ужинать, ни стелить постель. Наскоро уложив Аслана, она, как была, не раздеваясь, рухнула на кровать. Ей хотелось заснуть сейчас же. Однако — нет. Мысли не отпускали, роились в мозгу, как пчелы, или, скорее, осы, потому что были болезненны, злы и бесплодны. «Сколько же, сколько бед может выпасть на одинокую женщину? Неужели же председатель травит меня, собирается отнять дом, выжить из села? И о Мачраиле он нарочно завел разговор, чтобы я поняла, как он умеет расправляться с неугодными ему людьми. Как, как без унижения прожить одинокой женщине?!»
Заснула Замират перед рассветом, когда уже заголубело окно. Это был короткий, тяжелый сон.
20
Мачраила сняли с работы. Но об этом никто не жалел. «Поделом», — говорили. Дальше и впрямь от него ждать было нечего. Но шли дни, и вот Феня зашла в правление. Комкая в руках платок, сидя в конторе перед зоотехником, тихо просила:
— У нас семья большая. Две (бабки, двое детей, устройте его на какую-нибудь работу, хотя бы кучером или скотником. Мне обещали. Но почему-то неожиданно отказали.
— Мы долго с ним возились. И не просите за него больше, — резко сказал он и, не прощаясь, ушел из конторы, только дверь хлопнула.
Из дома Жемуховых окончательно ушли даже маленькие радости. Семья еле-еле сводила концы с концами. Жили на небольшую зарплату Фени и скромные заработки матери Мачраила.
Обе женщины не раз пытались хоть как-то вразумить Мачраила и заставить работать. Мягкая, бессловесная Лили смотрела на сына укоризненными глазами и без конца вздыхала, перешивая и штопая рубашонки ребят. Феня же, доведенная до отчаяния, уже кричала на мужа, часто ругалась со всеми, кто попадался ей под руку. Она становилась злой и резкой, уже не было желания следить за собой, и, кажется, постарела чуть ли не на десять лет… Одна только старая Гуаша не упрекала своего любимца и готова была вцепиться в волосы каждому, кто на него нападал.
Но Феня давно перестала быть той робкой девушкой, которая трепетала от каждого слова грозной старухи. Теперь стоило той лишь слово сказать, как Феня тут же дерзила.
А Гуаша говорила:
— Мачраил — мужчина. Как хочет, пусть так и живет. И никто не должен его попрекать в его доме. Он хороший охотник, он лучший наездник в селе. Чего тебе еще надо?
— Мне детей кормить надо! Юбку надо — на работу ходить! — сразу же вызывающе. отвечала Феня. — Ты и не заметила, старая, что времена давно изменились и мужчин теперь ценят за другие дела, чем в твои годы.
Так и шла в доме перебранка с утра до вечера. Сам же Мачраил словно и не слышал всех слов.
Он подолгу прямо в одежде валялся на постели или бродил по двору мрачный, небритый, волоча за ручонку дочку. Его некогда прекрасные кудри спутались и поредели, глаза выцвели, как у старика. Денег у него теперь не было, и он стал потихоньку таскать из сумочки Фени мелочь. Спешил в магазин и там, найдя собутыльников, пропивал и это. Но даже такие «вылазки» случались все реже и реже, словно и попойки опостылели Мачраилу. Часто сидел он на пороге. дома, обхватив свою некогда очень красивую голову, и о чем-то думал.
Я открою тебе, дорогой читатель, что думал Мачраил об Альмажан. Ему теперь стало казаться, что, не женись он на Фене, вся его жизнь пошла бы по-другому. Была же, была большая любовь. А теперь все исковеркано, все опротивело, и в душе одна пустота. Он мысленно проклинал Феню за то, что она когда-то уходила от него, но потом вернулась. А зачем, зачем она нужна в этом доме, когда сердце к ней не лежит? Он укорял и Альмажан за то, что она не боролась с судьбой, не пыталась позвать его.
Порой Мачраил вспоминал Замират. По его мнению, она давно бы могла подумать не только о себе и ребенке, но и о человеке, который теперь навеки будет незримо присутствовать в ее доме. И ведь не показала ему Аслана! Сына! Даже не подумала о том, как его отцу плохо. Словом, всех Мачраил был готов винить в своих бедах, всех, кроме одного человека, и человеком этим был он сам.
Мачраил был далек от мысли, что над ним и домом его гнетуще повисла беда. А, как говорится, пришла беда — отворяй ворота.
В то утро день начинался, как и все дни. Феня на скорую руку приготовила завтрак и убежала в больницу, Гуаша — слаба, слаба она стала- — еще недавно крепкая старуха, лежала, не поднимаясь, в постели. Старая Лили убирала в доме, а Мачраил, как всегда, сидел на ступеньках, подставляя «солнцу то одну, то другую щеку.
— Дочка, — позвала Гуаша Лили, — сходила бы ты в сельмаг, принесла бы мне бутылочку этой бурлящей воды, минеральной. А то внутри так и жжет. Что-то плохо мне.
— Опять сиднем сидишь? — проходя, бросила Лили сыну. — От дум голова может лопнуть, — И направилась в магазин, перешагнув через вытянутые ноги Мачраила. Тот даже не шевельнулся, не «убрал ног, не глянул вслед матери. Когда Лили скрылась, он позвал сынишку и стал играть с ним в куличики, словно это и было теперь самым подходящим занятием для бывшего джигита.
— Мальчик мой, — услышал Мачраил из дома слабый голос старухи, — подойди ко мне, пока никого нет.
Гуаша была единственным человеком на свете, которого Мачраил еще слушался, да и то скорее не потому, что та была старшей в роду, а потому, что она ничего от него не хотела, ни в чем не упрекала, а принимала безоговорочно, со всеми его достоинствами и недостатками.
— Сядь со мной, мальчик, — попросила старуха. — -Что-то мне страшно.
Мачраил покорно присел на край кровати.
— Помирать мне пора уж, старой, вот что, сынок. Сон сегодня видела — зовут меня.
— Кто зовет? Что такое говоришь, нана?
— Да, сынок. Нынче на рассвете привиделся мне твой отец. Будто стоит у ворот мужчина в черной бурке и зовет нас с Лили. Будто и не похож он на твоего отца, а я все равно знаю, что это он. Мы выскочили, а он и говорит: «Что не приходите повидаться? Думаете, на том свете я уже забыл вас?» Ох, не к добру этот сон. Видно, скоро в могилу ложиться.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.