
Бесплатный фрагмент - 36,6. Температура детства
Тридцать шесть и шесть
Все маленькие дети время от времени чем-нибудь болеют, и их родители из-за этого сильно огорчаются. Потом дети становятся старше и даже совсем взрослыми, но все равно иногда они чем-нибудь болеют, и их родители по — прежнему, огорчаются. Правда, сейчас болеть — одно удовольствие: столько всяких волшебных таблеток и микстур, и все такие красивые и вкусные — так бы и питался ими вместо гречневой каши. Вас, например, когда-нибудь лечили горячим молоком с маслом и содой? Нет? Тогда лучше соглашайтесь на сироп от кашля.
В любом деле есть одна самая важная вещь. Когда болеешь, самое главное — это измерять температуру. Самая-самая нормальная температура — тридцать шесть и шесть. Это все знают.
А вот если у тебя тридцать семь с хвостиком, то придется еще пару дней дома полежать, пока температура не станет нормальной.
Прежде чем поставить мне градусник, мама всегда проверяет мой лоб сперва рукой, а потом губами. Рука у мамы прохладная, а губы теплые и это очень приятно, особенно когда у тебя температура. Теперь мама берет термометр и делает резкое движение рукой. На секунду мне кажется, что мама сейчас разобьет эту красивую стеклянную трубочку, но у мамы всегда все очень ловко получается.
Она просто стряхивает термометр, чтобы столбик ртути стал покороче. Вообще, это жутко интересно самому стряхивать термометр. Мне до сих пор нравится.
Измерять температуру никто не боится, потому что это совсем не больно и не страшно — не то, что укол или анализ крови. Нужно только зажать градусник подмышкой и полежать тихонько минут десять. Это только кажется, что время тянется слишком долго. Чтобы оно бежало быстрее, можно считать. В одной минуте у нас шестьдесят секунд. Стало быть, десять минут это шестьсот секунд. Правильно? Если чуть-чуть схитрить, можно считать десятками: «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, pаз — два — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — двадцать» и так далее до шестисот. Выходит всего-навсего шестьдесят десятков.
Пока болеешь, можно много чего пересчитать. Можно считать, сколько раз откроются двери лифта или хлопнет люк мусоропровода, еще можно считать полоски на обоях или трещинки на потолке, особенно если ремонт давно не делали.
Но лучше всего, когда папа читает тебе вслух интересную книжку или рассказывает какую-нибудь историю. Мамы тоже хорошо читают, просто у них и без этого хлопот хватает, когда дети болеют. Так что пусть папы вам книжки читают. У них это здорово получается.
— Ну-ка, посмотрим, что ты там намерил, — мамин голос звучит как — будто издалека. Мама подносит градусник к глазам, почему-то долго его рассматривает, потом вздыхает.
— Сколько? — спрашивает папа.
— Тридцать семь и восемь, — отвечает мама шепотом.
— Сколько? — спрашивает бабушка с кухни уже погромче.
— Тридцать семь и восемь, — отвечает папа.
— Сколько? — переспрашивает дедушка еще громче. Дедушка плохо слышит, поэтому бабушка кричит: «Тридцать восемь!». Во-первых, так короче, а во-вторых, я давно заметил, что взрослые любят все преувеличивать.
Например, мама берет мой дневник и говорит папе: «Полюбуйся!». Если бы мама хотела про меня что-нибудь хорошее папе рассказать, она бы никогда не сказала «полюбуйся». А так сразу ясно, что ничего хорошего.
— Полюбуйся на своего сына! Одни двойки на этой неделе!
Ну, зачем говорить, что одни двойки? Двоек было всего три: две по алгебре и одна по английскому, причем по алгебре обе двойки на одном уроке, так что это почти не в счет. И ведь что обидно: там, в дневнике еще пятерка была по рисованию и четверка за диктант по русскому, так об этом мама ни слова не сказала!
Или вот еще. В десять вечера мама обязательно скажет: «Пора спать, уже одиннадцатый час!». А если уже половина одиннадцатого, то мама обязательно скажет: «Скоро одиннадцать — пора спать!».
Взрослых вообще иногда трудно понять. Когда у меня появился младший брат, мне было четыре года, и я сразу стал большим мальчиком. А до этого мне все время говорили, что я еще маленький.

Взятие Измаила
Мама говорит, что в детстве я очень плохо ел. Сейчас, глядя на меня, в это трудно поверить.
Я думаю, мама опять все преувеличивает. Наверное, я просто не любил манную кашу. Обидно, когда вокруг столько всего вкусного, а тебя кормят манной кашей. В детском саду каша еще ничего: жидкая и очень сладкая. Когда она остывает, то покрывается плёночкой вроде шкурки. Снял шкурку, а там уже и есть нечего. У папы тоже манная каша хорошо получалась, с крупными комками. Мама очень сердилась, а мне нравилось, потому что комки это было как раз самое вкусное.
Мама варила кашу со знанием дела: густую, наваристую — не отвертишься.
Я сидел за столом и с тоской глядел на большую тарелку манной каши, которую мне предстояло съесть, а мама строго смотрела на меня.
— Погоди! — раздался голос дяди Бори. Дядя Боря — муж маминой сестры. Он у нас еще совсем недавно.
— Ну что, густая? — В ответ я вздохнул.
— То, что надо! — обрадовался дядя Боря, — будем брать Измаил.
Измаил — это такая турецкая крепость была. Она считалась неприступной, а Суворов её взял. Такое часто случается с неприступными крепостями. Но это я сейчас такой умный, а тогда я думал, что Измаил находится где-то в Измайлово. Там наши соседи отдельную квартиру получили.
— Варенье есть? — деловито спросил дядя Боря.
— Вот, повидло сливовое. — Мама подвинула банку.
— Повидло не годится, — строго сказал дядя Боря, — нужно варенье и лучше всего клубничное.
— Клубничного нет, есть вишнёвое, — с легким оттенком вины в голосе сказала мама.
— Ну ладно, сойдет и вишнёвое, — милостиво согласился дядя Боря. Он выловил из банки вишенку и аккуратно поместил ее в центр моей тарелки.
— Пожалуй, маловато для Измаила. — Дядя выложил рядом с первой вишенкой еще две, а потом водрузил сверху третью. Получилась пирамидка.
— Ну вот, это — Измаил, а ты — Суворов. — С этими словами дядя Боря протянул мне ложку. — Наша задача — пробраться в крепость противника и уничтожить ее. Учти, крепость окружена манным, то есть минным полем.
— Манным — обманным, — буркнул я на всякий случай.
— Его можно обезвредить, — продолжал дядя, игнорируя мой выпад, — только путём полного съедения.
— А во времена Суворова были мины? — спросила мама.
— Понятия не имею, — признался дядя. — Это не важно. Важно, что повсюду расставлены вражеские дозоры. — Дядя Боря щедро разбросал по тарелке десятка полтора вишенок. — Они тоже должны быть полностью уничтожены. — Дядя многозначительно посмотрел на меня.
— Обязательно все? — робко спросила мама.
— Все, — отрезал дядя Боря, — время пошло.
Оказалось, что это очень увлекательно — окружать противника, а затем уничтожать островки сопротивления из манной каши с вишенками посередине.
— За взятие Измаила, — торжественно произнес дядя Боря, — присваиваю тебе звание капитана русской армии.
С тех пор я неоднократно брал Измаил и с клубничным вареньем, и с малиновым и с черничным, и с алычовым, и с брусничным, и с абрикосовым и даже со сливовым повидлом.
И знаете, что я вам скажу? Мамина каша — самая вкусная!
Внук маршала
Когда я был маленьким, мои бабушка и дедушка жили в Саратове, на Волге. То есть одни бабушка и дедушка жили с нами в Москве, а другие — в Саратове, и мы каждое лето ездили к ним в гости. Однажды папа пришел с работы с какими-то причудливыми бумажками в руках.
— Вот! Билеты в Саратов! В субботу едем.
Наши окна выходят прямо на Павелецкий вокзал. Очень удобно, жаль только на такси подъехать нельзя: слишком близко. Приходится с вещами идти пешком. Вещей почему-то всегда очень много. Папа несет два чемодана, мама несет одну большую сумку и одну поменьше, а я ничего не несу, потому что я еще маленький. На вокзал нас провожают московский дедушка и его сослуживец, которые тащат вдвоем огромный сверток. Этот сверток нужно передать кому-то с какой-то оказией. Дедушкин сослуживец так и сказал: «Вот, решил передать с оказией».
— А кто это? — спросил я, и все засмеялись.
Взрослые всегда так: толком ничего не объяснят, а потом еще и смеются.
На вокзале витал неповторимый аромат железной дороги, состоявший из сложной смеси запахов шпал, жареных пирожков, угля, машинного масла и туалетной хлорки. Время от времени через громкоговорители делали какие-то объявления. Люди с напряженным вниманием вслушивались в неразборчивую речь, а затем устремлялись куда-то, загадочным для меня способом определяя, куда идти.
В вагоне было так много народу, что я поначалу даже испугался, вдруг нам не хватит места, но потом оказалось что половина людей — это провожающие. Провожающие деловито рассовывают по местам багаж, проверяют, все ли в порядке с билетами, дают ценные наставления провожаемым, озабоченно интересуются у проводника, когда поезд прибывает в пункт назначения, недоверчиво сверяя ответ с расписанием. Они серьезны, энергичны и слегка снисходительны к отъезжающим.
Будем и мы снисходительны: их роль на этом празднике Дороги исчерпывается прологом, тогда как остальных участников ждет несколько действий с антрактами и счастливый финал — встреча на вокзале.
Вагон неожиданно дернуло назад, потом потащило вперед, перрон начал плавно отъезжать, и я устроился за столиком, высматривая за окошком Саратов. Как по команде, люди начали извлекать из своих сумок огурцы, помидоры, отварную картошку «в мундирах», хлеб, колбасу, котлеты, яблоки, жареных кур и обязательно спичечные коробки, предусмотрительно заполненные солью. Из каждого отсека доносился дружный хруст яичной скорлупы. Это огромное количество еды не помещалось на крохотных столиках и ее раскладывали прямо на полках, предварительно застелив их полотенцами, салфетками или попросту газетой.
Знаете, почему люди, как только сядут в поезд, сразу начинают есть? Во-первых, когда собираются в дорогу, не успевают, как следует поесть. Во-вторых, еды должно быть много, мало ли что, дорога все-таки, а в-третьих, продукты в поезде, особенно летом, могут испортиться и, чтобы часть продуктов потом не пришлось выкидывать, их надо постараться съесть сразу после отправления. Не расстраивайтесь: я ведь тоже не с первого раза сообразил. А знаете, что в этом деле самое приятное? А то, что в поезде все можно есть руками, и никто тебе ничего не скажет. Как в древнем Риме.
Напротив меня сидела тетка с толстым лицом и шикарными усиками. В руке она держала стакан чаю в подстаканнике. После каждого глотка тетка утирала лицо зажатым в кулаке носовые платочком.
— Мальчик, хочешь конфетку? — спросила она и протянула мне конфету «Кара-Кум».
Мама любит такие конфеты, потому что они шоколадные, а мы с папой больше любим «сосательные». Правда, у шоколадных конфет есть ценный фантик и еще фольга, из которой можно сделать красивый кулечек.
— Спасибо, — говорю. Неудобно как-то сразу отказываться.
— Мальчик, тебя как зовут?
Есть такие взрослые тети, которые любят задавать детям дурацкие вопросы, например, «сколько тебе лет?» или «кого ты больше любишь, папу или маму?», или «почему у мамы волосы черные, у папы черные, а у тебя — светлые?». При этом они улыбаются, подмигивают и строят разные рожи.
— Мальчик…
Ну, вот зачем было спрашивать, как меня зовут? Хорошо еще девочкой не назвала.
— Мальчик, а почему у твоего папы…
Не дожидаясь продолжения, я решил перехватить инициативу.
— Потому что у меня папа генерал!
Вообще-то мой папа никакой не генерал. Он старший лейтенант запаса и работает инженером в конструкторском бюро. Из военных у нас в семье только дедушка, да и то он подполковник в отставке. Это мы с дядей Борей понарошку звания всем присвоили, чтоб интересней было: дедушка — маршал, папа — генерал, дядя Боря — полковник, а я — капитан.
— Что-то не больно твой батя на генерала похож, — сказал усатый дядя, муж усатой тетки. — Отродясь не видал, чтоб генералы в плацкарте ездили!
— А он секретный генерал, — говорю, — ему даже запрещено в форме ходить.
Попутчики как-то стихли.
— А дедушка вообще маршал! — не унимался я.
— Понятно, — произнес муж усатой тетки. Взрослые часто так говорят, когда им ничего не понятно.
Разговор явно не клеился. С удивлением я обнаружил, что наши попутчики почему-то не очень рады ехать в одной компании с генеральским сыном и маршальским внуком и даже смотрят на меня с неодобрением: пусть, мол, ездят, как все генералы, в отдельном купе, и нечего тут прикидываться.
— Ты тоже, наверное, генералом будешь? — с ехидцей спросила тетка.
— Не знаю. Пока я еще капитан, а вообще я хочу, когда вырасту, мороженым торговать или быть писателем.
Попутчики вздохнули с облегчением и заулыбались.
— Ну, писателем — это совсем другое дело, — сказал усатый дядя и протянул мне огромную, как лопата, ладонь. — Держи, капитан.
Шарф голубой…
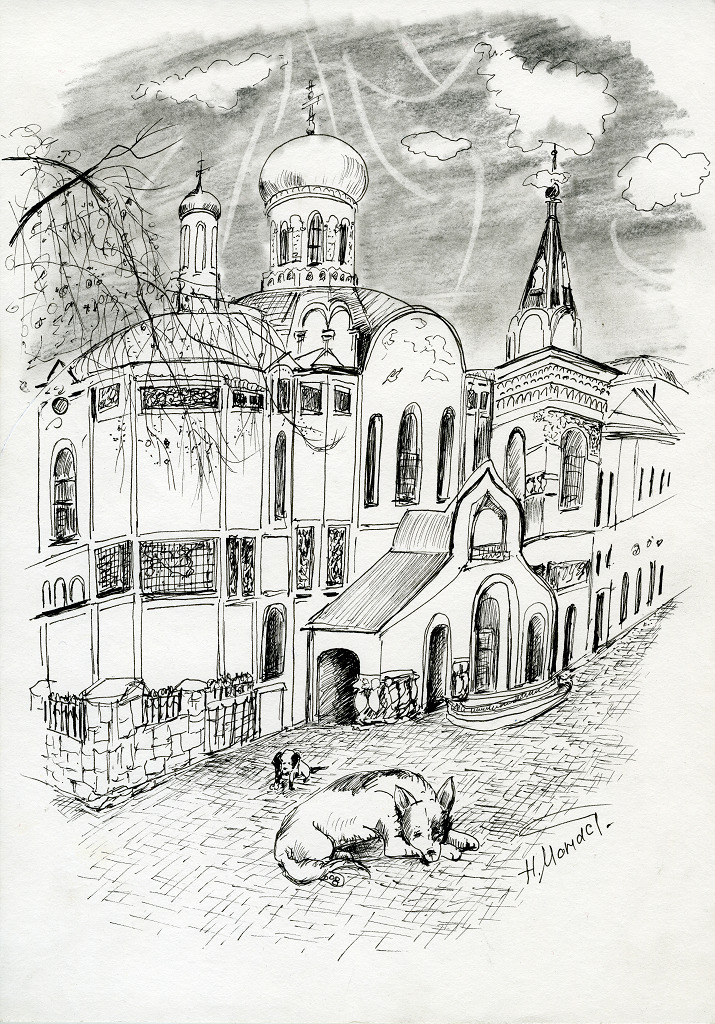
Не знаю, как вы, а я, когда учился в школе, постоянно все терял: авторучки, линейки, циркули, тетрадки, кисточки, носовые платки, шапки, варежки, сменную обувь. Я уже не говорю о карандашах и ластиках. Один раз я даже портфель потерял, но он потом нашелся.
Родители на меня очень сердились, говорили, что мне их ни капельки не жалко и что я — растяпа. Я и не отрицаю, что растяпа, но ведь нарочно я никогда ничего не терял. Просто я забывал где-нибудь какую-нибудь вещь, а когда за ней возвращался, то ее почему-то на месте уже не было.
В тот год весна была какая-то холодная. Уже прошли весенние каникулы, наступил апрель, а повсюду еще лежал снег. Грязный, рыхлый, ни в снежки не поиграть, ни в футбол, ни даже в классики. Самое тоскливое время!
После урока русского языка учительница велела не расходиться.
— У меня важное сообщение. Приближается 22-е апреля — день рождения Владимира Ильича Ленина, — голос учительницы торжественно звенел. — В этот день самых достойных будут принимать в пионеры!
Про пионеров мы все уже знали и про Ленина, конечно, тоже.
Когда я был еще совсем маленьким и даже не ходил в школу, папа иногда брал меня с собой на прогулку в парк. Чтобы туда добраться, надо было сначала перейти большую улицу, а потом проехать целых три остановки на троллейбусе. Возле троллейбусной остановки располагался огромный стенд, на котором очень крупными буквами была сделана надпись «Лучшие люди нашего района». Из-под стекла на меня смотрели большие черно-белые фотографии незнакомых мужчин и женщин. Их лица были серьезны и неприветливы.
— Кто это? — спросил я.
— Здесь же написано «лучшие люди района». Ты ведь сам уже умеешь читать.
Мы стали разбирать подписи под фотографиями: слесарь-инструментальщик, автомеханик, водитель автобуса, воспитательница детского сада, фрезеровщик, начальник цеха, ткачиха, сварщик. Было одно смешное название — карусельщик.
— Он что, в парке на карусели работает?
Папа засмеялся: «Нет, это такой станок есть, карусельный».
— А почему тебя здесь нет?
— Я же в другом районе работаю. Здесь все по месту работы.
— А в другом районе ты есть?
— Тоже нет, — вздохнул папа.
— А мамы почему нет? Она ведь в нашем районе работает. Ты же сам говорил, что мама у нас лучше всех!
— Я в другом смысле говорил, не про работу. Я тебе потом объясню.
— Разве мама плохо работает?
— Конечно, нет! Мама очень хорошо работает. И вообще, это ничего не значит.
— Что не значит?
— Ну, фотографии эти.
— А зачем их тогда повесили?
Папа пожал плечами: «Сам не знаю».
— Пап, а это кто? — Я показал на большущий, больше всех фотографий, крашеный пенопластовый профиль лысого человека с бородкой. Мне показалось, что это лицо я уже где-то видел.
— Это наш дедушка Ленин, — сказал папа.
Я очень удивился. Я ведь точно знал, что моего дедушку зовут Мишей, и фамилия у него другая, и бороды у него никакой нет, только усы.
— Никакой он мне не дедушка! — закричал я. — Мой дедушка — Миша!
— Да тихо ты! — Папа зачем-то огляделся по сторонам. — Я же не говорю, что это твой личный дедушка. Это наш общий дедушка, мой тоже.
— И мамин?
— И мамин.
— И дедушкин дедушка?
Папа задумался.
— Может быть, не знаю. Нет, наверное. Я тебе потом все объясню.
Потом, когда я учился в первом классе, нас водили в Мавзолей, и мне было страшно, потому что я никогда еще не видел настоящих мертвецов. Сначала мы долго стояли у каких-то ворот, потом шли в длинной очереди вдоль высокой кирпичной стены. Я еще запомнил, что кирпич был необычного темно-красного цвета. В Мавзолее было прохладно и сумрачно. Мы спускались по лестнице, и я старался не смотреть в ту сторону, где на постаменте стоял стеклянный гроб, как в «Сказке о мертвой царевне». Я даже зажмурился.
— Смотри! — Вовка ткнул меня локтем в бок.
Мне было очень страшно, но я приоткрыл глаза и повернул голову. Передо мной лежал небольшого роста старичок с желтоватым лицом. Одна рука его была сжата в кулак. От неожиданности я шагнул через ступеньку, потерял равновесие и полетел вниз. Время тотчас как-будто остановилось. Так бывает во сне: ты летишь, летишь и никак не можешь упасть. Вот-вот сейчас случится непоправимое: я разобью стекло и упаду прямо ТУДА, и этот старик схватит меня своей желтой рукой, той самой, которая сжата в кулак. Или еще хуже, я упаду туда, и ОН от этого испортится. Что будет тогда со мной? Мне хотелось закричать, но я не мог, потому что кругом была мертвая тишина.
Так тоже бывает во сне: ты кричишь, что есть силы, набираешь воздух в легкие, даже открываешь рот, но никто тебя не слышит, и ты сам себя не слышишь. Вдруг чья-то железная рука схватила меня за шиворот. Высоченный солдат, стоявший до этого неподвижно, как манекен, поймал меня, словно котёнка и, легонько подтолкнув, направил к выходу.
На Красной площади было солнечно, шумно и весело, но разговаривать почему-то никому не хотелось.
Голос учительницы перестал звенеть и зазвучал обычно, как будто она диктует домашнее задание.
— До конца недели всем нужно принести деньги на галстуки. Всем понятно?
— Галина Петровна! — Это Вовка поднял руку.
Вовка — мой лучший друг, а Галина Петровна его не любит, потому что он неважно учится и плохо ведет себя на уроках. Вовкина мама говорит, что он мог бы учиться лучше, просто ему усидчивости не хватает.
— Галина Петровна! А зачем деньги всем приносить, если в пионеры будут только лучших принимать?
— Я сказала, что лучших будут принимать в день рождения Ленина и в торжественной обстановке. У остальных есть шанс до конца года исправиться. Тогда их тоже примут в пионеры. Всем понятно?
Пионерские галстуки были двух видов: «шелковые» и «простые».
«Шелковые» галстуки были алого цвета и стоили примерно, как десяток яиц, а «простые» кумачового цвета и стоили подешевле. Через несколько дней учительница напомнила нам про галстуки.
— Ну, кто еще не сдал деньги?
Все стали друг на друга оглядываться, кто-то протягивал деньги, а Вовка вынул из бокового кармана аккуратно сложенный красный ситцевый галстук.
— Вот, мама мне сама купила.
Учительница повертела галстук в руках. Видно было, что она чем-то недовольна.
— Это не годится. Ты же знаешь, что в нашей школе все пионеры носят другие галстуки. Другого цвета. — Галине Петровне не хотелось говорить, что другого цвета — значит шелковые, то есть более дорогие.
— Мама говорит что, может быть, меня вообще в пионеры не примут, а лишних денег у нее нет.
— Ну ладно, посмотрим. — Галина Петровна убрала галстук в ящик своего стола.
Настал долгожданный день. Я уже собирался выходить из дома, когда мама преградила мне путь в прихожей. В руках она держала берет и шарф.
— Ну-ка, надень быстро! Посмотри, что творится на улице! Ты что, заболеть хочешь?
Мама всегда так говорит, но мне еще ни разу не удавалось заболеть по собственному желанию. Я вздохнул. Погода действительно была отвратительной, но из наших ребят почти никто не носил шарф, а тем более берет с этим дурацким хвостиком на макушке. Только Миша Ласкин, но он и так был отличником, носил толстые очки, и с ним никто не хотел дружить, потому что ему нельзя гонять в футбол из-за близорукости. Остальные ребята зимой ходили в ушанках, а потом надевали кепки или вообще так обходились. Мне тоже хотелось носить кепку, но мама сказала, что мне это совсем не идет, и что в кепки у меня вид, как у шпаны. Я надел шарф (для этого пришлось сначала снять куртку), кое-как нацепил берет (все равно потом спрячу в карман) и побежал в школу.
В пионеры нас принимали в Доме культуры огромного завода. Сперва выступал старый коммунист, который рассказывал нам о Ленине. Он рассказал нам, что хотя сам он, конечно, Ленина никогда не видел, но зато хорошо знал одного человека, который был лично знаком с вождём. Потом председатель нашей пионерской дружины из 7«А» произносила клятву.
— Я, вступая в ряды… торжественно клянусь, — а мы повторяли ее хором, и мурашки бежали у меня по коже.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.