
Бесплатный фрагмент - Внутри
Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным, и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет.
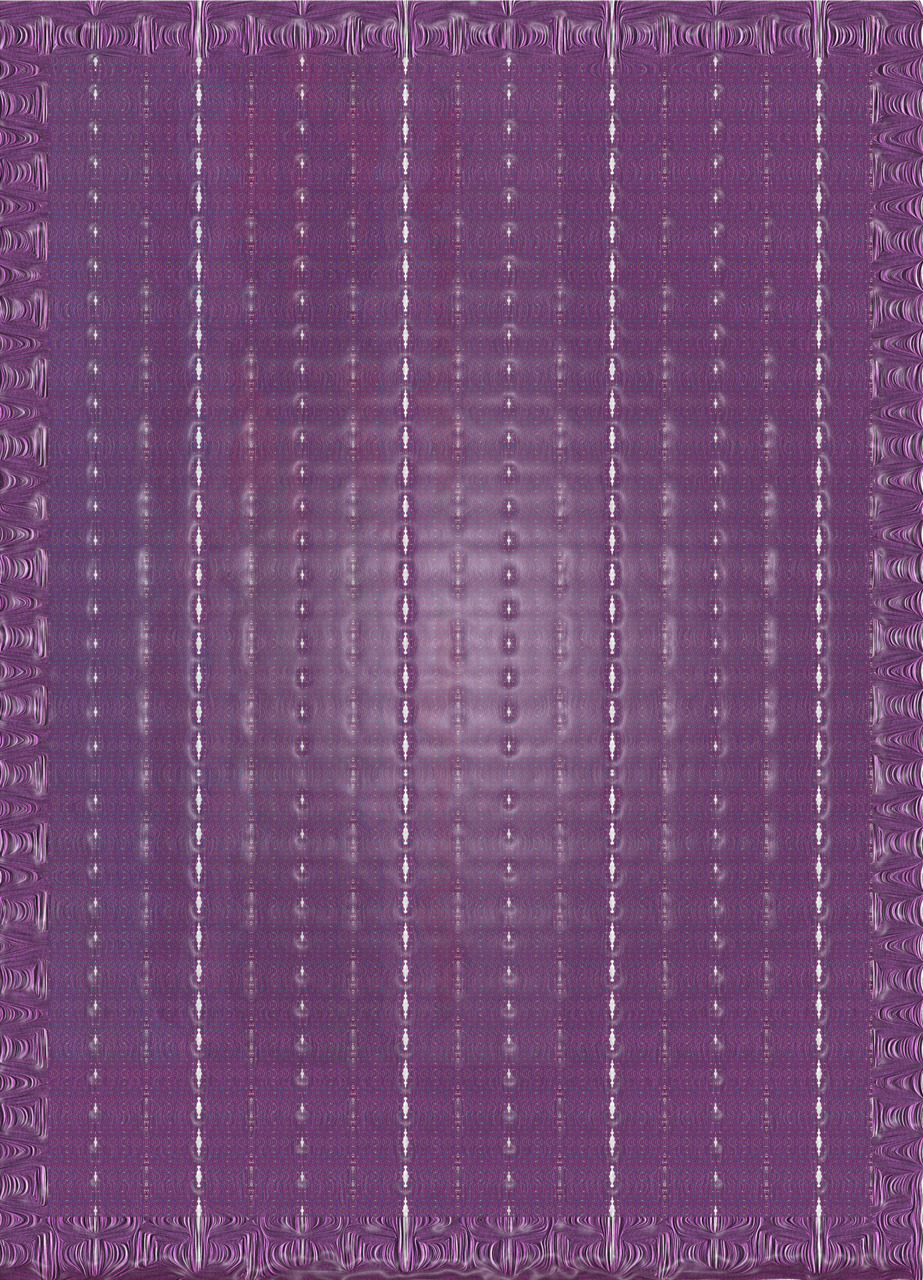
Посвящается тебе — ведь никого важнее тебя в твоей жизни нет

FORAS
Фото
Я смотрю на свадебную фотографию, на которой моя жена еще блондинка, и думаю о том, куда завела меня моя душная жизнь.
И дело здесь не в моей жене. Моя жена Сэнди — самая удивительная женщина на свете. Я благословлен ее любовью.
Дело в Клэр. Хотя нет — она тоже здесь ни при чем. Клэр — это сестра Сэнди. И я имел неосторожность с ней встречаться. До знакомства с Сэнди. Моя Сэнди об этом ничего не знает. И знать не должна. Это тот случай, когда я понимаю, что глупо держать все в тайне, но раскрыть эту тайну не могу. Тайна превратилась в предрассудок, превратилась достаточно давно, и я уже не могу от нее избавиться.
Я понимаю, что Сэнди с ее чуткостью и гибким умом отнесется ко мне с пониманием, если, конечно, в шутку не назовет меня козлом или не изобьет подушкой — но все равно не могу.
Клэр плевать хотела на эти тайны. Она погружена в ювелирный бизнес. Холодный оттенок белого золота. Кольцо на две фаланги. Смуглая кожа, антипод творческой бледности Сэнди.
Папочка неведомым образом узнал о моей давнишней связи с Клэр и теперь презирает меня при каждом удобном случае. Презирает взглядом, молча, презирает высокомерно, словно таракана, на которого даже не хочется наступать, чтобы не испачкать ботинки.
Уайт Пауэрс, мой чернокожий коллега, звонит и сообщает о продаже картины.
— Твердыня Тибета? — переспрашиваю я. — Теперь их возбуждает модернизм?
Пауэрс что-то бурчит, и я так понимаю, что возбуждает.
— А где оригинал, не узнавал?
Пауэрс что-то бурчит в ответ, и я так понимаю, что он даже не пытался узнать.
— Разницы никакой. Давай, пока берут.
Пауэрс что-то бурчит про скидку.
— Процентов пять, не больше.
Богатые сексоголики. Сначала — импрессионизм. Затем — супрематизм. После — Сунцзянская школа живописи и якобы малоизвестная работа Фриделя Дзюбаса. Теперь пятая картина моей Сэнди уходит в их похотливое лоно. Их доходное либидо уже давно заслуживает скидку.
Пауэрс что-то бурчит про подозрительность.
— Не бойся. Они разбираются в живописи так же, как твоя жена в мужчинах.
Пауэрс просто что-то недовольно бурчит.
— Хорошо, три процента. Нам же лучше. — Я вешаю трубку и возвращаюсь глазами к фотографии.
Тихий домик на Пасифик Хайтс за нашими спинами. Тихая свадьба. На мне — моя дурацкая черная накидка. На Сэнди — ее шерстяная серая накидка с дырами от творческих истерик. Серый пояс обтягивает мою Сэнди где-то в районе пупка. Ее впалого пупка — выпуклые пупки я не могу лицезреть. Эстетически не перевариваю. Сэнди знает об эстетике пупков и поэтому понимает мое недовольство. У Клэр, кстати, выпуклый пупок, но причина нашего расставания кроется не в этом. Мы расстались задолго до того, как я начал видеть в ее выпуклом пупке причину сорвать на ком-нибудь свою злость.
Тихий домик в Пасифик Хайтс, где я живу. Где сижу в спальне и думаю о том, куда завела меня моя душная от обмана жизнь.
Я и Сэнди. Ее милая улыбка. Дырочка между двумя передними зубами. Ее белые зубы, на их фоне мои выглядят слишком желтыми. Папочка стоит позади нас и имитирует радость, его, к сожалению, уже покойная жена, тетя Лорен, сияет от счастья ничуть не меньше, чем сама Сэнди. Клэр на фото нет. В тот день она позвонила Сэнди и сказала, что какой-то клиент, химик-задрот из Силиконовой долины, возмутился повышенным содержанием родия в 583 пробе, поэтому ей придется задержаться на работе. Ложь. Мы — я и, конечно же, Папочка — мы оба понимали, что Клэр нас обманывала, и я был уверен — уверен, был уверен и Папочка — что Клэр знает, что мы вдвоем не поверили ее лжи.
Папочка. Старый скряга всегда умудряется оскорбляться на чьи-то лишние деньги. У меня с ним было бы много общего, если бы мы не ненавидели друг друга.
Лишние деньги… Пауэрс продал одну из лучших работ моей Сэнди какому-то искусствоведу, который, к несчастью, дружит с кем-то из мафии. Он узрел в чудом сохранившейся работе Пизанелло кисть пошлой авангардистки и сообщил об этом сразу мне, минуя, почему-то, Пауэрса. Этот факт в обойме с чуткостью искусствоведа заставил меня задуматься о том, куда завела меня моя душная от обмана бандитолюбивого искусствоведа жизнь. Я готов отдать ему все деньги, что у меня есть — лишь бы Пауэрс и дальше занимался бы забубениванием невежественных богачей. Лишь бы и дальше тонкая кисть моей любимой художницы выводила очередной шедевр, необходимый для нашей финансовой независимости от Папочки.
Его рожа даже на фото вызывает отвращение… Как же не хватает тети Лорен.
Я смотрю на фотографию в ожидании звонка искусствоведа. Святой дьявол, я ведь даже не знаю его имени!
Звонит телефон — хотя нет, звонит кто-то в дверь. Я вставляю фотографию обратно в рамку, потягиваюсь, надеваю тапочки Сэнди — я их испоганю, и Сэнди меня убьет — и спускаюсь по лестнице к входной двери.
Мозги
Я открываю дверь в ожидании увидеть блестящее от снобизма лицо искусствоведа — или пистолет гориллы его влиятельного друга-мафиози — а вижу серо-розовые мозги на коврике цвета Сэндиной накидки.
Человеческие мозги. Разбросанные островки из извилин в темно-багровой луже крови.
Когда-то я хотел стать хирургом. Человеческие мозги я узнаю из сотни других мозгов других особей животного мира.
Но врачебный опыт не мог спасти от внезапного омерзения. Меня бы вывернуло наизнанку, если бы мой желудок не пустовал со вчерашнего вечера.
Я иду за совком в прихожую, но вспоминаю, что пару недель назад мы его выкинули, вместе с веником — тогда в наш домик на Пасифик Хайтс заселился робот-пылесос.
Я влетаю по лестнице в спальню, беру с прикроватной тумбы телефон и лихорадочно набираю номер Сэнди. Хочу убедиться, что с ней все в порядке.
— Да, мистер Ревность, еще пару мазков — и все, остальное завтра доделаю, как и обещала, — слышу я голос Сэнди и успокаиваюсь.
— Олег? Все хорошо?
— Все в порядке, миссис Страсть, просто хотел сказать, что Гейси порвал твой коврик на заплатки. Он и вправду маньяк.
— Странно, он только недавно гулял.
— Сам удивлен. Вот же пушистый извращенец! Пойду в супермаркет, куплю новый коврик.
— Хорошо, мистер Ревность, только быстро, я скоро буду дома.
— Не называй меня мистером Ревностью.
— Хорошо, мистер Ревность. Целую!
Я беру коврик с мозгами, несу его к унитазу и спускаю чьи-то мертвые нейроны бродить по сан-францисской канализации. Ковер скручиваю трубкой, кровавой стороной внутрь, и кладу в мусорное ведро. Для надежности поливаю коврик соусом лечо — по легенде я уронил свой бургер на ковер, пока искал что-нибудь массивное, чем можно было бы огреть Гейси.
Гейси… Сэнди назвала котика-перса в честь дяди и смеха ради, но сейчас мне далеко не до смеха — в имени кота я вижу поганый символизм. Я курю на кухне, кидаю окурок перед роботом-пылесосом, достаю наличку из брюк и — в домашнем халате и Сэндиных тапочках — иду в хозяйственный магазин, находится он в пяти минутах ходьбы от дома.
Возвращаюсь домой где-то через пятнадцать минут. С пачкой сигарет Clyde’s Heaven в виде гроба и, конечно, с новым ковриком в руках. Красным — серого в наличии не было.
Сэнди уже дома. Загнала бедного Гейси в угол дивана и грозит ему пальцем. Сэнди поворачивается, видит меня, улыбается. Я говорю:
— Серого в наличии не было. Взял красный, под стать твоему прозвищу… И это, оставь котейку в покое, я уже метнул в него телефон. И попал.
Сэнди чешет Гейси за ухом. Тем же пальцем, которым грозила использовать его вместо коврика. Сэнди подходит ко мне, целует в губы.
— Знала бы, что ты курил — поцеловала бы лучше Гейси.
Я кладу коврик возле входной двери, с содроганием вспоминаю чьи-то разбросанные извилины, закрываю дверь и поворачиваюсь к Сэнди.
— Ты ел? — спрашивает она.
— Нет… Гейси задрал ковер, а я еще, как назло, уронил на ковер свой бургер. Но есть я уже не буду.
И правда, есть я не хочу. До меня только сейчас дошел ужас всей этой истории с мозгами. Я пытаюсь улыбнуться Сэнди, но чувствую, что у меня не получается.
— Что-то случилось? — спрашивает Сэнди весело — она старалась не унывать даже тогда, когда это было необходимо.
— Ничего. — Я решаю, что Сэнди ничего не должна об этом знать. Может, кто-то ошибся ковриком, глупо думаю я.
— Опять Папочка?
— Нет, к счастью… Хотя, может и к сожалению… В общем, Сэнди, Пауэрс нарвался на какого-то искусствоведа.
Синие глаза моей Сэнди расширяются от… понимания?
— Пизанелло? — спрашивает она.
Я удивленно киваю головой.
— Я не хотела тебе говорить, но вчера утром мне звонил какой-то хам. Сказал, что Пизанелло — бездарь, и что только дважды бездари придет в голову его копировать. Он положил трубку раньше, чем я успела спросить про то, как он узнал мой номер. Хм, потом я решила что это шутка моего мистера Ревности, посмеялась и продолжила рисовать. — Сэнди пристально на меня смотрит.
— Нет, это не шутка.
Она молчит, а потом спрашивает — с озарением:
— Вдруг это Пауэрс?
— Мог быть и он, если бы у него было чувство юмора, хотя бы такое паршивое, как это.
— Ну да, ага… Но спроси его, все-таки — вдруг он что-нибудь знает.
— Конечно спрошу. — Я смотрю на настенные часы. Два часа дня. — Вечером спрошу, часов в шесть. Может ему так же, как и нам, звонили, и он так же, как и мы, решил ничего не говорить?
— Возможно, — задумывается Сэнди.
И тут же улыбается. За это я люблю ее сильнее, даже сильнее, чем за художественный талант. За ее внезапный оптимизм.
— До вечера лучше не думай об этом, мистер Ревность.
— Ну, милая, это прозвище уже не актуально. — Я злюсь понарошку.
— Конечно, твое прозвище не такое звучное, как мое. — Сэнди взмахивает волосами в воздухе. Левая половина волос покрашена в рыжий, а правая — в серый цвет. Я настолько привыкаю к переменчивому безумию в прическах Сэнди, что всегда забываю, что она — натуральная блондинка.
— Пойдем в китайский ресторан вечером? Перед твоим походом к Пауэрсу, разумеется.
— Хорошо, — говорю я, хотя мне кажется, что уж сегодня я точно не проголодаюсь.
Сэнди идет на кухню, сыплет сухой кошачий корм в миску Гейси, затем берет вчерашний бургер и кладет его в микроволновку.
— Хочешь, поделюсь с тобой, он очень большой? — предлагает Сэнди.
— Ешь весь, Миссис-Страсть-Которая-Никогда-Не-Толстеет.
Сэнди улыбается. Дырочка между ее передними зубами — больше, чем просто вишенка на торте. Я снимаю тапки и беру пачку-гроб с зажигалкой.
— Я лучше покурю — испробую наш новый ковер.
Я иду к входной двери и слышу вслед игривое:
— Куряга!
Сэнди и сама курит. А меня она ругает за мое курение, потому что ей нравится ругать меня — и мне нравится, когда она ругает меня. Мы настолько счастливы, что ищем поводы для милых ссор, и как только находим, то радуемся этому, как в самый первый раз. Мы счастливы — даже ее Папочка никогда не мешал мне быть счастливым. Но чертов искусствовед… Чертовы мозги на ковре цвета Сэндиной накидки…
Я решаю не думать об этом, пока смотрю меню китайского ресторана. Сэнди в дырявой накидке цвета выброшенного ковра — в накидке, в которой вышла за меня замуж — держит палочку для еды, как сигарету, и смотрит в меню несколько отстраненно — так смотрит человек, которого посетила интересная, но далекая от этого бренного мира мысль. Я машинально трогаю пачку «…Heaven» во внутреннем кармане своей черной накидки и изнемогаю от желания курить, и тут же вижу знакомое лицо в паре столиков от нас. Я радуюсь, что хозяйка этого лица не видит нас с Сэнди — потому что хозяйкой этого лица является Клэр. Сэнди будет рада поговорить с родной сестрой, но не я. И Клэр, я знаю, тоже будет неуютно находиться рядом со мной в присутствии Сэнди. Я начинаю отвлекать Сэнди пустой болтовней, чтобы она не повернула голову назад, но вижу, что Клэр сама подходит к нашему столику. Сама… Клэр должна была сделать вид, что не узнает меня, после всего, что между нами было.
— Привееет! — здоровается Клэр.
— Привет, сестренка! — Сестры целуются. — Как же я рада тебя здесь видеть!
— Да, я вас тоже! — Клэр лучезарно мне улыбается. Я киваю в ответ — не хочу портить свое лицо фальшивой улыбкой.
Актер из нее, думаю я, куда лучше, чем из Папочки. Старшая сестренка Сэнди будет куда более талантливым бизнесменом, вернее бизнесвумэн, чем мой драгоценный тесть.
— Вообще-то я к тебе, — говорит мне Клэр. — Нам надо поговорить.
— Неужели наедине? — удивляюсь я.
— Желательно. — Клэр неуверенно косится на Сэнди.
— Что бы ты мне не сказала, Клэр, Сэнди об этом узнает.
Ладонь Клэр ложится на мое плечо. Средний палец с кольцом на две фаланги отражается в синих глазах моей Сэнди.
— Ууу, у вас какие-то секреты? — Сэнди заговорщически понижает голос.
Сэнди, может, ничего о нас с Клэр и не знает, но ее художественному психоанализу по силам откопать некоторые тайны нашего прошлого.
— Никак нет, миссис Страсть, — говорю я. — Клэр, что тебе нужно?
Клэр молчит. Сэнди смотрит на нас взглядом человека, ожидающего розыгрыш, и розыгрыш приятный, без стрессов. Ноготь большого пальца впивается в мое плечо. Это не ноготь моей Сэнди, поэтому я с раздражением поднимаю голову и вновь спрашиваю:
— Что тебе нужно?
— Что ты делаешь сегодня вечером? — спрашивает Клэр.
— Вечером у меня рабочая встреча.
— А она точно состоится?
Я смотрю на Сэнди. Сэнди смотрит в меню. Она чувствует мой взгляд и смотрит на меня взглядом человека, которому не хочется никого отвлекать от суперважных дел.
— А почему она не должна состояться? — спрашиваю я у Клэр.
— Тебе виднее, почему, — пожимает плечами Клэр. — Вдруг у тебя появятся более важные планы…
Сэнди подзывает официантку и заказывает дим сам с побегами бамбука. Я заказываю то же самое, и когда официантка уходит, спрашиваю у Клэр:
— Какие, например?
Клэр смеется — и смеется нервно.
— Посмотреть картотеки со всеми проданными в рабство людьми за последние пять лет.
В поиске объяснений я смотрю на Сэнди. У моей Сэнди взгляд человека, ожидающего розыгрыш, но розыгрыш мощный, пусть даже и со стрессами. В это время Клэр невозмутимо добавляет:
— Там указаны только те люди, факт продажи которых официально установлен. То есть те, кого удалось от рабства освободить. И только те, у кого американское гражданство. Картотека не такая уж и большая, поскольку она не отражает реального положения вещей.
— Интересно, — говорю я и показываю лицом отсутствие хотя бы малейшего намека на интерес.
— К чему ты все это говоришь, Клэр? — спрашивает Сэнди.
— Каждый год более четырех миллионов человек становятся жертвами работорговцев, — говорит Клэр.
— Ну, работорговля, думаю, процветает в Африке или в Азии, в Америке с этим не так…
— Так, сестричка. Так.
Сэнди выпрямляется на стуле. Официантка подносит два блюда с дим сам. После того, как официантка уходит, Сэнди спрашивает у Клэр:
— И давно тебя стали волновать жертвы работорговли?
Я решаю взглянуть на Клэр и вижу, что в ее глазах стоят слезы.
— Всегда, — отвечает она.
Сэнди спокойно смотрит то на меня, то на сестру. Ее теперешнее спокойствие уместно сравнивать не со спокойствием среднестатистического американца, а, например, с грустью Клэр, моей грустью или грустью среднестатистического американца.
— А я могу посмотреть картотеку? Мы с Олегом?
Я отрицательно качаю головою — и мне плевать, видит это Клэр или нет. Сэнди пожимает плечами и говорит:
— Я могу пойти с тобой, Клэр, если тебе это так важно.
— Мне важно, чтобы со мной пошел Олег.
Клэр гладит меня по плечу и добавляет:
— Он же мужчина.
Сэнди улыбается:
— Неужели ты думаешь, что картотека с рабами повредит мою женскую психику?
Клэр смотрит на Сэнди так, будто бы Сэнди бросает ей спасательный круг.
— Да, сестричка. Да.
Я решаю прекратить этот фарс. Говорю:
— Я посмотрю с тобой картотеку, чтобы это не значило.
Искусственный загар на лице Клэр сияет.
— Спасибо! Сестричка, ты не в обиде?
— Нисколечки, — отвечает Сэнди. — Мне всегда рады мой мольберт и кисти.
— Замечательно. Тогда кушайте, и… — Клэр смотрит на меня, — жду тебя у входа.
Я киваю головой, ковыряю палочками дим сам, и мы с Сэнди беседуем на отвлеченные темы. Клэр с ее рабами и проблемы с искусствоведом пусть подождут.
Я целую Сэнди в щеку и иду к выходу. Сэнди остается в ресторане доедать мой дим сам — Миссис-Страсть-Которая-Никогда-Не-Толстеет может себе это позволить.
Я убеждаю себя, что не буду смотреть на лист с перечнем чьих-то страданий, превращенных в сухую статистику. Я говорю то, что хочет услышать Клэр, чтобы Клэр от меня отвязалась. С тем же цинизмом, с которым я расставался с Клэр еще до знакомства с Сэнди, я расстанусь с Клэр и в этот раз, а после поеду в Кастро, посмотрю, как там Пауэрс.
Клэр улыбается как-то вымученно и хочет, чтобы я взял ее за руку. Я отказываюсь.
Мы идем к моей машине. Кабриолет Форд Фокус черного цвета. Подарок Клэр, купленный ею на Папочкины деньги и, насколько я знаю, без ведома Папочки.
Обычно я слышу от Клэр меркантильные колкости по поводу машины. Но в этот раз Клэр обходится без них. Это меня напрягает — веры в то, что люди меняются, у меня нет. Я думаю, что Клэр заболела чем-то серьезным. Возможно, редким психическим заболеванием. И если да, то это бред отрицательного двойника. Я говорю ей об этом вслух. Клэр на это не оскорбляется, что только подтверждает мои догадки.
Мы садимся в машину. Желание курить переносится, наверное, на пол часа вперед. Клэр с ее заскоками и ранее заставляла меня забывать о привычках, забывать о которых я бы не хотел даже под дулом пистолета.
Я завожу мотор и спрашиваю:
— Куда мы едем?
— Прямо — я скажу, когда повернуть.
Я повинуюсь и еду прямо. Если ехать прямо, не сворачивая, можно добраться до Кастро. Там же можно навестить Пауэрса и отделаться от Клэр.
Никаких поворотов, решаю я, и спрашиваю:
— Что с тобой происходит?
Клэр кладет руку на мои джинсы и загорелыми пальцами нащупывает мой член.
— Ты хочешь начать все сначала? — в недоумении спрашиваю я.
Он сжимает мой член так, как мужчина сжимает руку другому мужчине в стремлении что-то доказать. Большой палец и средний, палец с кольцом на две фаланги, расстегивают мне ширинку.
Я торможу у обочины, бью Клэр по руке и застегиваю ширинку.
— Знаешь, как называет тебя Сэнди за глаза? — спрашиваю я.
Мисс Занудство — так моя Сэнди называет Клэр.
Клэр качает головой, и я сам отвечаю на свой вопрос:
— Мисс Идиотия.
И жду — зная характер Клэр, можно ожидать пощечины или удар кулаком по причинному месту. Клэр мрачнеет, но говорит:
— Я знаю, что ты здесь ни при чем, но уверен, ты знаешь, как выйти на всю вашу сеть.
Я вглядываюсь в Клэр, в ее глаза, так не похожие на глаза моей Сэнди. Я почти убеждаюсь, что Клэр не под наркотой, и спрашиваю:
— Что за бред ты несешь? Работорговля, сеть… Домогательство…
— Водителям нравится, когда им дрочат. Разгоняет кровь по всему организму, от этого мозг работает лучше.
— Эти рассуждения не в твоем духе. Тебе сделали лоботомию?
Клэр ни с того ни с сего улыбается.
— Езжай прямо. Нас ждет список с рабами.
Я растягиваюсь над Клэр, открываю ей дверь.
— Никаких поездок. Ты не в своем уме.
— А хочешь узнать почему?
Я лишь хочу убедиться, что мозги подбросил искусствовед — и помириться с ним, если такое возможно.
— Нет, — отвечаю я Клэр.
— Твоя жена волнуется за меня. Она расстроится, если со мной что-нибудь случится…
Я начинаю искать связь между мозгами на коврике и странным поведением Клэр.
— Тебе кто-то угрожает, или это намеки на суицид?
Клэр пожимает плечами. Она закрывает дверь машины. Говорит:
— И то, и другое.
Туманные ответы Клэр — это ерунда, а вот упоминание моей Сэнди — это шантаж. Я говорю об этом Клэр. Клэр мне на это отвечает:
— Шантаж шантажом — но все, что происходит, гораздо серьезнее, чем ты можешь себе представить.
Мои поиски связи между мозгами на ковре и поведением Клэр становятся интенсивнее.
— С тобой происходило что-нибудь странное в последнее время? — спрашиваю я, спрашиваю серьезно, чтобы дать понять Клэр, что я над ней, по крайней мере в данный момент, не насмехаюсь.
Клэр отрицательно качает головой, но говорит:
— Кое-что произошло с моими близкими.
Затем шмыгает носом и добавляет:
— И произойдет еще не раз.
Клэр просто тронулась умом, решаю я, и возвращаюсь к своему первоначальному плану. Я набираю номер Пауэрса. Мне никто не отвечает.
Я решаю приехать к своему «подельнику по подделкам» без предупреждения. Я спрашиваю у Клэр:
— Где тебя высадить?
Клэр, понятное дело, удивляется.
— Ты же обещал посмотреть со мной картотеку! Обещал при своей Сэнди!
И добавляет:
— А теперь, когда осталось проехать совсем чуть-чуть, решаешь меня бросить? И тебе хватает наглости называть меня странной?
Первый проблеск логики за сегодня, думаю я о Клэр, и отвечаю:
— Я тебя хотя бы не лапал.
Клэр расстегивает верхние пуговицы на своей черной блузке и просовывает под нее мою руку. Я понимаю, что на Клэр нет бюстгальтера. Силикона в ее груди меньше, чем было три года назад.
— А так ты готов поехать со мной?
Клэр какая угодно мисс, но только не Мисс Занудство, думаю я. Моя Сэнди ошиблась с прозвищем для своей сестрички — такое бывает редко.
— Я же уже щупал твою грудь, — говорю я Клэр.
Моя ладонь проходит путь от искусственного загара на коже до кожаного руля.
— Ничего особенного в твоей груди нет, — добавляю я и спрашиваю:
— Чего же ты хочешь этим добиться? Переспать со мной? Или это пресловутое «начать все сначала»?
Я презрительно усмехаюсь, произнося последнюю фразу, и мой смех неприятен мне самому.
— Ты со мной не поедешь? — спрашивает Клэр.
Я не хочу говорить очевидные ответы. Я опять растягиваюсь над Клэр, опять открываю дверь, говорю:
— Выходи. Поймаешь трамвай.
Я вспоминаю, что Папочка подарил Клэр Линкольн Таун Кар 98 года на ее двадцать восьмой день рождения, и спрашиваю, как он.
Клэр не отвечает. Она всматривается куда-то вдаль, будто кого-то или что-то ищет. И, как назло, не спешит покидать мой Форд Фокус. И плевать, что это ее подарок, машина по факту моя.
Мисс Занудство умерла, да здравствует Мисс Заноза-В-Заднице.
— Я изначально поехал лишь потому, что Сэнди не наплевать на тебя.
Все-таки я говорю очевидный ответ.
Какой-то хипстер с рыжей бородой и розовыми, совсем уж девчачьими наушниками выползает из ближайшего к нам дома. Клэр провожает его взглядом и спрашивает у меня:
— Ты не передумаешь?
— Нет.
Клэр поворачивается ко мне лицом, улыбается совсем уж зловеще — и бьет себя кулаком по лицу. Его тело выпадает из открытого кабриолета на тротуар.
Хипстер в розовых наушниках, размер которых позволил бы ему прозевать двенадцатибальное землетрясение, поворачивается к моему кабриолету. Он подбегает к упавшей Клэр. Она приподнимает голову, что-то пытается сказать, но ничего не говорит, так как хипстер бьет ее кулаком по лицу, и бьет сильно, не так, как била себя сама Клэр.
— Что ты творишь, идиот? — в шоке спрашиваю я.
В первый раз вижу агрессивного хипстера.
Хипстер ударяет по лицу Клэр еще три раза, затем поворачивается ко мне. Его глаза что-то ищут, наушники болтаются на шее, громко играет индитроника.
— Это сделал ты? — спрашивает хипстер и бьет себя по лицу, затем падает спиной на Клэр.
— Что за херня? — спрашиваю я вслух.
Этой фразы недостаточно, чтобы честно описать все то, что со мной сегодня произошло.
Я выбираюсь из машины, подхожу к двум телам, оттаскиваю хипстера от Клэр и в сердцах пинаю упавшие с его шеи розовые наушники. Индитроника перестает играть.
А я перестаю стоять на ногах.
Уже прислоняясь щекой к холодному асфальту, я понимаю, что меня ударили по затылку, и ударили больно.
Но понимание это длится недолго…
Латекс
Я открываю глаза — и закрываю вновь. Думаю, что этот страшный сон продолжается.
Проходит несколько минут. Я понимаю, что это не сон. Все-таки не сон — во сне руки не могут так отекать.
Спустя какое-то время я понимаю, что где-то вешу. Чувствую ремни на запястьях. И на щиколотках тоже. Под спиной что-то твердое, деревянное — как поверхность стола. Однако я вешу вертикально, и вешу абсолютно голым. Я чувствую под членом какую-ту кнопку. Я не решаюсь на нее нажать — да это и невозможно, без рук и ног по кнопке можно только постучать. Мне кажется, что где-то звонит мой телефон, и звонит моя Сэнди, хочет спросить, где я и что происходит. Я и сам хочу узнать ответы на эти вопросы, чтобы все передать Сэнди, ничего не скрывая — если такая возможность появится, разумеется. Моя Сэнди поверит мне — она чувствует, когда я говорю правду и, к счастью, не всегда чувствует, когда я вру.
Мои ноги раздвинуты, руки подняты верх. Я ощущаю себя звездой — но не звездой типа Джима Моррисона. Мне, кстати, уже тридцать, его я пережил. Но надолго ли?
Я ощущаю себя звездой, сгоревшей звездой, темной точкой на темном небе. Я решаю открыть глаза…
Красноватый мрак флуоресцентных ламп отражается на черных стенах. В центре комнаты — пентаграмма, выведенная белым мелом на полу. В центре пентаграммы — канделябр с тремя горящими свечами. Одна уже наполовину сгорела, ее воск капает на пол. Две другие, по всей видимости, только что зажгли. Но в комнате никого нет.
Я смотрю вниз и вижу кожаные ремни. Их чувствуют мои кости, ремни впиваются в мое тело… тело, которое приковано, насколько я могу судить по красным линиям, к другой пентаграмме, нарисованной на стене. Меня собираются принести в жертву сатане, или кому-то просто нравится меня пытать, пытать изощренно, видеть в своей пытке искусство…
Искусствовед?
Я уже не сомневаюсь, что это он. И мозги на коврике цвета Сэндиной накидки тоже его рук дело. Осталось привязать ко всему этому поведение Клэр и незнакомого хипстера — и можно умирать хотя бы с каким-то пониманием смысла своей смерти. Я хочу увидеть лицо искусствоведа, чтобы плюнуть в него. Но в комнате никого нет.
Я вешу на пентаграмме и жду. Вешу и жду. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем дверь открывается.
В комнату входит женщина в латексе. Она запирает дверь на ключ, подходит ко мне и спрашивает:
— Хочешь есть?
— Чего?
Женщина в латексе бьет кулаком мне в нос. Кровь течет по подбородку. Я хочу его вытереть, но вовремя вспоминаю, что я распят на пентаграмме. Я смотрю на лицо женщины в латексе и только сейчас понимаю, что она в маске. Все ее тело — один сплошной латекс, ни миллиметра кожи, только черные волосы опускаются за спину. В тусклом свете ламп и свеч до меня доходит, что эти волосы могут принадлежать Клэр, но голос женщины в латексе слишком низкий. Высокие и не женственные интонации Клэр я бы узнал среди сотен других высоких и не женственных интонаций.
— Хочешь есть? — вновь спрашивает женщина.
— Нет, — отвечаю я и зажмуриваюсь.
Но женщина в латексе меня не бьет. Она удовлетворенно кивает, затем спрашивает.
— Может, съешь что-нибудь?
Я понимаю, что нахожусь не в том положении, когда на женщину можно смотреть как на полную дуру, поэтому я смотрю в пол и отвечаю, что уже ответил на этот вопрос.
Женщина в латексе опять бьет кулаком, и после того, как сводящая челюсть боль отступает, я отвечаю:
— Да, я хочу есть.
Женщина в латексе бьет каблуком мне в колено — я мысленно благодарю ее, что не в пах.
— Какой ответ вы хотите услышать? — спрашиваю я и сплевываю кровь.
— Правильный, — отвечает женщина и опять бьет по тому же колену.
Я не выдерживаю и вскрикиваю от боли. Женщина в латексе делает пару кругов вокруг пентаграммы на полу, останавливается, берет свечу, ту, что сгорела наполовину, подходит ко мне и говорит:
— Придется начать все сначала. Хочешь есть?
— Нет? — решаю ответить я.
Женщина в латексе удовлетворенно кивает, и я радуюсь, что на мое тело не капает воск по причине вопросительной интонации в ответе.
— Может, съешь что-нибудь?
Кажется, я начинаю понимать, что хочет услышать женщина в латексе. Я должен назвать ей определенный ответ. «Нет» и «да» не подходят, поэтому ответ может быть абсолютно любым. Но возможно, женщине в латексе важна точность ответа, а не его суть? Ведь одним из моих ответов был «да, я хочу есть», а женщине в латексе, возможно и, надеюсь, что так оно и есть, нужно просто «да».
— Да, — отвечаю я и получаю каплю воска на грудь.
Я стараюсь не орать от боли, и у меня получается. Ужас от возможной боли в дальнейшем страшнее той боли, что я испытываю сейчас.
— А где еда? — спрашиваю я, подумав, что попал на изощренный тест по логике.
Еды и вправду нет. Зато есть очередная капля воска, повисшая в волосах моей груди.
— Придется начать все сначала, — говорит женщина в латексе, говорит без эмоций, как робот. — Хочешь есть?
— Нет.
— Может, съешь что-нибудь?
Я задумываюсь, и задумываюсь надолго, надеясь, что долгое молчание не станет для женщины в латексе поводом для пинка в колено или капли воска на грудь. Вариантов ответа множество, поэтому шансов избежать новой боли у меня практически нет. Я решаю ответить первое, что приходит в голову.
— Я не голоден.
Новая капля воска — и уже на бедре, совсем рядом с членом. Я понимаю, куда целилась женщина в латексе, и надеюсь, что она не станет исправлять свою неточность.
— Близко, но не то, — говорит она. — Придется начать все сначала. Хочешь есть?
— Нет.
— Может, съешь что-нибудь?
Я использую подсказку и отвечаю — отвечаю с уверенностью, что отвечаю правильно:
— Я не хочу есть.
Женщина в латексе тянется к моему члену и нажимает на кнопку, что находится под ним. Стена с пентаграммой начинает вращается. Я снова радуюсь, что женщина в латексе щадит мое хозяйство…
— Совсем близко, но все равно не то. Еще раз.
…и дает мне подсказки…
Я испытываю почти благодарность к женщине в латексе. Теперь я понимаю, для каких ощущений соглашаются стать сабмиссивом в БДСМ.
Пентаграмма делает пять полных оборотов и останавливается. У меня кружится голова. Женщина в латексе не теряет время и спрашивает то же самое, повторяет как мантру. Я отвечаю «нет» на первый вопрос и беру паузу перед ответом на второй. Я уже совсем близко, если женщина в латексе меня не обманывает.
— Спасибо, я не хочу есть.
Женщина в латексе сует в мою руку почти догоревшую свечу.
— Машина стоит во дворе, — говорит она. — Одежда и другие принадлежности лежат в ней нетронутыми.
Я вопросительно смотрю на свечу в своей руке. Женщина в латексе видит мой взгляд и добавляет:
— Освободишься с помощью огня.
Женщина в латексе идет к двери, на ходу спрашивает:
— Днепр далеко от Киева находится?
— Река или город? — переспрашиваю я.
Женщину в латексе ответ не интересует, раз она оставляет меня одного в комнате. Мне до сих пор страшно, парализующий шок не покинул бы меня, если бы я вовремя не увидел, что гореть свече осталось совсем недолго. Я прижимаю горящий фитилек к ремню, воск обжигает мои пальцы, и в это время я гадаю, откуда женщина в латексе узнала, что я из Днепра.
Вино
Я вспоминаю реакцию Пауэерса на новость о моей женитьбе.
— Мои соболезнования, друг.
Моя женитьба никогда не вызывала у меня соболезнований. До сегодняшнего дня я плохо представлял себе, что такое соболезнование. Лишь сейчас я начинаю соболезновать самому себе.
Мои запястья пахнут горелым. Мое тело болит. Уже одетый, я веду машину по ночным дорогам и не понимаю, что со мной происходит. Как во сне, я приезжаю в Кастро.
Я вбегаю по ступенькам и останавливаюсь у двери. Света нет. Окна завешены, но если бы в доме был свет, я бы это понял.
Я стучусь в дверь. Вдруг Пауэрс просто дрыхнет.
Мне никто не отвечает. Нажимаю на звонок, стучусь в дверь, стучусь сильно и долго.
Мне никто не отвечает.
Я сажусь на ступени возле входа и начинаю курить. Мое тело дрожит. Мои руки отекли, пока я висел в подвале, и отек еще не прошел.
Я смотрю на вывеску магазина одежды «Бинко» и думаю о том, куда завела меня моя душная жизнь.
«Бинко» закрыли в этом году за неоплату аренды. Та же участь постигла многие магазины в Кастро. Пауэрс постоянно говорил, что этими магазинами владел один и тот же малоприятный тип с фамилией Ривьера, который спускал всю выручку на «черный» кокаин. Я уже успел представить черный порошок, но Пауэрс слегка разочаровал меня, сказав, что «черным» называют кокаин, у которого отсутствует какой-либо запах. У какого-то наркомана проблемы с бизнесом, где-то в Африке какой-то абориген поедает другого аборигена, а меня пытает женщина в латексном костюме. Чем мы трое, в сущности, друг от друга отличаемся? Наверное, только тем, что абориген и наркоман понимают, что с ними происходит, а я — нет.
Я кидаю окурок в пустую мусорную корзину возле дома Пауэрса и собираюсь уходить, но у меня звонит телефон.
Я задерживаюсь на пороге, смотрю на дисплей. Незнакомый номер. Я поднимаю трубку и спрашиваю:
— Кто это?
— Как тебя зовут?
Меня бросает в холод. Я узнаю голос женщины в латексе.
— Зачем ты меня пытала?
— Имя?
— Зачем пытать человека, имя которого ты даже не знаешь?
Короткие гудки. Я тупо смотрю на дисплей телефона. Пытаюсь набрать Сэнди, чтобы образно дать ей понять, что у меня небольшие проблемы, но затем передумываю. Не нахожу нужных слов. Я иду к машине, сижу в ней пару минут, смотрю в завешенные окна дома Пауэрса, жду неизвестно чего, затем завожу мотор и уезжаю прочь.
— Где ты был, дорогой? — спрашивает Сэнди.
Ее руки, холодные от воды, держат меня за запястья. В это время кончики моих обгоревших пальцев хватают всю влагу с холодных рук, какую только могут.
— Выключи воду, Сэнди.
Вода из-под крана отскакивает от грязной фритюрницы прямо в полупустую миску Гейси.
Сэнди закрывает кран, а я сажусь прямо на пол и чешу полусонного Гейси за ухом. Пальцы не болят от ожогов, это хорошо, но на своей груди и бедре я чувствую засохший воск.
— Видел картотеку с рабами?
Я пользуюсь тем, что Сэнди не всегда чувствует, когда я вру, и отвечаю:
— Называй Клэр не Мисс Занудством, а Мисс Занозой-В-Заднице.
— Это почти одно и то же, — улыбается Сэнди.
— В общем, она мне назвала какой-то адрес, уже не помню какой, мы приехали туда, и она решила устроить мне ужин при свечах. Я не изменял тебе, — тут же добавляю я, — я хотел убежать оттуда, и когда бежал, я ненароком задел ее дурацкие свечи. — Я показываю ей свои пальцы, ожоги, к счастью, почти не видны.
— То есть списки с рабами ты пропустил?
— Да, — просто отвечаю я.
— Но тебя долго не было.
Мне стыдно, что я обманываю свою Сэнди, и обманываю достаточно глупо, без вкуса, но радуюсь, что с этого момента получаю возможность говорить честно.
— Пауэрс пропал, — говорю я. — На звонки не отвечает, дома его нет.
Сэнди смотрит на меня с волнением. Над фритюрницей пролетает тощая муха.
— Думаешь, дело в искусствоведе?
— Надеюсь, что в нем. Это многое бы объяснило.
— Надеешься? — Сэнди удивляется.
— Лучше пусть это будет один враг, имя которого ты знаешь, чем…
Я вздыхаю.
— Ты уловила суть.
Сэнди согласно кивает.
— Я об этом не задумывалась, но ты прав.
Она поворачивается к раковине, включает воду и принимается за фритюрницу. Если бы фритюрница была живой, с сознанием, даже при этих условиях, она, фритюрница не могла бы вспомнить, когда ее в последний раз мыли. Я и сам не помню, когда в последний раз ел картошку. Сэнди, думаю, тоже.
Гейси трется о ноги Сэнди. У моей Сэнди лосины достают до коленей. Ее бледная кожа — самая приятная кожа в мире. Лучше, чем кожа Клэр с липким искусственным загаром. Самая солнечная женщина на свете не любит солнца и постоянно его избегает.
— Нам надо уехать на пару дней, — говорю я.
Мне неприятно это говорить, потому что есть только одно место, где меня и мою Сэнди примут на время большее, чем для обычной вечеринки.
— Ты готов терпеть моего Папочку? — Сэнди улыбается.
Я знаю, под ее приятной кожей сейчас прячется не самый приятный вид волнения, но моя Сэнди всегда умела его скрыть.
— Обстоятельства вынуждают его терпеть, — говорю я.
В поместье Папочки всегда много солнца. Самая солнечная женщина на свете относится к солнцу так же, как я к Папочке.
Гейси что-то мурлычет.
— Было бы неплохо знать, что за обстоятельства, — добавляю я, поднимаюсь с пола и иду к шкафчику, где хранится кошачий корм.
Сэнди меня опережает. Она нежно наступает мне на ногу. Голая щиколотка трется об мою ногу, как Гейси терся об ее.
— Я сама. — Сэнди улыбается мне в глаза.
Я целую ее в губы.
Гейси мурлычет опять. Затем еще раз. А потом еще. Я отпускаю Сэнди. Та говорит коту со злостью:
— Подождешь! — Злость моей Сэнди добрее всякой добродетели. — Уже забыл, как уничтожил мой ковер?
— Я думаю, что он и не помнил, — говорю я. — Он же кот.
— Этому коту надо бы оторвать яйца. — Сэнди насыпает в миску корм, а не понимающий угроз Гейси благодарно на нее смотрит. Моя Сэнди выпрямляется, я говорю:
— С утра соберем вещи или лучше вечером?
— Надо же позвонить Папочке, разве нет?
— У нас нет выбора, дорогая. Это значит, что у Папочки нет выбора тоже.
Сэнди вздыхает.
— Все настолько серьезно? Думаешь, искусствовед не успокоится?
— Пока Пауэрс не объявился, лучше относиться ко всему серьезно.
Сэнди опять умудряется улыбнуться, она говорит:
— Надо бы Гейси оставить корм про запас.
Я киваю и говорю:
— Я поднимусь наверх, приготовлю кое-какие вещи.
— Окей, я позвоню твоему любимому тестю.
Но пока моя Сэнди возвращается к фритюрнице, которая, будь у нее сознание, возрадовалась бы от того, что о ней вспомнили.
Папочка производит вина. Домашние вина. Я всего лишь раз был на виноградниках Папочки, и, признаться, мне этого хватило. Вино, конечно, очень вкусное, но Папочка… Даже Сэнди кажется не такой прекрасной, когда Папочка рядом.
Мы подъезжаем к высокому забору. Не менее высокий мордоворот в черном пиджаке что-то говорит в свой наушник, и ворота перед нами раскрываются. Я паркую Форд Фокус рядом с коллекционным Роллс-Ройсом 53 года. Я бросаю взгляды на девушек, которые топчут виноград где-то в поле. Каждая, как одна, стройная и черноволосая, поворачивается в дубовых бочках — то попадает на свет солнца, то уходит в тень.
— Тетя Лорен в молодости была блондинкой? — спрашиваю я у Сэнди.
— Да. Почему ты спросил?
После смерти матери Сэнди я не вспоминаю о ней вслух — я почему-то решил, что Сэнди будет расстраиваться от этого. А сейчас — Сэнди удивляется, когда я вспоминаю о тете Лорен. Я не отрываюсь от девушек на виноградниках и думаю о том, куда завела меня моя душная жизнь.
— Олег?
Я возвращаюсь к реальности.
— Просто Папочка любит брюнеток, — говорю я и указываю на девушек.
— Не говори об этом Папочке, — советует Сэнди. — Он и так не в настроении.
Вчера Сэнди позвонила Папочке и предупредила его о нашем визите. Чтобы там Папочка не кряхтел по телефону, самую важную фразу он произнес — поэтому у меня и Сэнди есть два дня для свежего вина.
Про себя я надеюсь, что наш домик в Пасифик Хайтс не навестит женщина в латексе. Там остался Гейси, я за него волнуюсь. Перед моими глазами мелькают мозги на коврике. Я натыкаюсь глазами на белую дверь с золотым декором.
— Долго мы будем топтаться у двери? — спрашивает Сэнди и улыбается.
Моя Сэнди частенько улыбается, когда чувствует мою неловкость, связанную с Папочкой. Она думает, что чувствует ее и сейчас, но нет — во мне не неловкость, а страх. В уме я пытаюсь сложить мозги, женщину в латексе, искусствоведа и пропажу Пауэрса в одно уравнение.
— Идем, — говорю я Сэнди, и Сэнди открывает дверь.
Папочка сидит в гостиной. Он курит сигару, попивает собственное вино и смотрит телевизор. Типичный папочка для многих — но только у немногих в доме покрытые позолотой лестничные перила, гаванские сигары и собственные вина. Папочка поворачивается к нам. Я киваю — более теплое приветствие выжать из себя я не в состоянии. Сэнди подходит к нему, целует в щеку и желает ему здоровья. Папочка что-то кряхтит в ответ и попыхивает сигарой.
Возле, наверное, стосемнадцатидюймовой плазмы стоит фотография тети Лорен в темной рамке. Когда-то ее поставила Сэнди, Папочке такое и в голову бы не пришло. Я знаю, что теплые отношения Папочки и тети Лорен были теплыми только для их многозначительных родственников. Папочка развлекался с молодыми девицами еще при живой тети Лорен — не мне его судить, конечно, но не думаю, что Папочка изменил себе и после ее смерти.
Папочка кряхтит что-то недовольное, я так понимаю, что он обращается ко мне. Странно, но нет — он спрашивает у Сэнди, зачем мы здесь.
— Вам не хватает денег? — Я разбираю, и разбираю с трудом только эту фразу Папочки, зато отчетливо понимаю, что в этой фразе скрывается злорадство.
Я про себя спрашиваю, как этот семидесятилетний старик, который не может даже членораздельно говорить, способен удовлетворять молодых девиц? Виагра творит чудеса? Затем спрашиваю себя — будь я молодой девицей, лег бы я под осыпающееся песком бесформенное тело Папочки ради его денег? Сэнди тем временем врет, что в нашем домике проводят детоксикацию от огненных муравьев. Папочка грузно поворачивается на диване, затем поворачивается еще раз, только после этого встает и уходит в туалет. Даже не удостаивает меня своим недовольным взглядом — я-то радуюсь, конечно, но это странно.
Похоже, это замечает и Сэнди.
— Совсем обрюзг, — говорит она без грусти.
Она не особо любит своего Папочку — конечно, не ненавидит его, в отличие от меня, но не любит однозначно. Не любит — пожалуй, самое верное определение. Папочка обожает свою старшую дочь Клэр за то, что она занимается ювелирным бизнесом и удачно инвестирует Папочкин капитал в полутеневые кампании — чего нельзя сказать о «бесполезной мазне» Сэнди, которая, вдобавок, подобрала за Клэр ее нищего «славянского мигранта»… Хорошо что мне хватает ума не цитировать Папочку при Сэнди — иначе ее «не любит» стало бы сопоставимо с моим «ненавидит».
И Клэр… Что с ней? О ней я умудряюсь не думать — наверное оттого, что я забыл включить ее в уравнение «мозги + женщина в латексе + искусствовед + пропажа Пауэрса =?».
Но сейчас я о ней вспоминаю, и пока Папочки нет рядом, говорю Сэнди, что нужно ей позвонить.
— Мисс Занудство? — Сэнди возводит глаза к потолку — к потолку с четырьмя хрустальными люстрами. — О нет…
— Я волнуюсь за нее, — честно говорю я.
И правда, как бы меня не бесила Мисс-Заноза-В-Заднице, я чувствую, что поступаю правильно. Сэнди должна позвонить Клэр. Вряд ли Клэр скажет Сэнди, что между нами было, но я со слов Сэнди смогу понять, сохраняется ли странное поведение у Клэр или нет. Может, у нее действительно бред отрицательного двойника, глупо думаю я.
Папочка возвращается из сортира. Сэнди тут же говорит ему правильные слова:
— Мы с Олегом не хотим отвлекать тебя от телевизора, можно мы прогуляемся по твоим виноградникам?
Под телевизору шел какой-то черно-белый детектив. Картинка подрагивает, пленка шумит. Я удивляюсь, что это фильм со звуком, причем звуком более членораздельным, чем тот, что у Папочки зовется речью.
Папочка, может, оставил бы меня на съедение своим старым глазам, но не в день, когда показывают довоенные фильмы. Мы с Сэнди покидаем дом и отправляемся к винограднику, вдоль забора с живыми охранниками и живой изгородью.
Я напоминаю Сэнди, что нужно позвонить Клэр.
— Ты мне что-то не договариваешь?
— Хм?
— Да. Клэр себя так не ведет. Ужин при свечах. Картотека с рабами… Это какой-то бред.
— Я думаю точно так же и поэтому волнуюсь.
Сэнди останавливается возле бочек. Она приветливо улыбается девушкам, топчущим виноград, те улыбаются ей.
— Я напишу Клэр в hooklove, — говорит Сэнди. — У всех незамужних женщин есть там аккаунт.
Сэнди немного лукавит — аккаунт в hooklove есть даже у меня. Hooklove это больше, чем сайт знакомств. Сейчас люди зависимы от него гораздо сильнее, чем от потребления. Что-то уберегает меня и Сэнди от этой зависимости. Сэнди, наверное, спасает ее творчество. А меня, наверное, спасает Сэнди. Я киваю ей головой.
— Хорошо. — Сэнди достает телефон. — Черкану ее пару слов…
Она черкает пару слов, убирает телефон в карман, но к ее ногам падает другой телефон.
Одна из девушек выпрыгивает из бочки и подбегает к телефону. Подбирает, смотрит на дисплей. Остальные девушки недовольно на нее смотрят.
Девушка с телефоном натыкается взглядом на нас с Сэнди и мигом соображает, что натыкается на родственников Папочки.
— Это брат, он сейчас болеет, — оправдывается девушка.
Сэнди сочувственно качает головой и говорит.
— Поговори со своим братом, а я пока займусь виноградом.
Девушка смотрит на Сэнди взглядом, которым ребенок награждает пожарного, вытащившего из огня маленького котенка.
— Спасибо большое. Не знаю, как и благодарить вас…
— Не благодари, говори с братом сколько нужно, — говорит Сэнди.
Девушка кивает и отходит в сторону. Сэнди снимает босоножки, отдает мне свою серую накидку и становится в бочку с виноградом.
— Не волнуйтесь, ноги у меня чистые, — говорит Сэнди другим девушкам.
Сэнди не может просто давить виноград — она начинает танцевать. Поворачивается вокруг оси, улыбается, что-то напевает, улыбается. Девушки по соседству невольно веселеют и как-то бодрее перебирают ногами. Я не свожу с Сэнди глаз. Я не могу думать о мозгах и женщине в латексе, когда моя Сэнди радуется жизни.
Девушка, у которой больной брат, проходит мимо меня. Я успеваю заметить, что в глазах девушки стоят слезы. Девушка подходит к бочке, где танцует Сэнди, благодарит ее и говорит, что дальше она сама.
— Нет, дорогая, я вошла в ритм, — отвечает Сэнди, делает очередной круг, потом останавливается. Замечает то, что я уже заметил.
— Что-то серьезное? — спрашивает Сэнди.
Девушка не сразу понимает, о чем речь, но затем смахивает слезы и отвечает:
— Нет, все хорошо.
— Люди, у которых все хорошо, плачут по-другому.
Девушка вздыхает. Полоса из виноградных следов за ее спиной начинает напоминать мне кровь.
— У моего брата лейкемия, — говорит девушка. — Ему нужны деньги на операцию.
Сэнди замирает в бочке. Другие девушки не останавливаются — по всей видимости, они обо этом знают.
— Поэтому ты работаешь здесь? — спрашивает Сэнди.
Девушка кивает.
— Сколько тебе платят?
— Семьдесят долларов в день.
Сэнди возмущенно стучит ногой. Виноградный сок попадает ей на блузку.
— Это же очень мало! Он в состоянии потратить огромные деньги на ресторан в Хосе, но не в состоянии помочь бедной девочке?
Разумеется, моя Сэнди имеет в виду Папочку.
Девушка шмыгает носом и говорит:
— Я заработаю. Все честно. Не хочу быть никому обязанной.
— Дело в другом. Лучше сделать доброе дело, чем инвестировать в бессмысленную роскошь. Правда, Олег?
— Правда, — искренне (но без фанатизма) соглашаюсь я.
Сэнди слезает с бочки. Виноградные отпечатки ее ног шлейфом следуют за ней.
— Как тебя зовут? — спрашивает она у девушки.
— Тая. Тая Фингертипс.
— Вот что, Тая, сейчас ты и я, мы вместе пойдем к мистеру Ашесу и попросим, даже потребуем у него деньги на операцию.
Никогда не воспринимал Папочку как мистера Ашеса. Из него же сыплется песок, а не пепел.
— Может, лучше не стоит? — пугается Тая.
Тая выглядит так молодо, что кажется мне несовершеннолетней. Сэнди ободряюще ей улыбается, и она тихонько кивает головой.
— Олег, дорогой, ты с нами?
— Да. И… попробую еще раз позвонить Пауэрсу.
— Хорошо.
Сэнди и Тая идут впереди, я отстаю и слушаю длинные гудки. После уверенной поступи Сэнди и скованных шагов Таи остаются одинаковые виноградные отпечатки, трубку никто не поднимает. Девушки продолжают работу на солнцепеке, трубку никто не поднимает. Тая ищет, обо что можно вытереть ноги, но Сэнди хватает ее за локоть и ведет к двери.
Трубку никто не поднял.
— Что за вздор ты несешь?
— Жизнь человека — это вздор?
— Почему вы не вымыли ноги?
— Па…
— Сэнди, ты что, топтала виноград?
Кричит Папочка всегда отчетливо. Когда ему что-то надо, он перестает кряхтеть.
— А что, это запрещено? — спрашивает Сэнди.
Папочка кряхтит, что в топтании винограда есть особая техника, и что только с этой техникой необходимо топтать его виноград, но Сэнди перебивает:
— Помоги девочке. Ты же не обеднеешь.
Папочка окидывает взглядом Таю, которая боязливо прячется за спиной Сэнди.
— Деньги надо зарабатывать, — кряхтит Папочка, — а не получать их просто так.
Сэнди повышает голос:
— Пока Тая будет собирать те крохи, что ты ей платишь, ее брат может умереть! И в чем смысл такого заработка?
Затем моя Сэнди бросает взгляд на совсем смутившуюся Таю и добавляет:
— Семьдесят долларов в день… Ну ты и скряга!
Папочка что-то кряхтит про хамство Сэнди, про то, что он воспитывал ее и Клэр одинаково, однако из Клэр выросла достойная женщина, а Сэнди занимается псевдоискусством и цепляет в подворотне всяких славянских нахлебников.
Разумеется, я познакомился с Сэнди не в подворотне. И разумеется, я не говорю Папочке, что вчера его Клэр пыталась передернуть мне в моей машине. Я просто киваю Папочке — к его выходкам я давно привык.
Сэнди говорит Папочке, что под старость Папочка останется один и в нищете. Клэр захватит своими загорелыми ручками бизнес Папочки и избавиться от него так же, как сейчас избавляется от конкурентов на ювелирном рынке. Разумеется, Папочка и сейчас не молодой, под «старостью» Сэнди имеет в виду то время, когда Папочка начнет ходить под себя. И разумеется, если учитывать характер Клэр, предсказание Сэнди имеет все шансы сбыться, поэтому Папочка против своей воли кряхтит, что подберет для Таи другой, более доходный способ заработка.
— Так бы сразу, — довольно отвечает Сэнди и идет на улицу, к бассейну, сполоснуть ноги. Тая возвращается к виноградникам — этот день, как я понимаю, ей придется доработать. Я тоже ухожу на улицу, чтобы не терпеть общество Папочки. Мне приходит сообщение в hooklove. Сообщение от Клэр. Я удивляюсь. Читаю сообщение, в котором Клэр во всех языковых изысках описывает, как же хочет меня. Этому я уже не удивляюсь.
5
Вечером служанка Папочки по имени Венди зовет меня и Сэнди к обеденному столу. У служанки тоже черный цвет волос, как у Таи, как у всех топтуний винограда, и я думаю, что у Папочки чересчур подчеркнутая любовь к брюнеткам.
Покойная тетя Лорен была блондинкой.
Клэр — брюнетка. Женщина в латексе — брюнетка. Я не знаю, в чем здесь связь, но брюнетки, определенно, приносят мне несчастье.
Таю тоже зовут к обеденному столу. Папочка становится добрее — слова Сэнди, видимо, оказали на него необходимое воздействие. Тая тоже брюнетка, и довольно милая, она никак не может принести мне несчастье, так что гипотезу о коварности брюнеток я мысленно и пока только на время разрываю в пух и прах.
Служанка подносит домашнее вино. То, что год, а может и два, настаивалось в подвале Папочкиного подвала. Тем временем в hooklove Клэр пишет, что мне и ей нужно срочно увидеться. Я просто отключаю интернет в телефоне и берусь за говяжью отбивную. Папочка терпеть не может свинину.
— Как тебя зовут? — спрашивает Папочка у Таи, и спрашивает, наверное, раз в третий.
— Тая.
— Тая… А фамилия?
— Фингертипс.
— Странная фамилия, — говорит Папочка и запивает какого-то моллюска собственным вином.
Да, Папочка деликатностью не отличается.
— Завтра будет ответ, — добавляет Папочка и отхлебывает еще вина. — Мои компаньоны готовят новый проект.
Никаких пояснений — трапеза продолжается в молчании. Папочка ничего не поясняет, когда рядом находится «славянский нахлебник». Я считаю часы, я хочу вернуться в наш с Сэнди домик на Пасифик Хайтс. Хочу почесать этого пушистого засранца Гейси за ухом. Конечно, перспектива быть вновь повешенным на пентаграмме меня не устраивает, но это лучше, чем ходить под тенью Папочки. Серьезно. Два дня в одном с ним доме длятся как две недели в Сан-Франциско. Я подумываю назначить встречу с искусствоведом — я все еще считаю, что мозги на пороге нашего с Сэнди дома, оказались по его вине — но контакты искусствоведа находятся у Пауэрса. А вот где находится сам Пауэрс?
Можно, конечно, воспользоваться влиянием Папочки, и через какого-нибудь знакомого из ФБР, который наверняка у Папочки имеется, выяснить о Пауэрсе все, что только можно выяснить. Папочка не обеднеет, как любит говорить Сэнди. Но, опять же, лучше я окажусь вновь привязанным к пентаграмме, чем окажусь в долгу перед Папочкой. Можно, конечно попросить Сэнди поговорить с Папочкой о поисках Пауэрса… но мы и так обязаны многим Папочке… Мы два дня проведем в его доме. И это уже очень многое.
Мы собираемся уезжать рано вечером. Я курю «Clyde’s Heaven» возле бассейна и смотрю, как Сэнди и Тая прохаживаются вдоль забора. Моя Сэнди подружится даже со змеей — подружиться с милой девушкой, такой, как Тая, все равно что для меня выкурить очередную сигарету.
Тая уже не работает на виноградниках. Я не знаю, какую должность она получила у Папочки, но в порядке безобидного любопытства было бы неплохо узнать.
Мне приходит сообщение в hooklove.
«Я хочу тебя трахнуть как животное»
От Клэр, само собой.
Я хочу ткнуть сообщение Папочке в морду — но Сэнди меня учила перенаправлять свою агрессию на что-то более приятное, пусть даже на то, что в данный момент кажется ненужным. Золотые слова… Я «перенаправляю» агрессию, подхожу к Сэнди и Клэр. Сэнди курит, Тая ей что-то рассказывает — она уже не кажется такой тихоней, какой казалась вчера. Но увидев меня, Тая смущенно прерывается, но Сэнди, улыбаясь, говорит:
— Не волнуйся, мистеру Ревности можно доверять.
— Мистер Ревность? — Тая смотрит на меня и не знает, улыбаться ей или нет. — Но мы же… мы не…
— Конечно, вы не, — смеется Сэнди. — У Олега прозвище такое. Я его сама придумала. Поводов так называть Олега нет, но с другой стороны, может, мне тоже уже не идет имя Сэнди. Это же не повод называть меня по-другому? — Сэнди смотрит на Таю.
— Наверное, не повод, — соглашается Тая. — Ты же Сэнди, — она смотрит на рыжую половину волос, — Ашес, — она смотрит на серую половину.
— Сразу сообразила, молодец! — Сэнди игриво смотрит на меня. — Мистер Ревность догадывался неделю, и не догадался бы без моих подсказок.
Я улыбаюсь своей Сэнди и спрашиваю у Таи:
— Куда тебя устроил, Пап… мистер Ашес?
— Папочка, — поправляет Сэнди. — Тая знает, ей нравится.
Тая опять смущается:
— Он свяжется с каким-то министром — или прокурором. Мистер Ашес не знает, кто первым ответит, но у того, кто первым ответит, я и буду первой помощницей.
— Секретарь? — уточняю я.
— Думаю, да.
Тая краснеет. Впору создавать шкалу по степеням красноты на ее милом лице. Уже 8 из 12. Личико уже похоже на вишенку, но я откуда-то знаю, что для Таи это не предел.
— Мне Сэнди рассказывала, чем вы занимаетесь, — говорит Тая. — Рисуете картины. Должно быть, это здорово.
— Ага, — соглашаюсь я. — Только рисует Сэнди, а я ее представитель.
— Промоутер, — поправляет Сэнди.
— Точно.
Хорошо, что моя Сэнди умалчивает о нашем бизнесе по созданию реплик, думаю я.
Снова вспоминаю мозги. Снова вспоминаю женщину в латексе.
— Тебе, Тая, надо побывать в нашей студии, — говорит Сэнди. — Увидишь, что живопись — труд тяжелый, но приятный.
Тая кивает головой, с уважением — так кивают, когда отказываются во время застолья от добавки.
— Моя последняя картина называется «Последнее человечество». Ты мне очень понравилась, Тая, хочу, чтобы ты одна из первых ее увидела.
— Приму это за честь, — улыбается Тая.
А я впервые слышу, что Сэнди все это время работала над своей собственной картиной.
Рано вечером мы приезжаем в студию, где рождаются творческие демоны Сэнди. Я радуюсь, что избавился от общества Папочки. Моя Сэнди радуется моей радости.
Сейчас где-то восемь часов. Тая успела позвонить и с извинениями сообщить, что ей не удастся увидеть «Последнее человечество». Папочке позвонил министр — или прокурор — поэтому Тая осталась у Папочки в ожидании своей новой работы.
Сэнди говорит, что ей не терпится узнать, что же это за работа такая. Я говорю, что мне тоже.
Сэнди показывает мне свою картину. Нарочито небрежное полотно, на нем — розы, заточенные в выложенные на грязи камни, под камнями — грязные сплющенные сломанные розы.
— Символ внутреннего добра, — Сэнди указывает на розы, — правды, — указывает на камни, — зла и лжи каждого человека, живущего на земле, — указывает на грязь. Про сломанные розы ты и сам все понял.
Я искренне говорю, что понял и что картина получилась просто великолепной.
— Красота делает ненужное нужным, — говорю я — я знаю, что Сэнди любит, когда заявляют о бесполезности искусства, как о самом важном его достоинстве.
Сэнди целует меня.
— Во лжи утопает все добро, она пачкает ту оболочку правды, в которой все добро и спрятано, — добавляю я с намеком на то, что мое восхищение картиной вызвано блестяще воплощенным в жизнь замыслом Сэнди, а не моим желанием получить от нее поцелуй.
Сэнди целует меня еще раз и говорит:
— Надо идти домой. Гейси, бедняжечка, там уже воет на луну.
Я знаю, что котики в представлении Сэнди видят луну даже при дневном свете. Я не считаю нужным лишний раз говорить об этом вслух. Я киваю Сэнди, и мы возвращаемся в наш домик на Пасифик Хайтс…
…где Гейси, наш пушистый засранец, мирно спит возле пустой миски. Сэнди притворно огорчается и насыпает котику много сухого корма. Пушистый засранец тут же просыпается.
Я выхожу в интернет и вижу в hooklove двадцать пять сообщений от Клэр. Хватит это терпеть, думаю я, и говорю Сэнди:
— Я покурю на улице.
— Я тоже.
Мы вместе курим на улице. В три затяжки я скуриваю не самые лайтовые «…Heaven», затем говорю:
— Мне надо отойти, — и указываю на ту часть стены, за которой скрывается ванная комната, сдвоенная с туалетом.
— Я поняла, мог бы не указывать, — улыбается Сэнди, и спустя мгновение я запираюсь в ванной комнате. Набираю номер Клэр и шепотом рычу — рычу примерно так, как рычит Гейси, когда его голодного гладят, а не кормят.
— Ты с ума сошла? Что с тобой происходит? Ты ни на чем не сидишь?
— Если я скажу тебе правду, ты не поверишь, — отвечает Клэр, и отвечает неожиданно грозно.
— К чему все эти сообщения, ты же знаешь, что кроме Сэнди мне никто не нужен…
— Я это знаю. Но не знаю, как еще привлечь к себе внимания…
Затем, видимо, задумывается.
— Приезжай в дом Пауэрса завтра. В любое время. Он будет дома.
Я уверен, что сферы деятельности Пауэрса и Клэр, равно как и их характеры, настолько разные, что даже с учетом их общего знакомства со мной и моей Сэнди, им просто не суждено пересечься в этом мире.
— Откуда ты знаешь Пауэрса? — спрашиваю я в недоумении.
Клэр не отвечает. Не отвечает долго.
— Клэр?
Только после моего вопроса Клэр вешает трубку.
Я еще долго смотрю на себя в зеркале, на свои волосы, торчащие вверх от обилия геля для укладки волос — торчащие вверх и в разные стороны, все, как любит Сэнди. Смотрю на себя и думаю, почему моя Сэнди и Клэр, являясь родными сестрами, столь непохожи друг на друга. И тут же себе отвечаю, объясняю их непохожесть унаследованным Сэнди изяществом тети Лорен при полном отсутствии Папочкиного кретинизма — и полным отсутствием изящества тети Лорен у Клэр при унаследованным Папочкином…
Продолжать не обязательно.
Я покидаю ванную комнату, иду на кухню и вижу расстроенную Сэнди с телефоном в руке. Я тут же вспоминаю о мозгах на коврике и женщине в латексе, прибавляю к этой чертовщине похотливый маразм Клэр и в испуге спрашиваю:
— Что случилось? Кто-то звонил?
— Тая, — тихо говорит Сэнди. — Ее брат… он серьезно болел…
— Да, я знаю. Ему стало хуже?
— Он умер.
Я не знаю, что сказать, да и в данной ситуации, думаю, будет уместнее промолчать.
— Тае уже не нужна новая работа, — Сэнди спокойна, стало быть, очень расстроена. — А Папочка… Папочка сказал ей, что менять что-либо поздно. Он договорился с министром или прокурором, и если Тая передумает, то он станет в их глазах посмешищем.
Я молчу. Тая, конечно, девочка милая, но не настолько мне близкая, чтобы мое сердце обливалось кровью от ее горя. Сэнди продолжает:
— Папочка говорит, что работа у Таи начнется завтра. А завтра ее брата будут хоронить.
Сэнди берет крохотную паузу, затем так же спокойно продолжает:
— Папочка разрешил Тае остаться в Америке еще на один день, для похорон. Потом Тае придется уехать в Иокогаму, в Японию — министр или прокурор, со слов Папочки, большую часть времени проводит там.
— Работа, должно быть, высокооплачиваемая…
— Да какая разница! Уже поздно. Брата уже не вернуть…
Я киваю головой и думаю о возможностях Папочки. Никогда не хотелось обращаться к нему за помощью, но можно же не просить помощи — можно, например, шантажировать… Низко, конечно, но вдруг один звонок Папочке разом решит все проблемы с Клэр, искусствоведом и всей этой связанной с искусствоведом — и в связи этой я не сомневаюсь — чертовщиной.
— Извини за цинизм, — говорю я, — ты сама сказала, что брата Таи уже не вернуть. А деньги нужны всегда. Каким бы Папочка не был, для Таи получить работу у министра или прокурора — шанс, извини за клише, выбиться в люди, а не стаптывать ноги на Папочкиных плантациях.
Сэнди недолго думает, затем говорит:
— Может, ты и прав, но, Олег, если бы ты волновался исключительно о деньгах, то ты не женился бы на мне, ты бы ориентировался на более успешную женщину — например, на Клэр.
Я киваю и думаю о похотливом маразме Клэр и заодно думаю, что циник из меня и вправду хреновый.
— Кое-кто и без Клэр считает меня славянским нахлебником.
Моя Сэнди находит в себе силы улыбнуться. Улыбка милая, как и всегда, дырочка между двумя передними зубами. Я радуюсь, что она не полностью погружена в чужое горе, и обнимаю ее.
Вилка
Новый день. Радостное солнце стучится в окна нашего домика на Пасифик Хайтс. Стучится напрасно — моя солнечная миссис Страсть не фанатка солнца, наши окна всегда завешены. Я просыпаюсь, вернее, меня будит Сэнди. Я протираю заспанные глаза и любуюсь своей миссис Страсть. Она одета в любимую и потому дырявую от буйства творческих идей серую накидку. Она говорит, и говорит спокойно, так она обычно говорит о не самых приятных вещах:
— Нам нужно найти Пауэрса. Иначе мне незачем идти в студию.
— Я могу и без Пауэрса сбывать картины. И в отличие от него, я буду не бурчать, а говорить с энтузиазмом.
— Это конечно так… просто… вдруг с Пауэрсом что-то случилось?
Я сажусь и беру Сэнди за руки.
— Тоже начинаю переживать, — говорю я. — На звонки не отвечает, дома его нет. Я, — вспоминаю о словах Клэр, — зайду к нему сегодня. Зайду вечером.
— Если его опять не будет, то что тогда? — спрашивает Сэнди, спрашивает без эмоций — к такой Сэнди я не привык и, надеюсь, никогда не привыкну.
— Не нужно загадывать наперед. Если его вновь не будет, я позвоню в полицию. Постарайся не задумываться на тему возможных «если».
— Постараюсь, — покорно говорит Сэнди. — Просто вчера… у Таи умер брат, и я еще вспомнила о картотеке с рабами от Клэр, которую, ты, кстати, так и не посмотрел. Плюс искусствовед… Все это очень странно…
— Странно, — соглашаюсь я и думаю — рассказывать Сэнди про женщину в латексе или нет.
Сэнди уходит в себя, уходит не так, как уходят творческие люди, а так, когда думают об омерзительных вещах.
— Не веди себя так, миссис Страсть! — Я шлепаю Сэнди по попе. — Происходит что-то странное, но объяснение этому наверняка найдется. А пока оно не нашлось, не вижу поводов для волнений.
— Ты так считаешь? — Задумчивость в голосе моей Сэнди перемешивается со скепсисом.
Я решаю ответить в стиле вдохновленной Сэнди.
— В темноте, конечно, можно споткнуться, но можно также наткнуться на розы.
Сэнди улыбается, улыбается, скорее, не от поднявшегося внезапно настроения, а от нелепости моей метафоры, и говорит:
— Разве что наткнуться на шипы. Даже самые красивые розы бесполезны в темноте.
Я решаю пояснить:
— Ты расстроилась из-за горя Таи, поэтому такое настроение вынуждает тебя думать о тех вещах, о которых ты в хорошем настроении никогда не подумала бы. И ты даже не знаешь, хорошие это вещи или нет — ты просто о них не знаешь.
Кожа на моей груди вздрагивает, словно бы вспоминает о горячем воске от женщины в латексе. Я на всякий случай добавляю:
— Того, о чем ты не думаешь, не существует. Думай о хорошем и не думай о плохом…
Я успокаиваю не Сэнди. Сэнди не нужно успокаивать, ее нужно дразнить. Я успокаиваю себя.
Сэнди долго смотрит на меня, смотрит таинственно. Такие взгляды я люблю, правда сейчас не знаю, радоваться ли любимой таинственности любимой или нет.
— Ты звучишь как начитанный ребенок, — говорит моя Сэнди.
Затем берет подушку и бьет ей меня по лицу. Это хороший знак. Удары подушкой лучше вдумчивого спокойствия, поэтому я беззаботно падаю на спину, падаю как вьетконговец, в которого выстрелил Рэмбо.
Сэнди берет из шкафа до сих пор пахнущее кондиционером для белья полотенце и идет в ванную. Я взглядом провожаю ее легкую поступь, затем трогаю свое лицо, чувствую под пальцами терпимую щетину, но говорю:
— Мне надо побриться.
— После меня, мистер Ревность.
— Я опаздываю к Пауэрсу.
Сэнди возвращается в спальню и смотрит на меня, рыжая половина ее волос спадает на лицо. Она лохматит свою прическу, делает из нее взрыв на макаронной фабрике.
— Ты хотел зайти к нему вечером.
— Я зайду к нему сейчас, чтобы затем оказаться в твоей студии, чтобы вновь полюбоваться «Последним человечеством».
— В прошлый раз, когда ты хотел побриться, ты даже не притронулся к бритве.
Гейси крутится вокруг ее ног, хочет есть. Моя Сэнди берет на руки пушистого засранца и идет с ним на кухню. Пользуясь моментом, я вбегаю в ванную, запираюсь и кричу:
— Я еще подумаю, впустить ли тебя или нет!
— Вот в ванне и живи!
Я слышу звук падающего в миску кошачьего корма. Он продолжается так долго, что создается впечатление, будто эти сухие гранулы предназначаются для слонов.
Я вставляю в сливное отверстие затычку, включаю воду и аккуратно, чтобы Сэнди не слышала, поворачиваю замок и хватаюсь руками за дверную ручку. Корм уже не сыпется, я слышу любимую легкую поступь, затем дверь в ванную пытаются открыть.
— Я не поняла. Ты хочешь быть вместо мистера Ревности мистером Онанизмом?
Ручка в моих руках трясется. Я ее отпускаю, дверь распахивается, и в следующее мгновенье я вижу Сэнди поднимающейся с пола. Робот-пылесос кружит по ее серой накидке.
— Поскользнулась на пылесосе? — беззаботно спрашиваю я.
Сэнди не отвечает, идет на кухню, приходит оттуда со сковородой и грозно смотрит на меня.
— Завтрак в ванную? — спрашиваю я.
— Не видишь, сковорода пуста — так же, как и твоя голова.
Затем, без предупреждения, дно сковородки врезается в мое плечо. Довольно больно, но это тот сорт боли, который я готов испытывать вновь и вновь.
Сковородка заносится еще раз, но я успеваю схватить Сэнди за запястье одной рукой, а другой сбросить с Сэнди ее серую накидку. Мы плюхаемся в ванну. Сковородка ударяется о кафель. Тем временем Гейси забирается во рваную и без его когтей накидку, но тут же удирает от подкравшегося сзади робота-пылесоса. А я думаю, нет, не думаю, а знаю, что сегодня опять не побреюсь.
Давненько — где-то дней пять — мое утро с Сэнди не начиналось так весело…
Но в обед мне было не до веселья.
Я отвожу Сэнди в студию, целую ее на прощание, целую долго, то есть как обычно. Затем разворачиваюсь и еду в Кастро, к дому Пауэрса.
Мне звонит Клэр. Не пишет в hooklove, а звонит, что необычно. За несколько дней Мисс Занудство успела надоесть мне сильнее, чем за несколько месяцев бессмысленных свиданий, но сегодня ей придется ответить, что я и делаю.
— Пауэрс точно у себя? — без приветствий спрашиваю я.
Раздается звук, будто Клэр втягивает через трубочку сок. Затем звучит довольный вздох, как из тех реклам по ящику.
— Пауэрс у себя? — с нажимом спрашиваю я.
— Не торопи меня, — говорит Клэр, говорит таким тоном, будто бы я ей что-то должен.
Опять этот звук. Опять я представляю, как губы Клэр потягивают коктейль, как ореол помады остается на серой, как накидка моей Сэнди, трубочке.
Проходит минута. Я напряженно слежу за трафиком. Я не настолько крут, чтобы управлять машиной одной рукой. Но Клэр не тороплю. Она что-то напевает себе под нос, напевает что-то мрачное.
Вновь вздох, вновь как из рекламы. Я тоже вздыхаю, но вздыхаю так, как наверняка вздыхал один из батраков на картине Репина. Клэр наконец говорит, точнее спрашивает:
— Хочешь есть?
Я чуть было не врезаюсь в ползущий впереди сапфировый Лэнд Крузер.
— Это была ты? — спрашиваю я.
Клэр не отвечает.
Я сбавляю скорость и сам ползу за Лэнд Крузером.
Я был уверен, что женщина в латексе и Клэр — это разные женщины. Хоть я и был тогда прикован к пентаграмме, не думаю, что это отразилось на моем слухе. У женщины в латексе — голос низкий и томный, он был бы притягательным, если бы не обстоятельства нашей встречи, а у Клэр — высокий и не женственный, и этот голос я узнаю в любой веренице голосов.
— Ты знаешь женщину, которая задавала мне этот вопрос? — спрашиваю я.
— Сэнди? — переспрашивает Клэр и смеется.
— Хорошо, спрошу по-другому. Ты случайно не знаешь, что за брюнетка в латексе распяла меня на пентаграмме?
Клэр опять смеется.
— Сейчас знаю, но очень скоро знать не буду.
— Ты нарочно несешь всякий бред?! — ору я, ору так громко, что мадам из кабриолета на соседней полосе смотрит на меня с любопытством.
— Я всегда говорю только правду.
Затем в трубке чмокают губами и добавляют:
— Ты не думал, что когда ты слышишь от меня якобы странные вопросы, на деле же ты слышишь себя самого?
Сапфировый Лэнд Крузер поворачивает направо. Я добавляю газ. Я хочу попасть в Кастро как можно скорее. Непонятно почему, но я убеждаю себя, что Пауэрс сможет объяснить мне смысл вакханалии последних дней.
— Я ложусь спать, — говорит Клэр.
Третий час. Солнце еще высоко в небе. Деловая Мисс Занудство с ее ювелирным бизнесом не позволит себе в это время спать. Об этом я и говорю Клэр, но та вновь смеется.
— Я всегда так делаю, чтобы считать так называемый бред странным сном.
Клэр вешает трубку. Я соплю себе под нос, соплю так, как сопит Папочка, когда мы с Сэнди говорим на его глазах о понятной только нам двоим ерунде.
Через десять минут я приезжаю в Кастро. Паркую Форд Фокус возле дома Пауэрса. Окна его дома все еще завешены, но я вбегаю по небольшой лесенке к входной двери и нажимаю на звонок.
Я слышу за дверью грузные шаги и испытываю облегчение. По крайней мере мой подельник жив.
Дверь открывается, на пороге показывается Пауэрс. Грузный, лысый, в черной майке, тяжело дышащий — такой же, как обычно, и что самое важное, без следов насилия на напоминающем желе теле.
Пауэрс с ходу что-то бурчит, и я так понимаю, что он был с женой на природе, в местности, где телефон не ловит.
— Твоя жена дома? — спрашиваю я.
Пауэрс чешет голову и бурчит, и я так понимаю, что его жена сейчас в тренажерном зале.
— Можно войти?
Пауэрс бурчит, и я прохожу в гостиную. В гостиной Пауэрса все то же самое, как и в прошлый (и единственный) раз, когда я в ней находился. Хотя нет — на прозрачном кофейном столике лежит какая-та книга. Я подхожу ближе и вижу, что это роман Фила Фохё: «Темные духи». Зеленая кардиограмма в самом низу черной обложки, на кардиограмме — редкие колебания до 2021, затем обрыв с 2021 до 2221, а после 2221 идут бурные колебания.
Я не знаю, с чего начать рассказ о всей той чертовщине, что со мной происходит, поэтому спрашиваю:
— Ну как книга? — И тычу пальцем в надпись «Темные духи».
Пауэрс что-то бурчит, и я так понимаю, что книга — полный отстой.
Затем я спрашиваю первое, что приходит в голову:
— Есть что-нибудь новое об искусствоведе?
Пауэрс молчит и даже не собирается бурчать. Я смотрю в его глаза. Они кажутся крошечными на фоне свисающих под ними практически бульдожьих мешков. Пауэрс боится, думаю я, чего-то боится и что-то скрывает или, возможно, его заставляют что-то скрывать.
— Ты точно отдыхал на природе? — спрашиваю я.
Пауэрс кивает головой.
Я вспоминаю о последней оговоренной с ним продаже и спрашиваю:
— Как поживает «Твердыня Тибета»?
Пауэрс начинает бурчать, и я понимаю, что картина Рериха ушла по трехпроцентной скидке, как и было оговорено. Он что-то добавляет к своему бурчанию, и я так понимаю, что деньги за «Твердыню…» находятся на его банковском счете.
— Хоть это радует, — говорю я.
Пауэрс бурчит, что выпишет мне чек.
— Само собой, — говорю я.
Затем Пауэрс… как-то неуловимо меняется в лице. Оно как и прежде, как у недовольного жизнью бульдога, но что-то микроскопическое в нем проскользнуло, что мне очень не понравилось.
— Я знаю кое-что об искусствоведе, — говорит Пауэрс, говорит, а не бурчит, что странно.
Он смотрит на меня с неуместной осторожностью, будто ожидает, что я на него наброшусь.
— Позавчера его посадили, — продолжает Пауэрс. — Его подозревают в связях с мафией.
И добавляет:
— Его зовут Роберт Брайан Фостер.
Мне это имя ни о чем не говорит. Я продолжаю смотреть на Пауэрса. Меня смущает та легкость, с которой он начал не бессвязно лопотать слова, а членораздельно их произносить.
— Фостер не виноват в том, что с тобой происходит, — говорит Пауэрс.
— А что со мной происходит?
— Кто-то подбросил мозги на порог твоего дома, — говорит Пауэрс, говорит и улыбается, как наверняка улыбалась Клэр, когда несла свою чушь по телефону. — Кто-то привязал тебя голого к пентаграмме.
Я краснею — от гнева? От стыда? Я не знаю. Я уверен, что ничего не говорил Пауэрсу об этом, тогда откуда, он, черт побери, все узнал? Об этом теми же словами я и спрашиваю у Пауэрса.
Пауэрс молчит, молчит и улыбается. Меня бесит эта улыбка. В данный момент меня взбесила бы любая улыбка, кроме, пожалуй, улыбки моей Сэнди.
Вдруг мое тело становится горячим изнутри. Этот жар проходит быстро, и я о нем словно забываю, будто бы его и не было вовсе. Хотя… если я его почувствовал, значит, жар все-таки был? Я не уверен. И чувствую, что мысль о жаре у меня исчезает, просто тает в моем теле. И теперь я уверен, что никакого жара не было. Мне просто показалось. Я не запоминаю каждое моргание собственных глаз, поэтому не запоминаю и жара.
Прервав свой самоанализ, я обнаруживаю, что держу Пауэрса за грудки и, брызжа слюной, кричу:
— Хватит молчать! Говори мне все, что знаешь!!!
Пауэрс смотрит на меня так же, как я наверняка смотрел на женщину в латексе. Он что-то бурчит, и я так понимаю, что он считает меня сумасшедшим.
Я бью его кулаком в живот. Я представляю неудачницу-пловчиху, прыгающую в бассейн и оставляющую после себя галлоны брызг — примерно так мой кулак врезается в желеобразное тело Пауэрса.
Пауэрс пытается меня повалить на пол, он крупнее меня, я знаю, что сейчас окажусь на полу, но я почему-то не оказываюсь. Во мне бурлит звериная ярость, во мне есть неизведанные до сегодняшнего дня силы наносить очередной за очередным удары в брюхо Пауэрса, в его бока, в наслоение его подбородков, в его бульдожью морду…
…Я словно бы просыпаюсь. Мои кулаки гудят, а ухо болит настолько сильно, что я в страхе проверяю на нем наличие мочки. Мочка, слава богу, в норме, она не болтается на крохотном лоскутке кожи. Я чувствую кровь, она спадает на черную футболку Пауэрса, который лежит без сознания. Я радуюсь своей победе, понимаю, что в данном случае причина для радости по-детски глупая, но продолжаю радоваться. Моя рука, наверное по рефлексу, почему-то еще не вымершему со времен медпрактики, тянется к толстой шее Пауэрса проверить пульс. И пульс не обнаруживает.
Я успокаиваю себя, думаю, что всему виной накопленный на продаже подделок жир, но тут же вижу то, что должен был заметить сразу, и понимаю, что Пауэрс мертв.
В его левой глазнице торчит вилка. Кровь скапливается в лужицы между надбровными дугами и мясистыми скулами.
Словно в тумане я приезжаю к своему домику на Пасифик Хайтс, глушу мотор. Достаю пачку «…Heaven», закуриваю. Долго смотрю на пачку и думаю, что очень скоро в гробу, во сотни раз большем, чем этот, окажется мой мертвый подельник Пауэрс.
Я не мог его убить. Я до сих пор не верю в это.
Если и вправду мои руки стали причиной смерти Пауэрса, то значит, в мое тело вселился кто-то другой. Я понимаю, что это бред, но лучше думать, что дело обстоит именно так, чем ставить в вину свой собственный рассудок или состояние аффекта. Аффект… Это смешно. Я точно помню, что чувствовал ярость, но ярость подобного рода не смогла бы затуманить мой разум.
Хотя я никакого аффекта ранее не испытывал, что я могу об этом знать? Возможно, аффект именно так и приходит…
Мне тошно. Я открываю дверь своего Форд Фокуса, и меня вырывает на мокрый асфальт. Мокрый… Идет дождь, а я только сейчас его замечаю.
Я берег свою Сэнди от правды. Но продолжать все скрывать нет смысла. Мне придется ее расстроить…
Я убил человека… Все-таки нет, не я, убил тот, кто был в моем теле в момент убийства. Я знаю, что это абсурд, но сейчас я уповаю на этот абсурд так, как порою уповают на бога. Я не помню, как воткнул вилку Пауэрсу в глаз. Если я не помню — значит, не я ее втыкал.
Не знаю почему, видимо из-за мышечной памяти, но я захожу в hooklove. Ни одного нового сообщения от Клэр. Только два десятка прежних сообщений с недвусмысленными намеками.
Я набираю Клэр. Она знала, что Пауэрс был дома, и она, скорее всего она виновата в смерти Пауэрса. Звучит абсурдно, но к этому абсурду против своей воли я начинаю привыкать.
Клэр не берет трубку. Я набираю еще раз и после, наверное, двадцати гудков, слышу раздраженное:
— Что случилось?
Высокий, не женственный, с повелительными интонациями — от ее привычной манеры говорить я уже успел отвыкнуть. Бред Клэр выдавил из меня сложившуюся к ней «недолюбовь-недоненависть», заменив ее более прозаичным, но и более странным страхом.
— Олег, что тебе нужно? — спрашивает Клэр, спрашивает так, будто бы я — клиент, который хочет обменять кольцо 585 пробы на что-то менее затратное.
Я ожидал услышать похотливую сучку, а не привычную Мисс Занудство, поэтому что-то мямлю в трубку. Я чувствую, что Клэр сейчас прервет разговор, поэтому спрашиваю:
— Ты знаешь Уайта Пауэрса?
— Кого? — переспрашивает Клэр, и в ее раздраженном голосе я слышу искреннее недоумение.
— Извини, я ошибся, — говорю я.
— У меня отчетность сегодня, ты как всегда, в самое неподх…
Я сбрасываю. Я убеждаюсь, что наши тела порою кто-то посещает. Быть уверенным в этом все равно что быть сумасшедшим, но вот эта сумасшедшая мысль — единственная, что логично объясняет весь бред.
Вновь закуриваю и думаю, с чего же начать свой рассказ Сэнди.
Курю и думаю, думаю с более пронзительной болью, чем ранее, о том, куда завела меня моя душная жизнь.
Пепел
Заперт в собственной оболочке. Все живое — фон.
Материальны только мои мысли. Ощутим только я.
Временами я понимаю, что существую только я. От этого осознания становится не по себе. Становится тошно.
Неужели я никого не смогу почувствовать, кроме себя?
Никакого идеала нет. Но потребность в идеале есть, поэтому приходиться искать идеал в несовершенном.
Моя Сэнди — не идеал. И я не ищу в ней идеал. Я люблю ее такую, какая она есть, и если бы она вдруг стала другой, тоже неидеальной, но другой, думаю, я бы все также ее любил.
Все эти мысли словно принадлежат и не принадлежат мне. С этими мыслями я брожу по дому, зову Сэнди, и никакого ответа от нее не слышу. Мне страшно, я думаю о вилке в глазу Пауэрса, думаю о возможной участи Сэнди. В холодном поту я хватаю телефон и набираю ее номер, но тут же чувствую невероятное облегчение, и вполне заслуженно (но молча) называю себя тупым идиотом. Как правило в это время, в пятом часу, Сэнди находится в студии, кормит своих творческих демонов…
— Да, мистер Ревность? — слышу я любимый голос в телефоне, и мое душевное облегчение становится еще сильнее.
— Я могу приехать к тебе?
— Конечно. Ты виделся с Пауэрсом?
— Да. Мне много чего надо рассказать, но расскажу я все только при встрече.
— Хорошо. Жду. Люблю тебя!
— И я тебя. Целую!
Все. Я готовлю себя ко встрече, на которой мне придется расстраивать Сэнди. Я чувствую, что уменьшаюсь в размерах, хотя понимаю, что на самом деле это не так. Я выхожу из дома, подхожу к своему Фокусу, собираюсь открыть дверь, открываю, сажусь за руль…
— Олег Ривник?
Я оборачиваюсь на голос. Голос, кстати, навеял мне воспоминания о моем покойном деде Максиме, который кряхтел в своей Песчанке поxлеще Сэндиного Папочки. И поэтому я не удивляюсь, что вижу перед собой чем-то похожего на деда Максима старика в обтягивающих штанах цвета пустыни под солнцем. Он смотрит на меня и улыбается. Клэр улыбается, Пауэрс улыбался… Неудивительно, что теперь улыбающиеся люди меня напрягают. Я пытаюсь сделать свое лицо суровым, хотя оно у меня, скорее всего, испуганное.
— Мы разве знакомы? — спрашиваю я.
— Зависит от того, вы ли Олег Ривник или нет.
— Имя русское, — говорю я. — А я не русский.
Старик улыбается мне отсутствием почти всех передних зубов.
— И Олег не русский. Он из Украины.
Я делаю вид, что пытаюсь вспомнить некоего Олега Ривника, с которым пересекался на одной из вечеринок сан-францисской богемы (или, что честнее, которого я каждый день вижу в зеркале), затем говорю:
— Я его не знаю.
Старик обретает вид человека, который слышит то, что хочет.
— Лучше бы ты не врал. — И уходит, просто уходит под мой растерянный взгляд… который становится крайне агрессивным.
Я выпрыгиваю из машины, обгоняю старика и преграждаю ему дорогу. Старик смотрит на меня с нескрываемым удивлением.
— Что такое?
Я бью старика по лицу, он падает на спину, хватается за переносицу, затем пытается оттолкнуть меня скрытыми под обтягивающими штанами тонкими костями, которые и ногами-то называть не хочется. Старик орет, матерится, зовет на помощь, сжимает своими жилистыми руками мои плечи… ну да, это все, что старик может противопоставить молодой неистовой силе.
Я бью третий раз, четвертый — старик плюется кровью.
Бью пятый раз, шестой — старик выплевывает серые зубы. Один со слюной остается на его подбородке.
Бью седьмой раз, бью восьмой, девятый — из носа старика вылезает зуб — скорее всего последний, учитывая, сколько их, зубов, уже валяется на тротуаре.
Мой кулак идет вверх, чтобы в десятый раз с силою опуститься — но тут же замирает. Я понимаю, что я не мог нанести все эти удары.
Со смесью ужаса и откровения я, пребывая в состоянии, близком к контузии, оборачиваюсь по сторонам. Какая-та женщина с ребенком что-то орет, какой-то мужчина кому-то звонит. Остается надеяться, что не в полицию. Я не заслуживаю ареста — в отличие от того урода, который воспользовался моим телом, телом этого старика, телом Клэр, телом Пауэрса и наверняка еще сотней других тел, неизвестно как и неизвестно ради какой цели.
Объяснять все это прохожим нет смысла. Подумают, что я хочу попасть в дурдом, чтобы избежать тюрьмы.
Поэтому я достаю из бардачка ключи от дома, несусь к входной двери, трясущимися руками открываю дверь, смотрю на красный коврик — не удивился, если бы на нем были очередные мозги — затем врываюсь в дом, мчусь по лестнице в спальню, достаю из шкафа чемодан, кое-как запихиваю туда свои вещи, первые подвернувшиеся под руку, по тому же принципу бросаю в чемодан вещи Сэнди. После беру фирменный пакет супермаркета PrickMyNuts, швыряю туда все бритвы и зубные щетки, что, опять же, просто попались под руку, бегу на кухню, кидаю в пакет сухой корм, затем беру под мышку уже не спящего от моего бега Гейси, Гейси, особенно тяжелого сегодня, затем свободной рукой хватаю чемодан, выхожу из дома, ставлю чемодан сбоку от себя, вижу связку ключей, один из которых болтается в замке, слышу недовольный визг Гейси и, наконец, поворачиваю ключ и закрываю дверь.
Слышу недовольный визг Гейси, затем слышу:
— Куда-то собираетесь, мистер?
Я оборачиваюсь. Возле моей машины стоит женщина с ребенком, в ее руках дрожит пистолет — пистолет, нацеленный на меня.
Я охаю от боли — когти Гейси вонзаются мне в живот.
— Вы же не убьете меня на глазах ребенка, — говорю я.
— Я вас не убью. Просто задержу до приезда полиции.
Я вижу мужчину с телефоном в руках. Он трусливо стоит за спиной женщины. Избитого не мною старика поблизости нет, есть лишь его зубы на тротуаре.
— Ясно, — говорю я и начинаю медленно идти к машине.
— Стой! — От дрожащего пистолета в руках женщины в моих глазах начинает рябить. — Еще шаг — и выстрелю в ногу!
— Не думаю, — подает голос мужчина с телефоном.
— Что… — начинает женщина, но тут же ее речь обрывается. Руки перестают дрожать, она засовывает пистолет себе в рот и стреляет. Кровавая струя из ее головы заливает салон моего Форд Фокуса, затем женщина падает, и ее спина облокачивается на дверь моей машины. Ее ребенок кричит, бежит к мужчине с телефоном, на лице мужчины — ужас… который тут же исчезает. Мужчина игнорирует крики ребенка, идет к машине, оттаскивает женщину в сторону, открывает дверь, поворачивается ко мне и говорит, и говорит при этом довольно оптимистично:
— Тебе придется сидеть на ее мозгах!
— Кто ты такой? — кричу я.
Он снимает с женщины блузку, наспех вытирает водительское сиденье, смотрит на содержимое блузки с какой-то усталостью и говорит:
— Опять эти! Ну сколько можно!
Сворачивает блузку, смотрит по сторонам. Оборачивается на меня и говорит:
— Не ссы, сидеть можно. Штаны потом поменяешь. Беги, я и вправду звонил в полицию!
— Кто ты такой? — повторяю я уже тише.
Мужчина идет к потерявшему дар речи ребенку, обнимает его и говорит мне:
— Я твой друг. А твой враг — женщина в латексе. Она вселяется в чужие тела.
— Вселяется в чужие тела? — переспрашиваю я в шоке — хотя я уже ранее думал об этом.
Мужчина делает ребенку подсечку, оба падают на тротуар, прямо на серые зубы старика.
— Вали отсюда! — шипит мужчина, лежа на ребенке, но шипит, по всей видимости, мне.
— Как зовут женщину в латексе?
Я слышу полицейские сирены.
Не услышав ответа, я бросаю чемодан и пакет на заднее сиденье, кое-как пристегиваю, мягко говоря, очумелого Гейси ремнем на переднем, затем прыгаю на кровавое водительское. Смотрю в зеркало — вижу ребенка, который пинает плачущего мужчину…
С каждой минутой мой мир становится все меньше.
Я забываю, что я жив. А люди? Мертвые люди, мертвые по вине какого-то внетелесного придурка. Хотя что мне люди? Людские предрассудки сильнее любого наркотика.
Я еду быстро, но все равно, поездка кажется непозволительно долгой. Я подрезаю встречные автомобили, предрассудительные водители имеют все основания считать меня сумасшедшим — да и какая теперь разница? Я останавливаюсь возле гаража, поднимаю забор и чуть не сбиваю три пустых мольберта, стоящие впритык ко входу.
И да, студия моей Сэнди находится в гараже. И некогда гараж использовался по назначению. В нем стоял подарок Клэр, еще не утративший салонный блеск Форд Фокус.
Какая теперь разница? Какая разница, что было в этой студии, когда сейчас, в самый напряженный момент моей жизни, моей Сэнди в студии нет?
Я лихорадочно набираю ее номер и осматриваю студию. Пытаюсь найти следы борьбы или что-нибудь в этом роде, но, к счастью, не нахожу. Но и Сэнди не отвечает. Длинные свинцовые гудки.
Я вижу на полу под мольбертом… пепел. Много пепла. Очень много пепла. Я сажусь на колени и пытаюсь разобраться, от чего этот пепел и как он здесь оказался, как у меня вдруг звонит телефон.
Я испытываю настолько огромное облегчение, что считаю себя практически счастливым. Звонит моя Сэнди.
— Ты в порядке? — спрашиваю я, не скрывая паники в голосе.
— Я сошла с ума, — отвечает спокойный голос Сэнди. — Если я расскажу тебе о том, что со мной сегодня случилось, ты немедленно подашь на развод.
— Сэнди, милая, когда я сюда ехал, я планировал начать свою речь практически с этих же слов.
— Сюда — это, я так понимаю, в мою студию?
— Да, я в студии, а ты где?
— Я еду домой. Мне… то есть нам, надо собрать все свои вещи…
— …и бежать без оглядки… — подхватываю я.
— …бежать туда, где никто нас не сможет найти…
— …и никого не предупреждать…
— …да…
Молчание.
— Ты так же, как и я, сошел с ума? — спрашивает Сэнди со странной смесью шока и облегчения в голосе.
— А у тебя что произошло?
— А у тебя?
Молчание. Я думаю, и думаю долго и сосредоточенно. И знаю, что моя Сэнди на том конце провода думает тем же образом.
— Это не телефонный разговор. Нам нужно встретиться. Ты в трамвае?
— Нет, в такси.
— Где ты сейчас?
— Уже на Вашингтон-стрит. Сейчас приеду, заберу наши вещи, и…
— Нет, — перебиваю я. — Возвращайся в студию. Все вещи у меня…
— Как ты догадался?..
— Не знаю, с нами происходит одно и то же безумие, наверное и идеи в наши головы приходят одни и те же. Возвращайся обратно, Сэнди, в нашем доме слишком опасно…
— А как же Гейси?..
— Гейси тоже у меня.
Сэнди, очевидно, поражается, что я не оставил пушистого засранца в домике на Пасифик Хайтс.
— Почему опасно? — спрашивает она тихим голосом.
— При встрече, дорогая, я расскажу тебе все при встрече! — Я нервничаю, хотя до этого дня в обществе Сэнди всегда держался самоуверенно.
Мне на глаза попадается пепел, я спрашиваю о нем у Сэнди.
— При встрече, дорогой, я расскажу тебе все при встрече.
Сэнди вешает трубку. И мне остается надеяться, что внетелесный придурок не посмеет вселиться в тело моей Сэнди.
— Что случилось? — Сэнди очень волнуется — то есть выглядит так, как выглядит человек, который не может разобраться с заусенцем на мизинце.
Я не боюсь показаться Сэнди придурком или просто сумасшедшим — порою я даже стараюсь таким показаться — но чувствую, что не способен рассказать все как есть именно сейчас. Я прошу Сэнди рассказать о пепле на полу.
Сэнди смущается — то есть выглядит так, как выглядит человек, которому очень скучно.
— Я сожгла все свои картины.
Она достает сигареты, тоже «Clyde’s Heaven», только женские — пачка в форме розового гробика. Моя Сэнди, конечно, ждет от меня осуждения или, как минимум, укоризненного покачивания головой — по поводу картин, конечно, не по поводу сигарет. Я тоже не прочь покурить, поджигаю тонкую сигарету Сэнди зиповской зажигалкой и поджигаю свою.
— И «Последнее человечество» я тоже сожгла, — говорит Сэнди и говорит так, словно бы жаждет получить от меня порцию осуждения, и эта фраза как нельзя лучше способна удовлетворить эту жажду.
Конечно, я бы как-нибудь отреагировал на это известие, если бы сегодня не убил Пауэрса, не избил до полусмерти старика или не увидел самоубийство матери на глазах ребенка.
И что-то внутри вынуждает меня рассказать об этом вслух.
Тонкая сигарета будто примерзает к тонким пальцам. Спокойствию Сэнди позавидовали бы дзен-буддисты — это значит, что моя Сэнди очень и очень потрясена. Я понимаю, что моя Сэнди была бы рада подумать, что это какой-нибудь жестокий розыгрыш, но что-то не связанное с ее желанием и волей мешает ей так подумать.
Сэнди молчит, а я говорю, и говорю вполне осознанно:
— А ранее кто-то подкинул на наш серый ковер мозги. В тот же день Клэр пыталась мне подрочить, пока мы ехали к ее картотеке с рабами. Она избила себя, затем ее избил какой-то хипстер, затем хипстер избил себя, затем кто-то избил меня. А затем я очнулся подвешенным на пентаграмме, и незнакомая женщина спрашивала у меня, хочу ли я есть, и пытала меня воском до тех пор, пока я не дал правильный ответ на этот вопрос.
Я смолкаю и смотрю на Сэнди. Она спокойна как и прежде — стало быть, уже после моей фразы про убийство Пауэрса ее потрясение достигло предела.
— После мы с тобой поехали к Папочке. Мисс Занудство стала домогаться меня, и в один момент она заявила, что Пауэрс находится у себя дома, хотя Пауэрса дома я ни разу не заставал. Клэр не ошиблась, Пауэрс действительно был дома. Он, кстати, успел сказать, что искусствоведа посадили в тюрьму из-за связи с мафией — искусствоведа уже не получится обвинить в наших бедах. Но все это уже не важно — важно, что я убил Пауэрса, воткнул в его глаз вилку и не понимаю, почему оказался способным на такое.
Затем я себя поправляю:
— У меня есть одна версия, но прежде, чем я ее озвучу, я должен узнать, что именно побудило тебя сжечь свои картины.
Сэнди говорит, говорит спокойно, но медленно, словно бы сомневается в том, что говорит:
— Мне… мне показалось это правильным. Я была уверена в том, что делаю. Я думала, что ради этого я и рисовала все свои картины — ради того, чтобы их сжечь. А сейчас… когда говорю с тобой… когда думаю обо всем этом… я же не могла все это совершить, правда?
Сэнди задает вопрос с надеждой.
Я не отвечаю — я знаю, что порой Сэнди впадает в творческие истерики, но даже если перемножить все ее истерики, то получившейся величины все равно бы не хватило для того, чтобы в голову Сэнди пришла мысль предать огню все свои картины.
— Ты не мог никого убить, — говорит Сэнди. — Я не могла сжечь картины. Однако… — Она указывает на пепел. В студии, кстати, гарью не пахнет, пахнет как обычно, красками.
— Ты сожгла картины, но затем ты хотела, так же, как и я, забрать все наши вещи. Зачем?
— Тогда мне показалось это правильным, — вновь говорит Сэнди.
Затем задумывается.
— Скажи мне, что мы не сговариваясь сошли с ума, — просит моя Сэнди.
— Хотелось бы в это верить, — говорю я. — Но это не так. Мы не сошли с ума. Просто кто-то вселяется в наши — и в чужие тела — и делает с ними все, что хочет.
Сэнди улыбается. Даже в этой ситуации — улыбается. Я обнимаю ее. Я настолько тронут, что едва не плачу.
— И ты мне говоришь, что мы не сошли с ума?
Форд Фокус мчится по ночным дорогам. Мчится уже несколько часов. Город Ангелов теперь находится ближе, чем родной для Сэнди Город У Залива. Полная луна мрачно смотрит на нас с бордово-синего небосвoда. Гейси сжимается в клубок на заднем сидении кабриолета между двумя чемоданами и тремя неприлично возвышающимися над машиной мольбертами. Сэнди смотрит на меня. Я смотрю на дорогу и не вижу… ничего.
Куда мы едем? От чего мы бежим? Не может ли то, от чего мы пытаемся скрыться, настигнуть нас в другом месте и в неподходящее, как всегда, время? Сэнди успела понадеяться, что все, что с нами происходит — странный розыгрыш Клэр и Папочки. Они, наши славные родственники, накачали нас наркотиком, вызывающим состояние параноидального бреда, и в реальности Сэнди не сжигала свои картины, а я — не убивал Пауэрса. Хотелось бы в это верить, наверное раз в пятый, отвечаю я и слежу за пустой дорогой, слежу и умудряюсь радоваться — ведь все водители, очевидно, разъехались по своим домам, чтобы не мешать нам бежать…
Куда?
Глаза Сэнди расширяются, она испуганно на меня смотрит. Действительно испуганно — без спокойствия на лице, то есть без синдромов свойственного только ей испуга. Сейчас моя Сэнди пугается так, как пугается обыкновенный человек.
Такие эмоции на лице моей Сэнди означают, что испытываемый ею страх превышает всевозможные пределы. Я останавливаюсь у обочины и тихо пытаюсь узнать, что за чертовщина вызвала в ее лице столь пугающие перемены.
Сэнди не отвечает. Она старательно отводит глаза, но я успеваю заметить, что глаза ее блестят.
— Милая моя Сэнди, — начинаю я. — Я убил человека и избил старика. О чем бы ты не подумала и что бы ты не сделала, не думаю, что это будет страшнее моих деяний.
— Будет, — всхлипывает Сэнди.
— Если и будет, то это не твоя вина.
Сэнди смотрит на меня, она хочет знать, верю ли я сам в то, о чем говорю, или нет.
— Нами кто-то управляет, и после всего того, что с нами случилось, будет глупо считать эту мысль бредом.
— Ага.
Сэнди шмыгает носом и говорит:
— Прости меня, Олег.
— За что?
Сэнди поворачивается ко мне боком, лицом к заднему сиденью, просовывает руку между мольбертами и чешет недовольно урчащего Гейси за ухом. Не то, чтобы она решила успокоить кота, просто ищет повод не встречаться со мной глазами, удрученно думаю я.
— Нам нужно вернуться назад.
— Зачем?
Сэнди не хочет отвечать — или просто долго собирается с ответом. Я вспоминаю, как на заправке мы перепроверили наши чемоданы и убедились, что все необходимое взяли с собой, и говорю об этом Сэнди.
— Не в этом дело. Ривьера.
— Кто такой Ривьера? — спрашиваю я и про себя думаю, что это имя я где-то слышал.
— Бандит. Он вроде бы владел магазинами Бинко.
Я понимаю, что слышал о Ривьере от Пауэрса и машинально морщусь — вспоминаю торчащую из глаза вилку.
— Ты знакома с Ривьерой?
— Не помню.
Это звучит крайне бредово — но я уже устал удивляться бреду.
— Что это значит?
— Вот.
Сэнди протягивает мне телефон. На дисплее отображается ряд сообщений с анонимного аккаунта — это hooklove, конечно же — с требованием заплатить сто тысяч долларов — компенсацию за моральный ущерб, причиненный Роберту Брайану Фостеру, который из-за Сэнди (да, там так и написано) угодил за решетку. Аккаунт анонимный, подписи Ривьеры в последнем сообщении нет.
— Откуда ты знаешь, что это Ривьера?
— Я уверена, что это он. Я общалась с ним сегодня до твоего приезда.
— Почему ты ранее об этом не рассказала?
— Я только сейчас вспомнила.
Я начинаю думать, что в Сэнди вселился внетелесный придурок, и понимаю, что если Сэнди захочет меня убить, то мне придется ей не мешать. Я не хочу вредить ее телу.
— Фостер… Фостер… — говорю я и вспоминаю слова Пауэрса.
— Это искусствовед?
Сэнди кивает и говорит:
— Позавчера его посадили. Его подозревают в связях с мафией. Но Ривьера пишет, что виновата во всем я. И самое странное, что я не знаю, правда ли это или нет.
— Не менее странно что ты знаешь имя искусствоведа. — Данный вывод я делаю, просматривая сообщения от Ривьеры.
— Я не знаю, откуда во мне это знание. Не от Ривьеры точно. Но я знаю, что все обстоит именно так, как я говорю.
— Ясно. Зачем нам возвращаться? Ты хочешь заплатить Ривьере? Будто бы у нас есть сто тысяч.
Лицо Сэнди обретает новое выражение, я не успеваю разглядеть его, оно сменяется на ставшее привычным испуганное. На ее номер приходит сообщение.
— Вот почему мы должны вернуться. Ривьера говорил мне об этом.
Сэнди отдает мне телефон.
— Извини, что раньше об этом не вспомнила.
Я вижу в сообщении фотографию.
— Мы должны ей помочь.
Знакомый мрак флуоресцентных ламп, свечи в центре пентаграммы.
— У нас нет денег, — говорю я Сэнди. — Придется звонить Папочке.
На вращающейся стене с нарисованной пентаграммой висит голая Клэр — висит так же, как висел в свое время я. Кожаные ремни стягивают бросающийся даже в этом полумраке искусственный загар. Палец фотографирующего закрывает левый нижний угол — палец черный и блестящий, будто бы в латексе.
Будто бы?..
— Это ничего не меняет, — говорю я Сэнди, отдаю ей телефон и выезжаю на дорогу. Город Ангелов становится еще ближе, чем ставший близким мне Город У Залива.
Трамвай
— Что ты делаешь?
— Еду вперед, ты же видишь.
— Мою сестру пытают! Мы должны ехать к Папочке за деньгами!
— Мы ничем не сможем ей помочь.
— Я звоню ему.
Я так понимаю, Сэнди имеет в виду моего дорогого тестя. Она набирает номер и хочет поднести телефон к уху, но не подносит — моя рука хватает ее запястье.
— Не стоит. Это не поможет.
Сэнди смотрит на меня и не понимает, что ей нужно сказать, так же, как не понимаю и я.
Я вновь торможу у пустынной обочины. Ветер бьет нам в лицо. Пыль кружится под колесами Форда и ногами Сэнди — Сэнди вышла из машины.
— Ты куда? — спрашиваю я.
Я чувствую себя сумасшедшим, обманутым и беззащитным. К первым двум состояниям я привык, но вот третье появилось только что. Мне кто-то неведомый вливает в горло расплавленный свинец — я не могу остановить Сэнди и не могу кричать ей вслед. Сэнди бредет к какому-то обрыву. Мне страшно. Я боюсь, что внетелесный придурок мучает меня с какой-то определенной целью, но этот придурок не понимает, что самоубийство Сэнди означает конец моим мучениями — мой конец.
Не трогай ее, прошу тебя, думаю я на тот случай, если придурок уже находится в моем теле. Возьми лучше меня. Меня, меня, меня, убей меня…
Сэнди замирает на самом краю обрыва. Затвердевший в горле воображаемый свинец наконец проваливается в желудок, и я кричу:
— Сэнди, дорогая! Сэнди, любимая, вернись ко мне!
Сэнди слушается меня. Медленно идет к машине, с лицом примерной школьницы, впервые в жизни прогулявшей уроки.
— Что я делаю? — Сэнди выглядит спокойной, то есть такой, какой я привык ее видеть. Ее глаза что-то ищут в моем лице, поэтому в этом виде спокойствия я вижу потерянность.
Ко мне приходит понимание. Я знаю, что я должен сделать. Я говорю об этом Сэнди.
— Зачем?
— Я не знаю, как от него избавиться. А если я пойду на его условия, возможно, он оставит нас в покое.
— Мы ведь даже не знаем, кто он!
Я про себя думаю, что Сэнди должна остаться невредимой. Только при этом условии я согласен играть в эти игры. Тут же приходит мысль, что в условиях полной беззащитности глупо ставить кому-то условия.
— Олег, не делай этого, — умоляет Сэнди. — Давай скроемся в Лос-Анджелесе.
— Нас найдут в любой точке мира и убьют нашими же руками.
Сэнди видит мою непреклонность. Ей ничего не остается, как спросить:
— Я звоню Папочке?
Я поражаюсь, как легко внетелесный придурок меняет наши с Сэнди роли местами. Я думаю, что небезопасно называть, пусть и про себя, неизвестного вторженца внетелесным придурком и стараюсь усмирить неприязнь к нему. Я киваю головой.
— А если он откажется?
Я усмехаюсь.
— Он не откажется.
Словно только это и требовалось. На телефон Сэнди приходит сообщение — СМС, а не пищалка hooklove. Пишет Папочка, и пишет, что чемодан с деньгами находится на переднем сидении его коллекционного Роллс-Ройлса.
— Как нам теперь дальше жить? — тихо спрашивает Сэнди. — Даже наши мысли находятся в опасности…
Я пожимаю плечами и вновь обращаюсь ко внетелес… к неизвестному вторженцу, обращаюсь несколько минут, чтобы увеличить вероятность прочтения им моих мыслей. Мысленно прошу вторженца включить моей рукой радио в машине, если моя просьба будет им одобрена — или ударить меня по щеке, если у меня нет никаких прав просить его о чем бы то ни было. Все это время Сэнди смотрит на меня спокойно — но со неуловимым страхом в глазах, который по силам уловить только мне.
Сэнди смотрит мне в глаза, затем вздрагивает. Кто-то поет: «I am the voice inside your head you refuse to hear». Я облегченно вздыхаю и выключаю радио.
— Прости, включил случайно.
Затем тщательно прожевываю слова, перед тем, как их произнести:
— Я поеду к Папочке один.
— А я? Ты меня бросишь здесь одну? — спрашивает Сэнди, спрашивает и улыбается, сама улыбается собственному, столь глупому вопросу.
Я целую Сэнди в губы, целую как обычно долго, затем шепотом говорю:
— Сейчас сюда приедет такси. Тебя отвезут в аэропорт.
Сэнди непонимающе смотрит на меня, затем спрашивает:
— Ты подружился с этим… эээ… духом?
— Я налаживаю с ним контакт. — Произнося эту фразу вслух, я ощущаю какое-то хорошее чувство, что-то среднее между облегчением и надеждой.
И с этим чувством в душе молча обнимаю свою Сэнди, пока возле нашей машины не останавливается канареечного цвета такси.
Сэнди должна попасть в аэропорт. В Международный аэропорт Лос-Анджелес. Уверен, что если с неизвестным вторженцем удастся договориться, проблем с посадкой на рейс у нас не будет. Я мысленно прошу вторженца о сотрудничестве, пока прощаюсь с Сэнди. И прощаюсь с ней долго, говорю ей ободряющие, но пустые фразы, все мое нутро противится ее отъезду. Я молю неизвестного вторженца не вселяться в Сэнди, или в водителя такси, или в водителя встречной машины. Я хочу убедиться, что моя Сэнди будет в безопасности, но не знаю, как это сделать. Может, мы имеем дело с непостижимой сущностью, тогда требовать от нее руководствоваться общечеловеческой логикой поистине глупо. Я не знаю, ничего не знаю, я просто надеюсь, что с моей Сэнди будет все в порядке, иначе то, что я делаю, просто бессмысленно.
А что я делаю? Я еду к Папочке, в пригород Сан-Франциско, к его несчастным виноградникам. Еду долго, дорога кажется бесконечной. Папочкин особняк находится рядом с Дэйли Сити, что, разумеется, ближе, чем наш с Сэнди домик на Пасифик Хайтс — но рядом нет Сэнди, я не знаю, что с ней, в груди пустота, а в голове бардак. И дорога кажется бесконечно долгой. Бесконечно, бесконечно долгой…
Я хочу спать. Ночь подходит к концу, в гранатовое зарево окрашивается горизонт, все живое вокруг, кроме меня, конечно же, начинает пробуждается. Я еду по инерции, слушаю политическую ахинею, которую несет ведущая местной радиостанции. Я не выключаю радио в надежде, что тупость межполитических проблем, в которых, очевидно, виноваты все, кроме нас, разбудит во мне раздражительность, и заодно разбудит меня остального. Но я клюю носом. Как в тумане проношусь мимо Пескадеро, мимо Лобитоса, мимо Эль Гранады. Наверное, только боль за Сэнди не позволяет мне уткнуться головою в руль.
Скоро Дэйли Сити, подбадриваю я себя. Скоро будет Папочка с деньгами. Молю неизвестного вторженца о свободе от бреда, в который он меня втянул.
Спустя вязкие полчаса я оказываюсь у ворот Папочкиного особняка. Мордоворот в черном пиджаке узнает меня, ничего не говорит в свой наушник, просто открывает ворота. Я не удивляюсь этому, а радуюсь — шансы, что я избегу Папочкиного кряхтения составляют сейчас примерно сто процентов. Машину оставляю за воротами и несусь к коллекционному Роллс Ройсу. Нахожу чемодан на обтянутом блестящей кожей переднем сидении. Открываю чемодан и облегченно вздыхаю — там не Папочкины вонючие носки, а действительно деньги, и денег много. Сколько именно денег я не знаю, не пересчитываю, закрываю чемодан, беру его под мышку и иду обратно к своему Форд Фокусу. Киваю охраннику, тот никак не реагирует.
Я кладу чемодан в багажник, сажусь в машину и завожу мотор. Теперь мне нужно… найти… Ривьеру?
Но где?
Мой телефон звонит, едва этот вопрос оказывается в моей лишенной сна голове. Я поднимаю трубку:
— Да.
— Вези деньги на Герреро-стрит, это в Мишен Дистрикте.
Я узнаю голос женщины в латексе. Мне этот голос никогда не забыть. Я спрашиваю:
— Номер дома или какие-нибудь ориентиры?
Женщина в латексе загадочно смеется — и эта не та загадочность, которая интригует. Эта загадочность пугает.
— Через минуту ты поймешь.
Женщина в латексе вешает трубку. Я набираю на навигаторе Герреро-стрит и отъезжаю от Папочкиного особняка.
Едва ворота закрываются, как в моей голове отчетливо проносится низкий женский голос, спрашивающий: «Может, съешь что-нибудь?»
Я понимаю, что имела в виду женщина в латексе. Она сейчас пытает Клэр в том же месте, где пытала меня. Мне почему-то не жалко Клэр, я думаю, что мне будет жалко Сэнди, если она узнает, что с Клэр что-нибудь случилось… если, конечно, с Клэр что-нибудь случится.
Я еду и стараюсь не думать ни о чем. Не думать ни о чем. Мысли — это зло. Чувства — еще хуже.
Чужое одобрение проскальзывает в моем усталом теле. Я понимаю, что внетелесный при… не сорваться бы… неизвестный вторженец соглашается со мной.
Через какое-то время, пролетевшее или проползшее в остывающем тумане моих переживаний, я оказываюсь возле здания, чей интерьер навсегда останется в моей памяти. Хватаю чемодан, затем стучусь в дверь, стучусь так, как стучат порядочные джентльмены.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.