
Бесплатный фрагмент - На страницах юмор, шутки, а в душе тоска
Книга в трех частях
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
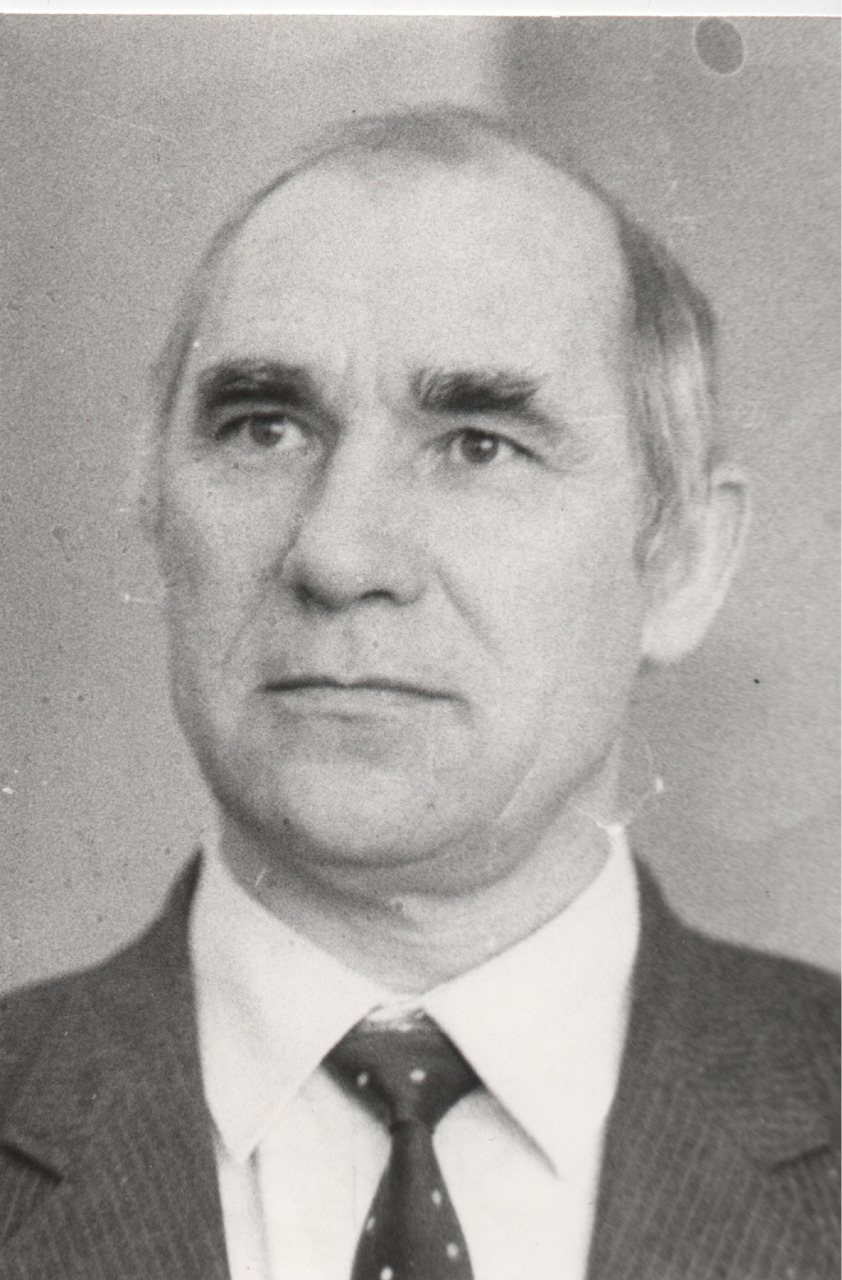
ИЗ КУСОЧКОВ ЖИЗНИ
(Письмо маме)
Я пишу это письмо в картинках, думаю, так лучше и понятней тебе. Ушел я из деревни, от нужды, покрывшей ее саваном. Из каждого окна выглядывает нищета. Даже петухи невесело приветствуют восход солнца. И ты, мама, крутишься, как белка в колесе, но той хоть орешки дают. А когда моему соседу Витьку отец подарил скутер, я знаю, ты всю ночь проплакала. Не плачь мама, теперь мне в школу не идти и ботинок мне не надо. Масла в огонь добавили библиотекарши, когда, не видя меня, а я остр на уши, сокрушались, что нет панели в деревне, и хоть в петлю. Учителем мне теперь стала сама жизнь.
Картина первая
Горбатый
Райцентр смешной. Дома, как и у нас в деревне. Одна телевизионная мачта торчит. Словно штопальная игла. Торчит мачта бесполезно, опустив уши-тарелки. Через спутник теперь телепередачи идут. Люди тоже смешные. Половина, и бабы, ходят в трусах, даже белых. Пузо не прикрывают, а у одной рыжей девки, кольцо в пупке, как у нашего деревенского быка. Что их тоже на цепь сажают? Если золотое кольцо, то слободно можно дернуть и убежать. Но чужого мне не надо, хоть и своего нет. Прикольно, совсем у меня ничего нет.
На базаре меня подозвал к себе, не поверишь, верблюд. Мужик был горбатый, а голова, что те у жеребца Седого из конюшни нашего Гитлера. Только с челкой. И он все время плевался, так как жевал табак.
— Ты чей? — спрашивает. — Все время здесь ошиваешься.
— Был мамин, сейчас ничей. В бегах я.
— Помоги мне тогда загрузить товаром тележку.
А знаешь, мама, какой у него товар? Словно с плантации нашего фермера Скупого. Огурцы там разные, дыни с тыквой. Потом впрягся в тележку и тащил ее через весь город. Лошадь меньше устает.
Горбатый накормил меня супом и сразу прогнал. Пошел дождь. У нас все лето его не было, а тут словно из ведра опять окатила Сонька. Знаешь ты ее. В маленьком домике у речки живет со своей бабкой. Как мимо иду, завсегда окатит. Хотела, наверно, познакомиться.
Иной хозяин и собаку в такую погоду со двора не выгонит, а Горбатый лишь дал горсть табаку:
— Продашь на базаре, — говорит. — Увидишь там похожего на меня армянина и продашь ему. Табак хороший.
— Такого второго армянина больше нет, — ответил я и ушел, чувствуя себя царевичем, которому приказали идти туда, не зная куда.
Мир не без добрых людей, но мало их осталось. Не спал бы я трое суток под забором заколоченного дома.
Утро здесь не как у нас. Выкатывается солнце, зеркалом заблестит Узень, поплывут на корм в камыши гуси. И тают тени. А в городе даже тени долго не тают, и сразу вылезаешь на солнышко из подворотни, чтобы отогреться. Холод за ночь достает до хрящей спины.
Картинка вторая
Волжанка
— Вылезай осторожней, в доске гвоздь торчит, — подала мне руку девчонка. Стрижка как у меня, но одета лучше, и в ушах кольца. Чтобы не выглядеть совсем тюфяком, я достал из кармана огромный гвоздь, который заточил до остроты шила еще дома.
— Вот гвоздь, а это проволока.
— Зачем такой огромный и острый, как шпага? — изумилась она.
— Быков я им убиваю на нашей фирме.
— Тореадор?
— У меня красного плаща нет, — ответил я: знай, мол, наших, не лаптем щи хлебаем и не лыком шиты. Девушка сразу догадалась, что сбег я из дому.
— Почему, говорит, в подворотне спишь? Весь чумазый и в рванье.
Обиделся я на свою долю и гаркнул:
— Нищий я. Не видишь, буржуйка. Остались в деревне еще бедней. Катись колбаской, мне хлеб добывать надо.
Она взяла меня за руку:
— Успокойся. Конечно, это непорядок, когда хлебороб ищет кусок хлеба. Что-нибудь придумаем. И никакая я не буржуйка, даже не печка, — улыбнулась она, показав на щеке ямочку. Если бы не эта ямочка…
— Я волжанка, — продолжала она, — живу на реке вместе с папкой. Он бакенщик, есть еще такая профессия.
Через некоторое время я помогал ее отцу зажигать на мелководье бакены, ловить рыбу. Харчей было много, люди хорошие. Может, и остался бы с ними, да и работа, только грести немного веслами, без излишних перегибов, как говорил наш пастух дед Пахом, но простился я и ушел. Зажигая фонари, не добьешься ничего заметного в жизни. Это я усек. Прочно впиталась в меня красота волжских закатов и зорь, и, казалось, я бегал к бакенам босиком по волнам, как по ступеням, а не плыл туда на лодке. И понял я: могучей и богаче матушки-Волги ничего на свете нет. Даже рыбины мне казались серебряными, а сама Волга транспортером жизни.
Проплывающие пароходы, говорят, всех манят. А меня не просто манили, а тащили канатом буксиры.
И я встретился с капитаном на набережной Волги. Как туда попал, отдельная картинка. Было трудно и даже очень. Как комары на Узене досаждали менты. Убегал и удирал от них столько — даже коленки перестали сгибаться. Но будя.
Картинка третья
Отстегнутая нога
Я сидел на парапете набережной и плакал. Никто об этом не догадывался: порывы ветра приносили сюда брызги волн. Гуляющие здесь барыни прикрывались от них зонтиками и громко смеялись, привлекая к себе внимание. А вот и он в белой форме, с золотым орлом на фуражке.
— Чего распустил нюни, мужичок с ноготок? — Юнгами на кораблях не старше ходят. А ты, рева — корова, — вытер он мне лицо носовым платком, от которого пахло всеми цветами лета.
— Возьмите меня, дядя, юнгой. Помру я один в этой жизни, — слишком мудрено сказал я.
А знаешь, мамочка, лучшие люди на земле — это моряки. Он только спросил, сколько я окончил классов. Я ответил — семь.
— Маловато, надо бы восемь, — засмеялся он и повел меня на теплоход.
Мы с юнгой Васей не только убираем палубу, но и учимся. С нами занимаются все — от капитана до его помощников, даже штурвал доверяют.
Лучшим моим другом стал старший кок. Я его называю дядя Демьян. Оказывается, мама, ты прокисшее молоко не выливала, а делала из него оладьи. Дядя Демьян многому научил нас с Васькой, и мы сами варим флотские макароны. Бывают, мама, в жизни случаи, которые никогда не сможешь забыть. Проплывали мы мимо песчаного плеса, где я помогал бакенщику. И увидел я на лодке волжанку, машущую нам рукой. Вырвалось из груди сердце, рванулось по моим следам на волнах к далеким бакенам. А в душе застыла тоска. Потом понял я, в чем мое отличие от дерева — оно не может любить.
Хочу, мамочка, сказать тебе, что первый шаг к мечте я сделал: поступаю в мореходку на подготовительное отделение. Договорился об этом с училищем наш капитан. Недавно пришел я к нему в каюту, а он сидит там с одной ногой, другая приставлена к перегородке.
— Принеси-ка ногу, юнга. Пристегнуть ее надо. У меня, — говорит, — все члены пристегиваются. — И улыбается.
— А как же вы в речном флоте? — глупо спросил я.
— Хотел стать моряком: дальние страны, впечатления, но…
Потом мне сказали, что капитан вынес из горящего дома ребенка, а вот сам не уберегся, сгубил ногу.
Но я буду мореходом. По большим волнам, в большую жизнь.
Вот уже и вечер. За бортом буруны, словно кипит вода. Небо у горизонта за рекой кажется разрезанным, и из раны сочится кровь. Это у меня, мама, настроение такое. Завтра уезжаю в училище. А ребята остаются, остается на теплоходе и часть моего сердца. Поэтому, наверное, и живем мало, разбрасывая в любимых уголках себя частицы.
Приписка. Прочитав это письмо, капитан мне сказал, что не в мореходку мне надо, а в литературное училище. Но я думаю, сначала в мореходку. Писать завсегда можно.
Передай, мама, привет моей ветле и поцелуй за меня Узень. Чем умнее мы становимся, тем тяжелее без них. А без тебя еще душнее.
Как сложится моя судьба дальше, опишу в другом письме. Наверное, тоже с картинками. По-другому я не могу, само нутро двигает ручкой.
На первом листке есть дырка — это от слезы. Такая она горючая, мама. Ты уж прости. Я люблю тебя.
Твой навеки и сердцем и душой сын Петя.
СЛЕЗА РОБОТА
Впереди — пропасть, позади пустыня, значит смерть. Справа и слева — словно басмачи в белых папахах неприступные горы.
— Что будем делать, Робин Гут? Ты у нас ходячий компьютер, оцени обстановку, — спросил Петр.
— Приплыли. Вот и ответ на вопрос, кто ценнее: человек или робот. Вам нужны вода и пища — их нет, мне — солнце для батарей — его полно.
— Не ерепенься, говори, что делать, а то Светлана, вон, пригорюнилась. Так выглядела, когда ты задержался в море, собирая для нее жемчужины.
— Мне приятно делать ей подарки.
— Словно на канате за ней тянешься. Да, и она не отрывает от тебя взгляда. Я рядом с тобой пугало, хотя среди людей вполне симпатичен, если бы не нос.
— Поэтому Светлана называет тебя журавлем?
Цаплем она называет меня. Это, естественно, лучше, чем цаплей, подчеркивается мужское начало, но в это время чувствую щелчок по носу.
— Возможно, она к тебе неравнодушна? Ты душой прекрасен, вытащил из беды начальника, который тебя выгнал с работы.
— Не хвали, я ощутил удовольствие от того, что он стал заикаться.
— Теперь начальник делает доклады под фанеру, успевает разгадать подборку кроссвордов.
— Светлана — научный работник, изучает возможности развития духовной жизни роботов в экстремальных условиях. Когда ты подарил ей на день рождения цветок папоротника, я подумал: случилось невероятное, и ты полюбил. Оказалось, цветок бумажный, что не сразу определишь, так искусно он был сделан.
— Наш садовод подвел, продав мне его. Знаешь, он кто? Бывший матрос, земли не видел годами. Вот и наловчился делать искусственные цветы. Еще кричит: «Водой не поливать, руками не трогать». Говорят, когда водолазы подарили командиру корабля букет подводных цветов, матрос случайно помял их и сделал копии. Командир подарил букет жене: «Вот тебе, дорогая, цветы от Посейдона, запах специфический и неповторимый». Жена принюхалась: «Действительно, дорогой — специфический, как на нашем бумажном комбинате».
— Наказали матроса?
— Чтобы не зарывался, проткнул ему мичман кортиком мочку уха, потому и серьгу носит. Именно садовод надоумил меня подарить Светлане цветок папоротника. А давай, Петр, проверим, к кому из нас она благосклоннее, чтобы не гадать? Скажем, что спасение есть, но ценой смерти одного из нас.
— Не занимайся пустословием, в чем спасение?
— Надо перепрыгнуть ущелье и закрепить трос, по которому переберутся остальные.
— Что? Я прыгал максимум на четыре метра, в молодости. Недавно сиганул через лужу, но долетел до середины и упал на потеху зевакам. Одобрительно хрюкнула лишь развалившаяся рядом свинья.
— А у меня прыжки в длину вообще не запрограммированы, только в высоту. Захотел однажды перескочить дорожку и взлетел на балкон, где загорала девушка.
— Голая?
— Она лежала на спине и казалась роботом, поэтому я спросил, какой она серии, так как у нее очень красивые формы. Девушка засмеялась. Это была Светлана.
Узнав об их решении перепрыгнуть пропасть и возможных последствиях, девушка задумалась.
— Вы равноценны, — наконец, сказала она, — один полуробот, другой получеловек. Прыгать буду я. — И, разогнавшись, взлетела над пропастью.
— Ух! — выдохнули оба.
— Бросайте трос, кавалеры, — она стояла на другом конце пропасти, похожая на греческую богиню, такая дорогая и желанная. Петр увидел слезу, выкатившуюся из глаз робота, и то ли закричал от изумления, то ли более разряженным стал воздух, но рот у него открылся. Свершилось? А может быть, это роса? Вон, какая туча пришвартовалась к утесу. Но почему согнулись коромыслом ноги? Так тяжела потеря? И этот нос…
— Цапель, — раздалось с другой стороны пропасти, — мир спасет не красота, а любовь, помни об этом над пропастью.
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Щеки — на столе, плечи — шире стола, таким был новый глава администрации. До него в кресле могли уместиться два прежних главы — они были тонкими и длинными, неприлично возвышаясь над стоявшими посетителями. Над главой висел плакат: «В здоровом теле — здоровый дух!» Он заменил старый: «Мне сверху видно все, ты так и знай!»
С плаката улыбался хряк-производитель, что вызывало разные ассоциации. «Словно на свиноферме побывали», с такими словами выходили из кабинета не только граждане, но и работники администрации. Глава раньше занимался свиноводством и решил продолжить дело в рамках всего района. Начальство считало такое новшество причудой, но свинины в губернии было мало, и смирились: все же дело, не курлыканье, как у прежних глав, похожих на журавлей.
— Родимый, помоги, стенка дома расщелилась, живу в сарае, — просит женщина.
— Родимая, — словно хрюкнул глава, — поможем, денег в бюджете нет, дадим поросенка с фермы. Взрастишь его, получишь доход и стенку поправишь.
— Маловато будет.
— Возьми два поросенка, сарай-то большой?
— Большой.
— Три возьми. Свинья всем поможет. Видишь, хряка, словно живой он. Иногда говорю с ним, и неадекватное становится адекватным.
— Может, тебе, родимый, пол помыть? Запах больно спертый. Словно и вправду живой хряк.
— Ты, как секретарша моя, морщишь нос, толерантности в вас нет.
— А у тебя ее столько, что дышать нечем.
— Привык я, в чистом воздухе, наоборот, задыхаюсь. Индивидуум.
— А как же я буду в сарае с тремя чушками.
— Не гастарбайтер, вытерпишь.
Заходит в кабинет девушка, кровь с молоком, носик пятачком.
— Вот к вам со студенческой скамьи. Какой у вас одеколон приятный, с улицы — не надышишься. Распылителем пользуетесь?
— Сам распыляю, привык на ферме, хрюшки толерантные.
— Знаю, сама свинаркой работала.
— Свинаркой?
— Не помните? Я Аксинья дочь Клавдии, у вас практику проходила.
— Сразу бы говорила. Узнаешь хряка Володьку?
— Это он? Какой красивый, как живой.
— Ты насчет работы?
— Да, хочется на ферму, к свиньям, отрасль очень скороспелая.
— Я всегда говорил, пример бабам всегда с них надо брать, никаких демографических проблем.
— Если бы мужики на вас походили, а так — вроде в штанах, а без доброго семени.
— Ты мне нравишься, и обонянием, и задом крутишь не хуже других. Секретаршей ко мне пойдешь?
— Завлекала уже, чего там. С таким мужиком…
— Ладно, ладно. Чтобы меньше было недовольных, разрешим заходить в кабинет в масках, не бегать же мне каждую минуту в туалет.
— Правильно, Борис Борисович, и в целях незанесения вирусов гриппа, хоть свиного, хоть куриного.
— Вот что значит начинать со свинофермы, какой подход креативный к проблеме. Ты и раньше умом отличалась. Когда смешала семя всех хряков — производителей, ни одна свиноматка не оставалась без поросят.
— Под вашим руководством.
Раздался звук, похожий на хрюканье.
— Прости, ты своя: терпел, терпел.
— Терпеть вредно. Свиньи никогда не терпят, вот и растут как на дрожжах.
— Ты права, по себе чувствую. Следующего примем вместе. У тебя прическа под щетину, значит, и ум не короткий.
Втискивается человек — шкаф.
— Здравствуйте.
— Вам-то чего надо, вроде — в теле, в новых ботинках.
— Я сам глава, по обмену опытом приехал. Говорят, у вас хряк на стене, а воняет — не дохнуть, и это правда. Втрое меньше стало ходоков, что является главным критерием оценки работы администрации. Как вы этого добились? Мы сократили до часа время приемов, а ходоков стало втрое больше. Я фотографии всех животных на стену вешал, а бестолку. Ходоки, в основном, женщины, прут и прут.
— Женщины? Тогда просто, — вставила Аксинья. — Как секретарь Бориса Борисовича и как ветеринар по специальности, посоветую повесить на сцену напротив двери снимок жеребца, готового к случке, ну, вы понимаете. И половина ходоков улетучится. Даже мне бы стало неловко, а я в институте видела разных жеребцов.
— И человеческих, — захрюкал местный глава.
— Как просто. Где ты, Борис Борисович, нашел такую симпатичную девушку — я сначала подумал наряженная свиночка. Мне б такую. У моей секретарши под каждой ягодицей по стулу, лет двадцать так сидит.
— Интересно, посмотреть бы, — снова хрюкнул местный глава.
— Необязательно, и мы так можем, если стулья сдвинуть, — Аксинья повернулась, и главы подумали, что, может быть, она и права.
Главы долго обменивались опытом, пили водку из фужеров и оба поглядывали на Аксинью все с большим интересом.
ПЕТУХ-ТО В ЧЕМ ВИНОВАТ?
— Куда идешь, Евдоким, с топором, лезвие отточил — бриться можно?
— Петуху голову отрублю на хрен, не разбудил сегодня, я и проспал, жена, Зинка, одна перла со станции баул, набитый памперсами. Пока дотащила, сама три израсходовала.
— Комедия, прям.
— Вместо палатки им пользуюсь.
— А зачем столько памперсов? У многих, наоборот, запоры.
— Скоро разжижимся, овощи в сельпо завезли китайские, а после них сам знаешь какой бывает стул.
— На пестицидах выращивают.
— Хрен знает на чем, а дристать нам. Вот Зинка и запамперилась.
— Петух — то в чем виноват?
— Я на него зол. Орет часа на два раньше, и одну рябу только топчет, другие куры ни одного цыпленка не вывели.
— Как и ты, он однолюб, гордиться надо, а не голову рубить. Лишь раз ты огорчил Зинку, помню, как она тебя лупяздила скалкой за Анку кривую, а ты только с ней постоял у забора.
— У Анки глаз кривой, а шесть мужей было.
— Причем тут глаз: на ее заду мы оба с тобой уместимся.
— У моей Зинки не уже.
— Прикольно, если их задами смерить.
— Тебя между ними сунуть, так, не дыхнешь.
— Если налопаются, а петуха не трожь. Президент виноват, он расширил часовые пояса.
— А кто кур будет топтать?
— Каждая вторая баба одна живет, ничего. Подумаешь, куры? Другого петуха купи. А этот со своей рябой, как и ты с Зинкой, олицетворение крепкой семьи.
— Зря тогда топор точил?
— Почему, зря? Рискни хоть раз в жизни, иди поколи дрова соседке, одинокая она, будет рада помощи: десять лет без мужа.
— Скока?
— Десять уж минуло, как скопытился Кондратий. Конем его звали. Хилым был, но все время ржал. Скажешь ему, здорово, Кондратий. Ио — го — го! — ржет. Как твоя кобыла, не понесла еще? Снова: ио — го — го! Поговаривают, кто так ответит ей, затащит на гумно. Что тебе стоит так заржать и расколоть два — три чурбана?
— Свой бы чурбан Зинка не расколола. Соседка ей же и похвалится: с детства вместе на прутиках носились по деревне.
— Вот и стали ведьмами.
— Твоя Варька, не лучше. Обварила тебя кипятком за близняшек, которых ты в тракторе катал, потом сама на себе волосы рвала, мошну твою сварила вкрутую. До сих пор ходишь мерином.
— Отпускает понемногу, своей не говорю, ну, ее, меньше контроля. Близняшки, как две ивы, прижмутся, трактор не глушу. И соседка твоя тоже не липа. Давай, чего боишься с топором? Всегда можно сказать, что рубил дрова.
— И то, Пахом, правда. Может, сразу через плетень махнуть, она вчера мне подмигнула.
— Я всегда, Евдоким, считал, если эпилог есть, роман будет.
И ВЕДЬМЫ ШУТЯТ
Ведьма вылетела из трубы, попав в крону нависшего над крышей цветущего тополя. Пух особенно крепко цеплялся за сажу на лице: начнешь стряхивать — превратишься в десантника. Вон, один из них, Мишка, лежит в лопухах у забора. Из армии пришел месяц назад, а пьет и размазывает лицо каждый день. Перед кем выпендривается? Машке за тридцать. Сама вместо воды наливает в самовар самогонку. Больше девок нет, да и одиноких баб. Одни сестры Кулевы. Что считать Дарью, как репей к Кузьмичу одноногому прилипла. Говорит, у него оторванная нога отрастает, только без ступы. Другие грамотой не лучше. Пахомычу — за девяносто, а «ишо жаних», каждый год сватается к приезжающей на лето в деревню Татьяне Львовне. У нее двести килограммов веса и соответствующая одышка: только охает и ахает, что, видимо, возбуждает Пахомыча. А пямяти у него нет вообще. Приезжие хохмачи расплачиваются с ним за продукты старыми деньгами. Сколько он их скопил под матрацем?
Разыграть некого. В соседней деревне есть свои ведьмы, еще заставят мести конюшни, если прилетит к ним. Хоть с десантником шути.
Тормошит его:
— Просыпайся, пора в поход.
— Ты кто? — таращит он глаза.
— Как кто? Не видишь — твоя напарница. Сейчас в аду будем гонять чертей, зажрались они у своих котлов.
— А если они депутаты?
— Кто бы их выбирал, да и Чуров пока концы не отдал. Надевай берет — больше испугаются.
— Да, я не десантник, в хозвзводе служил, у меня и в военном билете записано, что плотник.
— А почему мажешь лицо, носишь берет?
— Машке мозги пудрю.
— У нее же нет мозгов.
— И правда, давно б раскусила.
— Ладно, не сдам тебя, но за это перекроешь мне крышу дома, как наступлю, разваливается.
— Это мы легко, тес давай, да гвозди.
— Я ведьма, а не лесопилка, сам все найдешь, не то килу наставлю, будешь ходить в раскорячку.
— Не надо, только не килу. Сам ножовкой доски из бревен напилю, — испугался Мишка.
— Ладно, десантник хренов, попей чайку у Машки и за работу.
Настроение стало лучше, и она опустилась во дворе дома Натальи Львовны.
— Все гнешь скамейку, а твоего Пахомыча сестры Кулевы обхаживают, уведут у тебя жениха.
Что тут произошло, видели бы вы?
— Ох, — охнула Татьяна Львовна, поднялась на дрожащие ноги и побежала (как протиснулась в калитку?) к дому Кулевых. Что делает ревность? Татьяна Львовна стала произносить слова даже на бегу, да какие: «глаза выцарапаю, пасть порву…» Потом ее везли от Кулевых на телеге.
— Сколько за свинью возьмете? — спросил приезжий заготовитель.
— Так, бери даром, — засмеялись Кулевы.
— Не отдам, — подбежал Пахомыч, — это моя свинья, я на ней жанюсь.
У заготовителя выпучились глаза:
— Старик, на свинье? Или у вас такая традиция?
— Десять лет я к ней сватаюсь, — добавил масла в огонь Пахомыч. Все загалдели, а ведьма быстро на метлу и во двор к Кузьмичу. Он строгал из березы деревянную ногу.
— А Дарья говорила, что у тебя новая нога растет, только без ступы, — заводит его.
— То растет, то не растет, а эта еще в березе выросла. Вот, сделал, чтобы гнулась, но скрипит стерва.
— Теперь тебе к Дарье не шастать, и скрип твой не услышат. Уезжает она, нашла себе молодого в городе. Случайно узнала. Вон, идет к тебе прощаться, полечу я, не до меня вам будет, — а сама на тополь и смотрит.
— Значит, хочешь ноги сделать? — сказал Дарье Кузьмич.
— Хотела, когда ты еще лежмя лежал, помнишь, здоровую ногу подвернул? Одной, которая без ступы, только и шевелил.
— Теперь со ступой нашла?
— Так, без ступы, как будешь ступать — то? Вот в город еду, сюрприз тебе сделаю.
— Ни хрена себе, сюрприз? Врала-то как: одноножик мой, тьфу.
— Скрип твой надоел.
— Ну, и катись к черту, колода дырявая. Едет она в город.
— Кому ты кроме меня нужен-то.
— Хочешь сказать, других баб нет? Забыла про ведьму? Прилетала уже, намекала на твой сюрприз.
— Посмотри на себя, скороход несчастный. Скрипи — не скрипи — больше не пущу. Хотела протез ему в городе купить, а он культяпится, — повернулась она и ушла.
У ведьмы стало на душе радостнее: сделала сегодня три пакости. А в ушах звучали слова Кузьмича про то, что ведьма тоже баба. «Ведь и правда!» — и она крепче сжала ногами черенок лопаты.
ПОД БОКОМ У ИРГИЗА
Запах скошенного на лугу разнотравья доносился до конюшни, попадал в ноздри стоящего там жеребца, и хотелось ему поноситься по туманным разливам Иргиза, разбивая на осколки хрустальный воздух, и потягаться в скорости с ветром, сгибающим до земли молодые прибрежные деревья. Это был Гром, сын республиканского рекордиста Буяна, завоевавший два именных приза, а денежных — не сосчитать.
Вот и завтра должны состояться скачки, но о них позаботится его наездник и старший тренер Мельников, главное — победить, на кону — миллион рублей. Они с тренером неразлучны, вместе купаются в Иргизе, вместе носятся по большой и малой беговым дорожкам ипподрома, иногда засыпают вместе: Гром — в стойле, тренер — в кормушке, когда переберет лишнего после удачных бегов или скачек.
Старший тренер отвечает за всех лошадей, но Гром у него любимчик, они даже понимают друг друга.
Однажды на конеферму попала дочка знаменитых родителей четырехлетняя кобылка Дымка, он влюбился в нее. Тренер часто выпускал их вместе в пойменные луга на разнотравье. У них теперь есть собственный сын жеребенок Витязь. Быстроногий, не отстает от родителей, когда, распустив гривы, они мчатся по степному водоразделу.
— Зачем выпустил Грома, Александр, а если поранит ногу перед скачками? — с укором сказала Мельникову ветврач Уколова. — Вон как бесится.
От Иргиза доносились ржанье и топот копыт резвящегося коня.
— Все будет путем, — ответил тренер, а про себя подумал: вот и решение вопроса. Надо пустить слух, что Гром слегка поранил ногу, и теперь, мол, ни о каком призе не может быть и речи, достаточно, чтобы узнали об этом первая сплетница в деревне бухгалтерша Неелова и участники забегов с других конеферм, повалят со всех концов претенденты…
Ипподром в форме двух приставленных друг к другу гигантских подков прижимался одним боком к лесопосадке, другим — к Иргизу. Сделали бы его еще больше, в степи места хватит, но зачем, беговые дорожки близки стандартным.
Они шли на ферму рядом, говорил тренер, но Гром, кажется, понимал все.
— Тебе надо похромать только до старта, — убеждал тренер, — а дальше расправляй гриву и лети как на крыльях. Для убедительности я тебе ногу бинтом перевяжу — это усилит впечатление.
Конь тряхнул головой, соглашаясь, и весело заржал, только мускулы перекатывались под бархатной кожей.
У конюшни встретили ветврача Уколову.
— Накаркала, Светка, растянул Гром ногу, видишь, прихрамывает.
И, кажется, захромал конь, главное в этом убедилась Уколова.
— Сделаем компресс, поможет.
— Да и массаж не мешало бы, — добавил тренер. Одно дело сплетница наговорит, другое — ветврач. Даже Фома неверующий с фуражного пункта посочувствовал, об остальных и говорить нечего.
— Как рысак побежит на трех ногах-то, или запасную выпустит, — съехидничал конюх Матвей.
— Рысь будет более мягкой, — весело ответил тренер: значит, всех убедили. Будет умора!
Настал день скачек. Собравшимся на ипподроме радостно улыбалось солнце, дул с Иргиза прохладный ветерок, насыщенный запахами луговых трав.
Приехали сюда депутат Семенов — любитель лошадиных скачек и игры на тотализаторе, заместитель главы муниципалитета Старшова в майке с изображением племенного жеребца. Собралось много других руководителей и просто зевак: лошадей в селах осталось мало и некоторые их еще не видели.
Мельников вел коня на старт, шепча ему что-то на ухо, и тот согласно кивал головой, чуть прихрамывая на переднюю перевязанную ногу. Одни радовались, другие, поставившие на Грома, чуть не плакали, некоторые меняли ставку.
— Отгремел ваш Гром, — потирал руки Семенов.
— А это еще мы посмотрим, — отвечала расстроенная Старшова.
И начались скачки. Мощные рысаки разбрасывали в стороны волны воздуха, слышны были только крики возбужденных людей.
— Давай, Гера, мочи этого Зевса.
— Чего захотела?! Алмаз, вперед Алмаз!
— Не отставай, Громик, мы с тобой!
Один из гостей снял ботинок и колотил им по спине ничего не замечающего толстяка. Другой, видимо пьяный, пел Марсельезу и топал ногами.
Как бы ни кричали любители скачек, результат знал лишь Гром да его наездник Мельников.
— Разошлась больная нога у Грома, я даже не подгонял его: жалко, с травмой он. Поэтому еще дороже победа, хотя соперники были не по нашим подковам, — объяснял тренер.
— Миллиона полтора как минимум отхватили, — процедил сквозь зубы Семенов.
— Заслужили, не каждый выйдет с травмой на ристалище, — ответила довольная Старшова. У нее тоже раз в десять потяжелел карман.
Мельников снова вел под узцы своего воспитанника Грома и шептал ему на ухо о том, что за овином у конюшни его будет ждать соскучившаяся Дымка, а сейчас зайдут они за ометы и вмажут граммов по сто коньяку, закусят сахаром. Сами развлекутся, других взбудоражат.
Они — по-скромному, Семенов со Старшовой и другими высокими гостями сидели на берегу Иргиза долго, утром их разбудил Гром, прибежавший туда покушать травки, присыпанной сладкой росой.
ЧУДИКИ
Виктор Иванович Балдин, друг мой и сослуживец, по прозвищу Агроном Иваныч или просто Балда, похвастался мне, что выращивает во дворе коттеджа все овощи и фрукты, от названия которых образовались фамилии местных начальников — такова, мол, прихоть нанявшей его хозяйки: морковь, капусту, огурцы, репу, даже виноград развел.
— А знаешь, что в нашем доме поселились беженцы с юга: Лимонов, Персиков и Кабачков? — спросил я Балду. — Один в бюро занятости работает начальником, другой — помощником главы администрации, третий — хозяин кабачка.
— Так, скорее всего, фамилия у него от слова кабак, а не кабачок, — растерялся он.
— А Персиков — от слова перс, тогда? — подначил я.
Он принял все всерьез, и напрасно я убеждал, что хозяйка его с придурью, привычка ее — блажь, и не надо обращать на нее внимание.
С того дня долго не видел я Балду. Уже и осень окропила желтыми дождями деревья, а встречались с ним в последний раз весной, когда набухали почки и у самого Балды глаза будто подсинили. Он нес с базара на могучем плече саженцы плодовых деревьев. Длинные волосы (раньше он любил короткую стрижку) разметались рыжими прядями, и снова два синих мазка на загорелом лице.
— Что, батька, так рано поднялся, чего ты взыскался?
Тебе бы все ерничать да подначивать, — обиделся он. — Сам заварил кашу, подкинув мне задачку. Пришлось теплицу стеклянную построить — с водой, отоплением, иначе лимоны и абрикосы не вырастишь. А тут еще Кивин, начальник почты, появился. Хрен знает, откуда его принесло, сват, наверное, чей-то. Все лето тусовался во дворе с лопатой да мотыгой.
— Ну и как успехи, неповторимый ты наш чудак?
— Скоро угощу своими лимонами, — улыбнулся он. — Вера Васильевна уже подарила парочку Лимонину.
— А абрикосы — Абрикосову?
Он благодушно развел в стороны своими руками — вилами.
ЭПИЗОД С КОММЕНТАРИЯМИ
Сенька с Клавкой целовались у забора.
— Сто, сто один, сто два …, — считала Клавка, — до тыщи губы все отвалятся. Придется их впрыскивать, как Сонька. У верблюда нашего меньше. Сто пять, сто шесть… Тятька верблюда привез, чтобы в гостей плевался, особенно в тех, кого не любит. Сто пятнадцать, сто шешнадцать. … Дернет верблюда за хвост — плюет, вдарит по горбу — делает поклон.
— Умный, гад.
— Кто, тятька?
— Скорее, верблюд, меня так всего оплевал.
— Значит, тятьке не пондравился. И то: говорит, шелопай ты.
— Зато я язык изучаю: блатной, у братьев Тупиковых — по десять лет сидели.
— Нашел тоже язык.
— А если сяду? Сразу свой буду.
— Не подумала, я по дурости англицкий начинала.
— Клава, ты семь — то классов кончила? Диалект у тебя не наш, говоришь, как старуха Изергиль с Кавказа.
— Чай, семь лет ходила в семилетку, Изергиль Ивановна нас с первого по седьмой учила. Не отвлекай, сто осьмнадцать, сто девятнадцать, сто двадцать…
— Все, больше у меня денег нет. Ты, как отец, разденешь до гола.
— Мне ж пятнадцать, было б шешнадцать, тогда б раздела, и сейчас горю, как забытая кура на сковородке.
— Охладиться надо.
— В шешнадцать охладимся.
— Тогда я пошел, через год встретимся.
— Долгонько ждать.
— Особенно когда на скотном дворе да с племенными жеребцами работаешь. Один петух чего стоит: покукарекает — и на несушку. Смотри, баран по земле причиндалы тащит, не спрашивает у овцы, сколько ей лет. А пес-барбос, когда прижмет Жучку, как охлаждается…
— У нас, Сеня, верблюд на коров посматривает.
— А я что говорю: все охлаждаются.
— И мне надоело потеть, только и стирашь рубашку, трусы уж не ношу, десять раз не поцелуемся, взмокнут все.
— Полезли на сеновал.
— Боюсь, увидят.
— Кто? Петух или козел?
— Правда, они ж немые.
— А я о чем?
Комментарий
козла:
«Ни рог, ни головы, а учат, хотя у моего хозяина есть и борода и рога: только за порог, сосед — через плетень и сразу к хозяйке, как будто первый раз, а у него, девять козлят. Смэ — э — х!»
коровы:
«Еще телка, а оскорбляет: не отличим быка от верблюда, опосля стеклянных палочек-то. А ее отец: пол-деревни баб покрыл. Богач, скоро страуса привезет, кур топтать, чтобы несли крупные яйца. Без страусихи не получится. Му — у — дак!»
петуха:
«У меня одна извилина, но где вы видели петуха дурака? Кто станет есть сено после Сеньки с Клавкой? Только жвачные, они умом не отличаются, если довольны палочками, как будто нельзя под быка подлезть. Плакать все время не дело. Вон, заведующая птичником Оксана Львовна стажера загнала на насест. Очки слетели, глаза вылезли из орбит. Еще бы: у нее груди — не меньше верблюжих горбов. А птичница Дарья, старая дева, все время трогает член у жеребца и вздыхает. Фуражир Федя, наоборот, смеется, когда сравнивает свое достоинство с конским. Может быть, поэтому Дарья вздыхает. Не верю, что она старая дева, на уборке солдатам кашу варила, которой я так наклевался, что взлетал только на собачью будку».
жеребца:
«На сеновал они полезли, ну, и что? Приголубить можно и на лугу. Была бы кобылка. Клавка ничего, круп, правда, узковат, но расширить завсегда можно. Агрономша из города была как былинка, только на зуб, а через год в конюшню не пролезала: с ветеринаром спуталась, а он был настоящий конь, кобылы засматривались. Но занемог, темпераментами не сошлись. Всякое бывает, ио — хо — хо!»
пса:
«Когда-то начинать надо, и чем раньше, тем лучше, не будешь делать щенков, они не родятся. Муж и жена Губовы одинокие, а совокупляются по большим праздникам, мы, собаки, чаще, лишь бы сорваться с цепи.
Прошлым летом лису оприходовал. Теперь полный комфорт, через день ко мне бегает, как Анфиса Германовна к Ивану Ивановичу. Я сначала думал, волки по ночам воют, из шкуры чуть не вылез от страха, ан, нет, это Анфиса Германовна. Она и к Сеньке ластилась, но он Клавку выбрал, хотя в деревне и выбирать некого. Собакам еще можно, если б не цепь».
вороны:
«Ходит без трусиков, недотрога, а в прошлом годе с Мишкой Разгуляевым в бане прятались. Мылись они там? Не видела, но три часа че делать в нетопленной бане? Да, и Сенька хорош. Я же не курица, летаю. От Василисы, лоточницы, на зорьке шел, камнем по привычке в меня бросил, до сих пор хромаю. Вот, клюну их в мягкое место, будут знать.
В соседней деревне старики только остались, человек восемь. А в нашей милуются, изменяют, ишо есть драйв».
верблюда:
«Клавка — вертихвостка.… В крестьян плевать? Они давно оплеваны, некоторые, как и я, с горбами: поработай-ка на хферме или в поле. Субъекты выбираю сам. Например, Мотова. Как же, водку он производит, пшеничную, из ключевой воды?! Точнее, из гнилых отходов и воды из пруда, куда только я не мочился.
А Кудаков? Овощи — скороспелки выращивает, от них животы пучит еще за столом. Не лучше продукция у Мутилова. Прокиснет молоко, он делает из него кефир, в крайнем случае, выбивает масло. Поносят все, опробовавшие их. Делец Узколицев смекнул и стал делать деньги на биоклозетах, которые устанавливает в местах массовых гуляний, му — ни — ци — па — ли — тет, слово-то какое, каждая буква стреляет, не делает этого. А знаете, где он их потом моет? В том самом мотовском пруду. Рожу наел, не плюнуть в нее — тяжкий грех.
Сеньку обмарал по-свойски, для прикола — похож он на меня в профиль.
Изергиль Ивановны:
«Клавка с Сенькой давно снюхались, дебилы, а туда же — в любовь. Один на скотном дворе, другая, вообще, никто. Отец фермер. Как вспомню его голос — «Изергилюшка!», противно становится. Хотел бросить свою росомаху, но у меня был муж, хромой, на тракторе ногу переехали. Осталась культяпка, сам давно в гробу.
Из окна все видно, но никого нет: с утра за хлебом сходят и — к окнам. Умирает деревня. Хоть Сенька с Клавкой балагурят, а ей нет и шешнадцати, хотя что, она сама с четырнадцати начала: кавказ все же. Любопытно, так звали и мужа — Кавказ Ибрагимович. Об их акценте не стоит и вспоминать. Она и сейчас плохо говорит, да, не с кем. Если с Сенькой — молод для нее, с отцом Клавки — недалеко ушел от своего верблюда. Есть один — Ерема Ильич, но фамилия не очень звучная: Калов. Не лучше и у нее — Какова, а вместе что будет …, о, аллах! А на сеновал хочется.»
ПОЛОВОДЬЕ В СТЕПИ
Степь. Глухая деревня, вытянутая по Узеню на три километра. А в начале прошлого века, может быть, даже пораньше, здесь жили двадцать тысяч человек.
Осталась одна улица. Словно огромный рот с выпавшими зубами прижался к реке, чтобы напиться: край-то полупустынный, засуха — через год.
А в эту весну случилось невероятное. Паводок залил даже сухую балку, вышел из берегов Узень и постучался в дверь к тем, кто построил дом у самой реки. Это пол-беды. На левом пологом берегу больница стояла, чуть поодаль — жилые дома, свиноферма и птичник. Правые к левым через плотину ходили.
Не удержали паводковую воду валы на косогорах, и она снесла плотину.
К большому паводку, конечно, готовились, запасли продовольствие, определили места возможного переселения. Но и опростоволосились, во многом надеясь на плотину.
Так думала Маркеловна, разнося сельчанам почту. Как ей на левый берег попасть? Там больные, одинокие старики, и все ждут весточки. Одна надежда — Пахомыч. Рыбак, у него моторка.
Торпедами, не надо подгонять, неслись по реке свиньи, спокойно, не спеша, плыли гуси, течение сносило их за крайние дома, и там образовался птичий базар. Значит, вода подошла к свинарникам и птичнику со всех сторон, и образовался остров.
— Пахомыч, махнем через Узень, мы мигом. Есть бандероль, письма, телеграмма.
— А если вода еще поднимется на метр, не до телеграмм будет.
К почтальону подбежала продавщица Галя:
— Передай дочке гостинец, на сносях она. Поцелуй за меня.
— Сколько дочке-то? — спросил Пахомыч.
— Восемнадцать.
— Тогда и я ее поцелую.
— Вон, свиноматку целуй, смотрит на тебя с благодарностью: не рискнула с поросятами в животе в ледяную воду прыгать, в лодку попросилась, — пошутила Маркеловна.
— А свиньи — умнейшие животные, вон как форсируют Узень, организованно, точно солдаты, без лишнего хрюканья. Буду сейчас перевозить тяжелобольных и сильно беременных, а надо было загодя.
— На ловца и зверь бежит, — схватил Маркеловну у больницы за руку доктор Игорь Сергеевич. Во рту у него дымилась сигарета, успокаивая людей. — Медсестер нет, а ты баба опытная, санитаркой работала. Будешь сопровождать девчонку, еще вчера должна была родить. Никаких нет. Все будет окей.
Сопровождала Маркеловна ту самую дочку продавщицы. На самой середине реки, сейчас раз в десять шире и быстрее, надумала Аня рожать. Пахомыч не знал что делать. Было спокойней, когда упал с лодки и добирался до берега, ухватившись за хвост борова. Орала Аня так, что даже на костылях бежали к реке больные, а на другом берегу скопилось пол — деревни.
— Давай, Анка, в книгу рекордов попадешь, посреди половодья степняка родишь, — кричал пьяный и мокрый с головы до ног скотник Василий.
— Маркеловна, на тебя надежа, — старалась перекричать его мать Анки.
Пахомыч чуть не заплакал, когда заглох мотор, с перепугу не на тот рычажок нажал. Греби хоть ладошкой, она у него как весло — работал всю молодость молотобойцем.
Спокойной казалась одна Маркеловна. Разорвав на пеленки свое платье, она оставалась в одной рубашке.
— Все нормально, — сказала Пахомычу, — Ты же мужик, заводи мотор.
Мотор затарахтел вместе с криком ребенка. Вот тут и покатились слезы из глаз, а, может быть, Узень плеснул в лицо водичкой — кто его знает? Главное, человек родился. Вон как оглашает криком водное пространство. Хлопали люди в ладоши, кричали «Ура!»
На носу лодки сидела Маркеловна, прижав к груди маленький сверток. Мадонна!
Потом местный художник и ваятель слепит из гипса скульптуру: в лодке — роженица, рядом — сельский почтальон с ребенком на руках, и за рулем — Пахомыч.
НИКИТИЧНА
Почтальон Никитична не смотрела телевизор, не читала газет. Кажется, родилась с почтовой сумкой. К концу рабочего дня ее ноги гудели как телефонные столбы, а дома пять внуков…
Если бы не точки психологической разгрузки или загрузки (она еще не определилась) был бы кердык.
День выдался летний. Люди обнажились, некоторые чересчур. Незнакомых не было, поэтому кивала головой всем, обязательно отвечала на реплики.
— Сумка тощая, Никитична. Не выписывают газетки? — спросил уборщик с первого участка.
— В школу иду, учусь в пятом классе. Без среднего образования только в дворники.
Продавцов кваса и воды было столько, что слышались глотки людей, заливавших в перегревшиеся тела прохладные напитки.
— Никитична, хочешь кваску? — позвала стоящая у киоска женщина. — Как «Мерседес» побежишь.
— По ямам-то и кочкам? Как бы на костылях почту не разносить.
— Так ты побеспокойся, по просьбе трудящихся.
— Статус не тот, почтовая сумка мешает. Могут и по собственному желанию…
Зашла в больницу, чтобы отдать врачу — эндокринологу заказное письмо.
— Здравствуйте, Венера Георгиевна!
— Здравствуй, Никитична! Присядь. Отдохни, сейчас отпущу больного.
Венера Георгиевна родилась с перекошенным ртом, разной длины руками. Одна сторона лица была полностью деформирована, говорила она плохо и больные ее не понимали. Переводила медсестра.
При первой встрече с Венерой Георгиевной Никитичне стало плохо. Отхаживали ее долго. Откроет глаза — она, и снова в небытие. Может, не так все было, любит она пошутить. Но сама рассказывала.
Напротив врача сидел пожилой человек с седой бородкой.
— В вашей диете обязательно должны быть икра, осетрина, семга, ананасы.
— Я это все ем постоянно.
— Да, — ее рот скривился от удивления еще больше. — Глаза ваши мне не нравятся. Пили под Новый Год?
— Как же, немного коньячку.
— Сколько это немного — грамм пятьдесят?
— Обижаете, Венера Георгиевна, грамм пятьсот.
— Что? Валя, — крикнула она медсестре, прикорнувшей за ширмой после новогодних праздников, — выпиши ему инсулин и все, что попросит…
На крыльце райпотребсоюза пузатый человек орал в мобильник:
— Пойми, там нет мово интереса. Ну и хрен с ним, что дорога общая, в кармане вошь на аркане. Какой миллион ускреб? Ты это, за базаром следи. Нету у меня денег, и все.
Посмотрев на Никитичну, спросил:
— Опять надо брехунок выписать? Там одна блевотина, а не выпишешь будет большой геморрой.
Пискнул мобильник, заиграл «Мурку».
— Подожди, Никитична. Марфа, привет! Что, что? Кто на заду у тебя ждет? Николай? Ах, ты огород имела в виду. Теперь тебя подстегнул к своим проблемам, какой упертый. Я же говорю: нет мово интереса. Или вот что: пусть даст на неделю свою актрису, как он ее называет. Что, все буфера ей помяли, своротили сцепку? Если не будет этой самой актрисы-матриссы — только отлив. Все завязали. Вот, Никитична, живем, как на море: то прилив, то отлив.
— И все в свой карман.
— Не в чужой же, всеобщие блага — в прошлом. А брехунок подпишу, даже два — один тебе, все равно заставят…
Снова заиграли « Мурку», снова раздалось по улице: «А я говорю — нет мово интереса». Телевизионная мачта ретраслятора показалась ей наркотической иглой, воткнутой в тело города, по которой сползали похожие на кровь розовые сгустки облаков.
Из подъезда пятиэтажки выскочила с сумкой и фонендоскопом в руках медсестра скорой помощи.
— Эх, и вредный мужичок, — пожаловалась Никитичне.
— К нему и иду.
— Вам бы медаль «За мужество», — восхитилась медсестра.
И орден бы дать не мешало. Старик был жадный, злой. Недавно потерял зрение и стал еще злее. Заставил пригласить в свидетели соседку, прежде чем открыть дверь.
— Сволочи, — орал он на всех — на родных и близких, на чиновников и социальных работников, особенно на врачей, дошел до прокурора. Бригадами приезжали из больниц и поликлиник, но что припишешь: давление, как у космонавта, сердце здоровое. Немного спина побаливает, так и молодых вон как скручивает.
Она смотрела на него — маленького, обмоченного, с всклокоченными волосами. Один глаз стеклянный, другой словно немного видит, и все время бегает туда — сюда, как на старых часах. Страшновато.
— Вот вам пенсия, семнадцать тысяч рублей.
— Все правильно? — спрашивает он у соседки.
— До копеечки, — подтверждает та.
— Пока, Федор Владимирович, увидимся.
— Тоже мне профессор Беляев: чем смотреть мне — стеклянным глазом?
В редакции брехунка, расположенной в центре развлечений и досуга, где постоянно звучали песни, Никитична отдыхала. В газете журналисты не работали, всех сократили. В кресле редактора сидела Матрена Васильевна из местного училища. Корреспондентами числились кулинар Елена Маленькая и техник мукомольной промышленности Елена Большая. Никитична приходила в брехунок к чаепитию. Прослушав последние новости, Никитична не выдержала:
— Девоньки, а когда вы работаете?
— Надоело нам работать, — сказала Елена Маленькая, — мы перешли на самообслуживание.
— Так не выписывают газетенку.
— Зато нам удобно, — вставила Елена Большая. — В редакции и парикмахерская, и столовая, и переговорный пункт, и справочная, и товары первой необходимости.
— Хватит, надоело. Липовые чиновники, липовые депутаты. Буду баллотироваться в мэры…
В приемной мэра города Анны Никитичны Ершовой собрались местные начальники.
— Как вы думаете, возьмет нас в свою команду новый мэр или пора подыскивать другую должность, — спросил Эдуард Вениаминович из потребительского союза.
— Не верю я, что 70 процентов горожан за нее проголосовало, — высказал сомнение начальник городского рынка.
— А что тут непонятного: была почтальоном, все ее знают, — вставил главный коммунальщик.
— И она знает всех, в том числе и нас, — подтвердил начальник почты.
— Скорее всего, не подпишет Анна Никитична наши заявления. Не только она, все знают, как мы попали в свои кресла, — заявила редакторша.
Раздался звонок телефона, незнакомая присутствующим секретарша сняла трубку, послушала и утвердительно кивнула головой.
— Сегодня приема не будет, Анна Никитична знакомится с новыми работниками мэрии, — сказала весело она.
зала Пахомычу, — Ты же мужик, заводи мотор.
Мотор затарахтел вместе с криком ребенка. Вот тут и покатились слезы из глаз, а, может быть, Узень плеснул в лицо водичкой — кто его знает? Главное, человек родился. Вон как оглашает криком водное пространство. Хлопали люди в ладоши, кричали «Ура!»
На носу лодки сидела Маркеловна, прижав к груди маленький сверток. Мадонна!
Потом местный художник и ваятель слепит из гипса скульптуру: в лодке — роженица, рядом — сельский почтальон с ребенком на руках, и за рулем — Пахомыч.
НИКИТИЧНА
Почтальон Никитична не смотрела телевизор, не читала газет. Кажется, родилась с почтовой сумкой. К концу рабочего дня ее ноги гудели как телефонные столбы, а дома пять внуков…
Если бы не точки психологической разгрузки или загрузки (она еще не определилась) был бы кердык.
День выдался летний. Люди обнажились, некоторые чересчур. Незнакомых не было, поэтому кивала головой всем, обязательно отвечала на реплики.
— Сумка тощая, Никитична. Не выписывают газетки? — спросил уборщик с первого участка.
— В школу иду, учусь в пятом классе. Без среднего образования только в дворники.
Продавцов кваса и воды было столько, что слышались глотки людей, заливавших в перегревшиеся тела прохладные напитки.
— Никитична, хочешь кваску? — позвала стоящая у киоска женщина. — Как «Мерседес» побежишь.
— По ямам-то и кочкам? Как бы на костылях почту не разносить.
— Так ты побеспокойся, по просьбе трудящихся.
— Статус не тот, почтовая сумка мешает. Могут и по собственному желанию…
Зашла в больницу, чтобы отдать врачу — эндокринологу заказное письмо.
— Здравствуйте, Венера Георгиевна!
— Здравствуй, Никитична! Присядь. Отдохни, сейчас отпущу больного.
Венера Георгиевна родилась с перекошенным ртом, разной длины руками. Одна сторона лица была полностью деформирована, говорила она плохо и больные ее не понимали. Переводила медсестра.
При первой встрече с Венерой Георгиевной Никитичне стало плохо. Отхаживали ее долго. Откроет глаза — она, и снова в небытие. Может, не так все было, любит она пошутить. Но сама рассказывала.
Напротив врача сидел пожилой человек с седой бородкой.
— В вашей диете обязательно должны быть икра, осетрина, семга, ананасы.
— Я это все ем постоянно.
— Да, — ее рот скривился от удивления еще больше. — Глаза ваши мне не нравятся. Пили под Новый Год?
— Как же, немного коньячку.
— Сколько это немного — грамм пятьдесят?
— Обижаете, Венера Георгиевна, грамм пятьсот.
— Что? Валя, — крикнула она медсестре, прикорнувшей за ширмой после новогодних праздников, — выпиши ему инсулин и все, что попросит…
На крыльце райпотребсоюза пузатый человек орал в мобильник:
— Пойми, там нет мово интереса. Ну и хрен с ним, что дорога общая, в кармане вошь на аркане. Какой миллион ускреб? Ты это, за базаром следи. Нету у меня денег, и все.
Посмотрев на Никитичну, спросил:
— Опять надо брехунок выписать? Там одна блевотина, а не выпишешь будет большой геморрой.
Пискнул мобильник, заиграл «Мурку».
— Подожди, Никитична. Марфа, привет! Что, что? Кто на заду у тебя ждет? Николай? Ах, ты огород имела в виду. Теперь тебя подстегнул к своим проблемам, какой упертый. Я же говорю: нет мово интереса. Или вот что: пусть даст на неделю свою актрису, как он ее называет. Что, все буфера ей помяли, своротили сцепку? Если не будет этой самой актрисы-матриссы — только отлив. Все завязали. Вот, Никитична, живем, как на море: то прилив, то отлив.
— И все в свой карман.
— Не в чужой же, всеобщие блага — в прошлом. А брехунок подпишу, даже два — один тебе, все равно заставят…
Снова заиграли « Мурку», снова раздалось по улице: «А я говорю — нет мово интереса». Телевизионная мачта ретраслятора показалась ей наркотической иглой, воткнутой в тело города, по которой сползали похожие на кровь розовые сгустки облаков.
Из подъезда пятиэтажки выскочила с сумкой и фонендоскопом в руках медсестра скорой помощи.
— Эх, и вредный мужичок, — пожаловалась Никитичне.
— К нему и иду.
— Вам бы медаль «За мужество», — восхитилась медсестра.
И орден бы дать не мешало. Старик был жадный, злой. Недавно потерял зрение и стал еще злее. Заставил пригласить в свидетели соседку, прежде чем открыть дверь.
— Сволочи, — орал он на всех — на родных и близких, на чиновников и социальных работников, особенно на врачей, дошел до прокурора. Бригадами приезжали из больниц и поликлиник, но что припишешь: давление, как у космонавта, сердце здоровое. Немного спина побаливает, так и молодых вон как скручивает.
Она смотрела на него — маленького, обмоченного, с всклокоченными волосами. Один глаз стеклянный, другой словно немного видит, и все время бегает туда — сюда, как на старых часах. Страшновато.
— Вот вам пенсия, семнадцать тысяч рублей.
— Все правильно? — спрашивает он у соседки.
— До копеечки, — подтверждает та.
— Пока, Федор Владимирович, увидимся.
— Тоже мне профессор Беляев: чем смотреть мне — стеклянным глазом?
В редакции брехунка, расположенной в центре развлечений и досуга, где постоянно звучали песни, Никитична отдыхала. В газете журналисты не работали, всех сократили. В кресле редактора сидела Матрена Васильевна из местного училища. Корреспондентами числились кулинар Елена Маленькая и техник мукомольной промышленности Елена Большая. Никитична приходила в брехунок к чаепитию. Прослушав последние новости, Никитична не выдержала:
— Девоньки, а когда вы работаете?
— Надоело нам работать, — сказала Елена Маленькая, — мы перешли на самообслуживание.
— Так не выписывают газетенку.
— Зато нам удобно, — вставила Елена Большая. — В редакции и парикмахерская, и столовая, и переговорный пункт, и справочная, и товары первой необходимости.
— Хватит, надоело. Липовые чиновники, липовые депутаты. Буду баллотироваться в мэры…
В приемной мэра города Анны Никитичны Ершовой собрались местные начальники.
— Как вы думаете, возьмет нас в свою команду новый мэр или пора подыскивать другую должность, — спросил Эдуард Вениаминович из потребительского союза.
— Не верю я, что 70 процентов горожан за нее проголосовало, — высказал сомнение начальник городского рынка.
— А что тут непонятного: была почтальоном, все ее знают, — вставил главный коммунальщик.
— И она знает всех, в том числе и нас, — подтвердил начальник почты.
— Скорее всего, не подпишет Анна Никитична наши заявления. Не только она, все знают, как мы попали в свои кресла, — заявила редакторша.
Раздался звонок телефона, незнакомая присутствующим секретарша сняла трубку, послушала и утвердительно кивнула головой.
— Сегодня приема не будет, Анна Никитична знакомится с новыми работниками мэрии, — сказала весело она.
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
На перекрестке дорог, где степной ветер гонит серые волны ковыля к далекому Узеню, встретились двое, с котомкой и рюкзаком.
— Здорово, Пахом! Узнал меня? Петров я с Ежей.
— Здорово, Устим! Как не узнать, вместе выросли. Как там в Ежах? Как Кондрат Иваныч?
— Ничего, хромает. На баб поглядывает, которые остались. А в Суслах как: не все померли?
— Тоже одне бабы остались. Летом раком на огородах, зимой самогонку глощут.
Порыв ветра донес далекий рокот машин.
— У вас ишо работают, а у нас Кузькин, не видеть бы его мать, все межи и доли наши распахал и засеял озимкой. Себе зерно — нам солому.
— Жук-кузька, — рассмеялся Устим. — Будя о нем. Ты вот скажи, Пахом, как у вас в Суслах поживает моя родня Алевтина Маркеловна со своим непутевым мужем Кузьмичом. Бывало, напьется, все расколет. Алевтина последние тарелки за образами прятала.
— Теперь угомонился, на погосте он, как и остальные мужики закрывши рот лежат. Да ну их всех к лешему, земляк. Давай пообедаем, чем Бог послал. У меня есть лук, сало, вареная картошка.
— У меня самогон.
В степи всегда ветер. Кружился он вокруг них, гоняя волны травы, хотел сгоряча свалить дерево у засохшего пруда, схватил за ветви, но мало было силенок, сорвал только листья.
Они не замечали потуги ветра, окунувшись в приятные воспоминания.
— Помнишь, Пахом, учетчицу бригады Аксинью. Заря завидовала ее румянцу. Мы обои за ней ухаживали, а она тянулась к Григорию. Не знаешь, как жизнь у нее сложилась?
— Эх, дорогой Устим! В чем наша беда. Все интересуемся, как ее, твоя, моя жизнь сложилась. Тольки на старости лет я понял: слаживать ее надо самим…
Они пошли, обнявшись, к далекому опоясанному узкой лентой Малого Узеня горизонту, напевая песню втроем — Пахом, Устим и ветер.
УДАЧНЫЙ РОЗЫГРЫШ
Деревня прижалась к кладбищу, вокруг которого разрослись деревья. А вот ограда осыпалась: заржавели гвозди, упал сгнивший штакетник.
Каждый, кто ехал по дороге, видел разрушенную временем ограду, но по привычке надеялся на хозяйство. Хотя остался в деревне вместо колхоза один фермер.
Говорили ему:
— Поправь ограду, ночью все чаще снятся мертвецы. Скоро навещать будут.
— Мертвые не ходят, — успокаивал стариков успевший разбогатеть фермер.
— Вон к Агафье, постучался муж, а уж лет двадцать как замерз в сугробе. Жалился: собаки кресты отметили, коровы тревожат мертвецов. Не гоже так. Вот придут к тебе — узнаешь, ходят или нет.
Ночью фермер услышал в сенях тяжелые шаги.
— Это дед твой Пахом, — послышался глухой голос, — когда ты, сукин сын, оградку поставишь на кладбище, все себе и себе. Смотри у меня.
На другой день стучали топоры и звенели пилы на погосте, который к вечеру огородили. Больше других старался фермер, сбивая штакетник дрожащими руками. Вместе с ним работали старшеклассники, разыгравшие его так удачно.
А дед, кажется, ухмылялся с могильной фотографии.
Как-то я встретил фермера у кабинета психиатра.
— Покойники шьют дело, — шепнул мне, — говорят: земляков обманул, присвоил их земельные доли. И за аренду только десять процентов плачу.
— Ты так психиатру не говори, заметут еще в психушку.
— Что же делать? — смотрел на меня как на последнюю надежду.
Попросил его рассказать о своих невзгодах и печалях поподробнее.
— Под Рождество приходили трое в саванах, с косами. Попил, говорят, кровушки народной, обобрал всех. Если не составлю справедливые договора с пайщиками, не построю часовню у кладбища и не положу по селу асфальт, дело будет у прокурора. Сам туда с повинной побегу, — фермер действительно верил во всю эту чепуху. Надо было его спасать. Переборщили селяне, скорее всего опять ученики. Но в чем — то они правы. Надо всех примирить благими делами.
— Тебе трудно проложить по улице асфальт? — спрашиваю.
— Конечно, нет.
— А часовенку построить?
— Еще легче.
— А больше людям, твоим же односельчанам, за арендуемую землю платить?
— Нет вопросов.
— Так в чем же дело? Начинай, а я с душами умерших договорюсь.
— Сможешь?
— Нет вопросов.
— Верю тебе, а сделаешь так, чтобы они больше ко мне не приставали?
— Еще легче.
Дня через два приехал я в школу к старшеклассникам.
— Ребята, — говорю, — человек с ума сойти может, очень уж впечатлительный. Где милосердие?
Договорились: с этого дня ни одного розыгрыша не будет.
А асфальт в селе и часовенка у кладбища появились. Повысил арендную плату за землю фермер. И все стали жить спокойно и мирно.
Я в этой истории прибавил только часовенку у кладбища. Так захотелось.
СТАРШЕ ГОРОДА
Слесарь-электрик Михалыч перерыл все старые ящики, чтобы найти нужную гайку. В слесарке чего только не было, многие годы из нее ничего не выбрасывали. Попадались детали даже от «овечек» — это такие маленькие паровозы с большими — большими трубами.
Но подобного Михалыч никак не ожидал: под пылью одного ящика он отковырнул… копейку — думал поначалу шайба. Почистил ее и застыл в недоумении: 1853 год.
Как такое может быть? Ершову всего 115 лет. В то время в степи на его месте только сайгаки бегали. Копейка была старше города на сорок лет…
Размышляя о находке, еще больше запутался слесарь. Ящику никак не может быть полтора века, он типовой, стандартный, да и люди столько не живут. Много десятилетий прошло после революции, когда сменились деньги. До сих пор не может отгадать загадку старый железнодорожник.
Еще была одна памятная находка у Михалыча. Бочку водки откопал он в тине старой балки, где вода жарким летом всегда высыхала.
Поехал тогда на рыбалку на пруд Пьяный. Просыпалось подрумяненное зарей утро. В сухой балке фиолетовые тени были гуще. Поэтому несколько раз ударил детской лопаточкой по твердому предмету, прежде чем увидел обод то ли бочки, то ли колеса.
Стало не до червей, которых здесь всегда было много. Даже вспотел от волнения, предчувствуя невероятное.
Откопал бочонок — крепкий, пузатый, наполненный какой — то жидкостью.
Говорят, жил в здешних местах помещик Жулидов. Зимой на Крещение, в награду за труд, всегда бросал в прорубь бочонки с водкой. Батраки прыгали в ледяную купель и доставали их под общий хохот присутствующих. Рядом жгли яркий костер, согреваясь.
Михалычу хватило водки на целую свадьбу, она была отменного качества из местной пшеницы.
Бочонок до сих пор цел: в нем Михалыч солит огурцы.
А копейку он подарил внуку и теперь тот, показывая раритет другим, озадачивает их: как могла попасть царская копейка в железнодорожные мастерские города, которого еще не было.
НУЖЕН БАЛДА
Такое объявление в нашу газету еще не давал никто. Это была изысканно одетая рыжеволосая женщина, одни ее туфли «перетягивали» мои жигулевские колеса вместе с запаской. Точеная фигура оттопырена и выпячена где надо. Ногти обоюдоострые — наверняка с многих сняла скальп.
— Ищу работника не слишком дорогого, чтобы в огороде копался, ухаживал за ребенком, — сказала.
— Балду подразумеваете? — подначил я.
— Нужен опытный огородник: цветочки там, огурчики. Такие объявления даете?
— Попробуем. Кстати, я не случайно Балду упомянул. Есть у меня на примете такой человек. Безработный, но с определенным местом жительства. Силища в нем: мой «жигуль» на спор за передок поднимает. И сельхозинститут за плечами. Просто невостребованным стал в период агрореформ.
— Не бузотер?
— И мухи не обидит. Мы вместе с Агроном Иванычем в армии служили, — успокоил я женщину.
— Как же его зовут-то правильно? То Балда, то Агроном Иваныч.
— Это наши солдатские прозвища. Виктор он. Виктор Иванович Балдин. Ученый агроном, профессионал. Однажды весной, в свободное от дежурства время поднялись мы с ним на лысую, обросшую ельником сопку, где гулял ветер, и можно было рукой дотянуться до облаков, — начал я пиарить друга. И лишь одичавшее эхо вторило стонам падающих от старости деревьев и передразнивало всех, кто пищал и шумел в чащобах. Первозданный мир, какого черта мы нарушали его, прячась от своих и чужих в подземных шахтах — схронах.
— Поредела тайга, вся в плешинах, — буркнул, осмотревшись Балда, достал из сумки саперную лопатку и, встав на колени, начал копать землю.
— Виктор Иванович, — обратился я к нему вежливо, — ты что, Тунгусский метеорит ищешь? Или сопку выравниваешь?
— Грядки разбиваю, семена у меня есть. Не мы, так ребята попользуются, — объяснил он.
— Наша ракетная точка, — продолжал я рассказывать женщине, — находилась далековато, но Балду не переубедишь. Вот и появился огород. И хотя места там влажные, дожди льют как из ведра, на сопке — в самый раз: стекает вниз излишняя влага. Всегда на столе была у солдат свежая зелень.
Когда она увидела его, растерялась: это был настоящий Балда, двухметроворостый, синеглазый — аж в дрожь бросило.
— Господин Балдин, я принимаю вас на работу по специальности агрономом — цветоводом, пожалуйста, — она схватила его за руку и словно в наручниках повела по каменной дорожке к новому, сияющему черепицей коттеджу.
Приплыл Агроном Иваныч. Сколько вокруг целины и залежи. Пахать и пахать ему. А вспомнив последние слова хозяйки, задумался: не втюрилась ли?
В самый разгар желтой осени, когда наливаются соком яблоки и лопаются от спелости арбузы, я встретил молодую хозяйку и работника Балду в городе. Они шли по многолюдной улице, взявшись за руки, не замечая никого, и лица их светились счастьем.
«Вот это нефига», — еще сильнее изумился я, увидев на приусадебном участке незнакомки другого садовника.
БАБА ЯГА
В этот автобус по утрам вмещалось вдвое больше пассажиров. Резиновый вероятно. И каждый раз на остановке я встречал ее — эту старуху, похожую на Бабу Ягу.
Болезнь переломила ее пополам, передвигалась она с двумя костылями иноходью. Смотрела исподлобья пронзительно и зло, шевеля губами, словно ворожила. Еще нашлет килу какую! Не приведи Господь!
Одна высоченная в кожаной мини — юбке не выдержала:
— Что ты по ногам ползаешь, бабка! Ездила бы попозже, или сидела дома.
Случилось страшное. Позавидовал бы сапожник. Отборный мат, украшенный образными выражениями в адрес девы, озадачил даже водителя, который по молодости лет работал лесорубом в тайге. На всякий случай он остановил автобус и открыл дверь.
Выпучили глаза все. Кивал головой только пьяный сторож, ничего в жизни не понимающий, кроме мата.
Выскочила, не выдержав, из автобуса дева. Все шутили над ней: видимо, коротковата была у нее не только юбка, но и язык.
Потом не видно стало Бабы Яги. Я спросил кондукторшу об этом.
— Помогла монетизация льгот, — сказала она, — раньше бабка ездила бесплатно, а теперь наличными надо платить.
Немало интересного я узнал о Бабе Яге. Любила она бродить лунными ночами по кладбищу и однажды чуть не насмерть напугала приютившуюся там парочку.
Было около двенадцати, и юноша поведал девушке байку о встающей в полночь из гроба ведьме, старой, с клюкой. И тут как тут — она: согнутая в три погибели, с всклокоченными волосами стучит костылями по каменной тропинке.
— Вон отсюда, нехристи, — зашипела по-змеиному.
Влюбленные онемели от страха. Но бабка восприняла это как злостное неподчинение ее воле. И покрыла «голубков» таким многоэтажным, вернее, небоскребным матом, что покойники в могилах многократно перевернулись!
Однажды к Бабе Яге сантехники зашли по нужде — сменить отопительные батареи. После хорошей опохмелки заявились, боялись сглаза. Ну, и какие они были работники? Так ведьма со злости и их, и батареи в окно повыбрасывала. В тот день, впервые за две пятилетки, сантехники домой трезвыми вернулись, на радость своим и чужим женам.
Был у Бабы Яги огородик: на несколько грядок — лучок там, помидоры, огурчики. Поливала она их прямо из окна тонким шлангом. Инспекторы водоканала обходили это место стороной, как лепрозорий или венерологический диспансер. Даже вороны облетали ее огородик на расстоянии двух верст.
Как-то раз Баба Яга собирала урожай с грядок. И на солнце прикимарила. Во весь рост. А кофта на ней и юбка были хотя и старыми, но малотертыми.
На этом и попались пришлые бомжи.
— Пугало — то как разрядили! Бесятся от жира! — сказал беззубый напарнику. — Давай сопрем. Литр самогонки бабка Дашка даст взамен.
Кофту сняли сразу, а вот юбку…
Пугало оказалось с глазами и как заорет:
— Караул! Насилуют!..
А потом Баба Яга выдала такие матюги! Книга рекордов Гиннеса отдыхает!
Один из бомжей помер сразу, второй ринулся через ограду в переулок, порвав в четырех местах последние штаны.
СТРАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
В кладбищенскую контору входит согнутая коромыслом старуха, лицо обросло мохом, опирается на черенок метлы.
— Мне бы склеп вместо могилы. Одинокая я. Поставьте двери дубовые и повесьте замки пудовые, чтобы никакая нечисть не беспокоила.
— Ты имеешь в виду чиновников?
— Чур, меня, чур, я христианка. Я говорю о своих друзьях — ведьме, лешем, кикиморе, водяном. Кощей совсем зачах, когда открыл собственное дело. Теперь — ни серебра, ни злата. Когда захотел стать предпринимателем, заставили его ЕГЭ сдать, так он за мной пришел. А что с него возьмешь — в лесу школ нет.
— Так ты баба Яга?
— Не Ксения же Собчак, она такая будет лет через сто.
— Почему к нам и пешком?
— Ушли сказочные времена. Вокруг одни Кощеи. Вместо тачки — треснувшая ступа, прутьев не найдешь: иноземцы деревья спилили. Даже моя избушка не успела от них сбежать. Теперь не поворачивается без ног. Где жить? Кредит не дают — нечем расплачиваться.
— Понятно, у нас пол-кладбища таких, и наглядно видно, кто сидел в курятнике на нашесте, а кто на полу. Из некоторых могил не кресты, а гнилые деревяшки торчат. Многих хоронили необмытыми.
— Вы мне хоть гроб сделайте по фигуре.
— Квадратный?
— Я не знаю научные названия, чтобы влезла и лежала в нем до лучших времен.
— Без заморозки?
— А как я буду вставать, если ко мне придут?
— Какой выход хороший нашла, баба Яга: в будни спишь, в праздники веселишься.
— Эх, гробовщик, гробовщик. Запомни истину: если пляшут, не всегда радуются, особенно подхалимы. Еще никто из них не пролил слезу на могиле своего начальника. От тоски я пришла к вам. Повсюду, даже в наших местах, летает дух злобы. Леший старается завести человека в дебри, кикимора — в болото, водяной — утопить. Да и я, грешная, немало хлопцев покидала в печку.
— Ты не знаешь, кто у нас лежит? Вот поставим тебе склеп рядом с могилой Удава, загубившего сотни душ. Старух он просто выбрасывал в окно. А Иван Узенский пустил по миру сотни людей. Все у нас лежат. Хочешь к нему в компанию? Или к Машке Оглобле? И мертвая она навевает на людей страх. Возле ее могилы не хоронят и не ходят. Заметила, даже ветер обегает ее. Ты хоть жарила людей, а она их живьем ела.
— Страшный человек.
— И спящий бандит таковым является.
— Мудрено говоришь, но правильно. Если я умру, все равно буду бабой Ягой.
— Как бывший философ скажу тебе, бабушка: и веселье может наскучить
— Уговорил. Подожду умирать. Скреплю ступу обручем, разверну избушку к лесу задом вручную. Не пришел бы только Ванька Узенский. Такого в печку на лопате не бросишь.
ПОПУГАЙ НА ПОДВОРЬЕ
Вылетел попугай из форточки на подворье: «Ух, ты, научился он, наконец, открывать клетку». К нему подошел петух:
— Ты откуда, горбоносый и зеленоперый?
— Нашелся курносый, я хоть чистый, а ты в помете.
— Посиди в курятнике, узнашь, скока куры мешанки склевывают.
— У нас нижних не обкакивают.
— Закон такой, куда денешься.
— Обкакиваете друг друга, потом вас сожрут.
— Что поделать, диетическое мясо.
— Смиренные какие — то. Мы больше опозиционеры. Хозяин скажет: «попка дурак» мы ему сразу: «сам дурак».
— Не бьет дубинкой?
— Только смеется. Все равно тебя плохо зовут — «попкой». Лучше бы, хоть, говоруном.
— Говорунов много, мы только повторяем их слова, может быть, поэтому и живем долго.
— В клетке, где не разговеешь.
— За триста лет я везде побывал, умею и петь и плясать, и даже писать.
— Заврался, чем нам писать?
— Ударение не там делаешь, необразованный.
— Когда учиться. Только начинаешь бегать, давай, топчи кур, вставай спозаранку, ори, встречая солнце. Захотят лапши — рядом я.
— Обалдеть, лучше передразнивать хозяйку из клетки. Сейчас я живу сразу с двумя — несушкой и стриптизершей.
— Я с десятью несушками живу — все равно могу в любое время жареным кочетом стать.
— Интересно, а как ты тогда сможешь кого-то клевать.
— Задолбал, как, как? Клюну в одно место — узнашь.
— Не обижайся, Петя, одна хозяйка у меня на торговой базе работает, тащит все, что можно. Представляешь, памперсы мне принесла. По габаритам, только тебе.
— На кур их надо надеть, поливают, как дождем.
— Вторая в стриптиз — клубе на шесте вертится.
— При — ко — ко — льно.
Шест вертикальный, для самцов вертится.
— А мои куры — дуры убегают от меня. Пока догонишь, забудешь для чего.
— Ты не летаешь?
— А кто из личного подворья летает? Индюк? Как и я, только на забор. Старушки-утки по земле едва ковыляют.
— Гусь у вас важный, нос воротит.
— Потому, наверное, что к рождественскому столу подают.
— Все вы в результате превращаетесь в говно. Смысла в жизни нет. Вот, ты, Петя, если не покричишь с утра, вытаращив глаза, солнце все равно встанет. Не можешь летать, уплывай, не можешь плавать, садись на страуса — и в савану. Да, за год — два мудрости не наберешь.
— А ты триста прожил, но жопой называют, — обиделся петух и бросился на вышедшую из сарая курицу.
— Лучше бы извилину туже натянул, ослабла совсем, — взмахнул крылом попугай и взлетел на крышу к сидящему в гнезде аисту.
— Ты скажи мне, аист, в чем смысл жизни? В детях?
— Если я построю гнездо на крыше дома скопца, будут у него дети? А примета живет.
— Заумно.
— Твои хозяйки только зубоскалят, и мне кулаками грозят.
— Боятся забеременеть?
— Для них я недобрая примета. И в жизни так: один тебе улыбается, другой хочет напакостить. Чего только не услышишь от пернатых коллег — посоветовали даже свить гнездо на морге.
— Чтобы имидж понизить?
— Не знаю, что такое имидж — без посадок в Турцию летаю — но прибили б точно.
— Один сидишь на яйцах?
— Еще не снесли.
— А чо, сидеть бестолку?
— Не бестолку: сорока яйцо подложила в гнездо.
— Все, как у людей. Мой бывший хозяин тоже был добрый, воспитывал чужих детей: жена нарожала, сама не зная от кого.
— У людей хуже. Сорока хоть в гнездо яйцо кладет, а некоторые мамаши бросают детей, инда на свалку.
— Мне поговорить с сорокой о смысле жизни?
— Поговори, вертихвостка еще та, многому научит.
— А если с дятлом? Говорят, мудрый.
— Много мудрости у колуна? Постучи — ка по дереву с утра до вечера. Он забыл, как его зовут.
— А орел: летает высоко, видит далеко?
— Тоже с людей пример берет. Прежде, чем сожрать птицу, насилует ее.
— Сидишь в клетке и многого не знаешь о жизни пернатых.
— По ящику судите о ней.
— А я не вернусь домой, аист, понял я смысл жизни, он в полной свободе. Расправил крылья — и в небо.
— А там, попка, орел и другие разные беркуты ждут.
Попугай опустил голову, было слышно, как он прошептал:
— И показалось ему небо в клеточку.
КОНСТРУКТОР
Осенними дождями ударило небо по рыжеватой земле. Свинцовые туманы по утрам просачивались в форточку, и Иван Козлов, любивший спать без одеяла, просыпался рано. А сегодня почти совсем не спал, не терпелось ему привести в действие подслушивающее устройство, которое он создал благодаря знаниям, приобретенным на физмате университета. На вид — обыкновенная зажигалка, зона действия — больше километра, настройка — легким поворотом колесика, как в радиоприемнике.
«До свиданья, жизнь серая, постылая. Эксклюзивным станет его информационное поле, недоступное для других. Такого устройства, где простота решений обеспечивается новыми технологиями, нет и в спецслужбах».
Иван, настроив прибор на соседнюю комнату, вздрогнул:
— Будем брать банк сегодня ночью, завтра он обанкротится, — раздался прокуренный голос Григория, хмурого соседа лет тридцати. Жил он один и нигде не работал.
— Чья малява? — спросили густым басом.
— Все служащие банка одновременно закрыли свои счета.
— Тогда базара нет, будем банк брать сегодня.
— Ты, Удав, как и решили, отключишь сигнализацию, охранника уберет Рваный, я открою сейф. На все — не более пятнадцати минут, мне понадобятся десять. Должны успеть.
Козлов даже вспотел от волнения. «Это же надо: первое включение устройства — и такой успех. Появятся бабки — только мошну подставляй». И в подтверждение у него зачесалась левая ладонь. «Добрая примета. Куда сообщить? В милицию? Там спросят, откуда у него такие факты. Не раскрывать же изобретение». Он позвонил в банк. Управляющий поверил ему и в обмен на информацию пообещал сто тысяч рублей. Не ахти какие деньги, но на первый раз достаточно.
Взяли грабителей, и долго теперь не увидит он соседа: пока тот повалит делянок пять-шесть леса или сошьет трусы для корпуса пехотинцев. Получив деньги, Иван впервые пригласил к себе домой Нину, в которую был влюблен со студенческой скамьи, но та, издеваясь, называла его всегда козлом, находя лишь два отличия: он был без рогов и без бороды. Нина была очень красивой, выше его на целый каблук, и он подарил ей модные туфли с низким каблучком, чтобы выглядеть посолидней.
Она то ли в шутку, то ли всерьез, посоветовала ему отпустить бородку. Сейчас, мол, модно отличаться от других и иметь свое эго. Он последовал ее совету, и когда бородка отросла, чуть не заблеял от возмущения. А было так. После долгих колебаний решился он подслушать, о чем говорят Нина с подругами: пан или пропал, однова погибать.
— Я сделаю из него настоящего козла, — надсмехалась Нина. — Купил мне недавно норковую шубу: где деньги только взял?
— Любит он тебя, еще в университетской общаге зимой часами стучал копытами перед твоим окном, — сказала ее рыжеволосая подруга Ольга.
— Вот-вот, копытами. Бороду он уже отпустил, теперь надо ему наставить рога, винтообразные.
— Нехорошо, Нинка, наставлять рога и принимать подарки одновременно. Приласкай его, хоть разок. Сколько у тебя было ухажеров? Не убудет.
— Скотоложеством предлагаешь заняться? Не выйдет.
Подобные разговоры девушек он слышал ежедневно, и окаменело его сердце от душевной черствости бывшей сокурстницы, от ее лицемерия и язвительности. Он решил отомстить. Как? Пусть разругаются лучшие подруги, возненавидят друг друга.
— У меня выросли рога. Может, займемся скотоложеством? — предложил он ей при очередном свидании.
— Ольга Морова насплетничала, мартышка рыжеволосая? Я ей задам, — обозлилась она и ушла.
Сидел он на скамеечке в парке, грелся на солнышке и покручивал рукоятку своего устройства. Обычные разговоры, житейские дела. Вдруг, привлек его внимание тихий мужской голос:
— Это не телефонный разговор. Встретимся на привокзальной площади у памятника Ленину ровно в полдень. Конец связи.
Так говорить мог военный. Чем черт не шутит, вокзал рядом, может быть, и повезет ему, отстранит он беду, узнав чужую тайну.
На площади у вокзала народу было меньше, чем машин, не задерживались на ней люди. Можно легко попасть под колеса, стоит только открыть рот и посмотреть на клонированного Ильича, забравшегося на кучу бетона и протянувшего руку словно в кассу за билетом: сами испохабили образ великого человека и сами надсмехаемся над ним. Старушка, вон, покатилась к подножию памятника с завядшими венками, куда сумка, куда палка. Толкнул ее, буркнув со злобой — «сидела бы дома, пакля» — здоровенный небритый мужик. После отсидки или, наоборот, спешивший в отсидку. Два парня шли, пошатываясь, по проезжей части, в руках — бутылки пива, пальцы — веером: крутые! От них шарахались машины, водители молчали, сжав зубы: еще долбанут бутылкой, хорошо по башке, а если по иномарке. Что с них взять?
Иван пристроился на скамейке в уголке площади, достал зажигалку с колесиком и стал его покручивать.
Он их узнал сразу. Один — военный широкоплечий подполковник, второй — длинногривый похожий на артиста, с виду очень интеллигентный мужчина в темных очках. Волосы почти полностью закрывали лицо, заканчивающееся квадратным подбородком. С такой приметой он был один на площади.
— Привет, Квадрат, — сказал военный. — Ты понадобился. Уберешь завтра после конференции вот этого, — он показал ему фотокарточку.
— Депутата?
— Да. Как-только выйдет из машины у своего дома. Телохранитель один. Лучше убрать обоих: не будет свидетеля. Пути отхода прежние: на другой стороне дороги будут ждать « Жигули». Дальше по плану.
Военный ушел, а Квадрат сел на скамейку, посматривая на часы. «Для конспирации, или другое свидание? — угадывал Иван.
К длинногривому подбежала рыжеволосая девушка:
— Ждала троллейбус, Квадрат. Извини. Чем обеспокоен?
— Надо попугать нашего депутата, за хорошие деньги. С тобой будет меньше подозрений.
— Какого депутата? Не Семенова ли?
— Тихо, сорока. Никаких фамилий. Зайду за тобой завтра. Соберись, как на свиданье. Надень русый парик, неприметный, а то выглядишь, как шлюха.
— Честный какой? В каждой губернии, небось, сиротки — квадратики бегают. Нинкин козел и то лучше: добрый, подарки дарит. Если сбрить ему бородку, покрасить волосы, совсем будет ничего.
— Сделаем дело и заляжем под боком у океана. А теперь разбегаемся.
Иван сразу узнал девушку. Это была Ольга, которую он часто видел с Ниной. Девчонка видная, но наивная. Подставит ее Квадрат. Надо спасать Рыжика, назвал он ее впервые так.
Все трагическое и смешное произошло на другой день возле старинного особняка, утонувшего в высоких деревьях, сомкнувших кроны над его крышей и, казалось, он выглядывал из шалаша.
Ничего примечательного возле особняка не было. Стояли на обочине неопределенного цвета «Жигули» и пасся в сторонке у высокого забора огромный козел с изогнутыми рогами. Шерсть свисала с его боков, закрывая ноги. Прогуливалась влюбленная пара. Длинногривый парень что-то шептал русоволосой девушке на ухо, и она громко смеялась, то и дело поправляя на носу очки. Опытный сыщик определил бы сразу: не носит эта девушка очки и надела их в первый раз. Но таких опытных сыщиков рядом не было. Только козел, да двое бритоголовых качка в машине с повадками Скалозуба.
Из тенистой аллеи вынырнул серый «Мерседес» и остановился у особняка. Из машины вышли депутат и охранник. Когда они сравнялись с влюбленной парой, случилось невероятное. Рванувшись вперед козел всей своей мощью ударил рогами длинногривого в живот, и полетел тот на землю, увлекая за собой девушку. С козла слетела шуба, съехали на бок рога, заорал он человеческим голосом:
— Держите киллера!
Рядом боролись парень и девушка, вонзившая свои зубы в руку Квадрата с пистолетом. Это и спасло жизнь депутату, так как уже через мгновение вступил в схватку телохранитель, бежали со всех сторон омоновцы.
— Как всегда, вовремя, — процедил сквозь зубы депутат. Если бы не козел…
Потом девушка сказала Ивану:
— Вот тебе, друг мой, и наши расчеты, чуть копыта не отбросили.
И он не обиделся на нее, сколько смелости и мужества было в этом рыжем существе. Иван рассказал Ольге о своем изобретении, и теперь они вдвоем гуляли по информационному полю, не давая спуска ни ворам, ни грабителям.
МОЯ ОДИССЕЯ
Прав нет, остались одни обязанности. В этом я убедился после тщетных поисков работы по своей специальности. Побывал в разных конторах, увы, везде отказ, отлуп, как выражается наш дворник Ефим. Он спокоен, водку пьет с утра. Кто посягнет на его должность? Начинает махать метлой, когда еще идет за молоком со своим дитятей Большая Медведица. Двор словно рот дома, что только не бросают в него, попробуй убери.
Ефим говорит: «Дворник должен быть мужиком. Баба с метлой кто? Ведьма. Все равно, что курица на заборе голосит «Ку — ка — ре — ку!» Нелестно отзывается он о самом словосочетании «дворник Маша», например, да еще с ломом. Потешно, если представить, хотя и дворники — бабы сейчас омужичились, пьют горькую и цедят самосад до одурения.
Позавидовал я Ефиму, когда мне, безработному, выдали две тысячи рублей пособия — вдвое меньше обещанного. Еще настойчивее начал поиски работы, вооружившись всем своим ничтожным обаянием и надев последние совсем еще не рваные ботинки.
За столом сидела манекен, точнее, женщина в маске. Серые глаза ее буквально впились в меня.
— Такая наглость, такое бесстыдство искать работу в кризис, когда везде идут сокращения кадров, — чуть шевельнулись ее губы, увеличенные по моде втрое.
— Я инженер-электронщик, слышал, такие специалисты нужны вашему производству. Согласен работать на конвейере, хоть сборщиком розеток.
Манекен выпрямилась, подняв со стола груди, внутри нее заурчало.
— Тише ты, — приложила палец к губе, — взяли бы, да могут побить. Какое производство? Одни розетки и собираем, работают в основном бабы, выцарапают глаза любому конкуренту — хоть физику, хоть лирику.
В отделе кадров лампового завода две толстушки — в белом и черном костюмах — устроили перекрестный допрос. Выспросили, кажется, обо всем. Даже о здоровье давно умершего дедушки. Толстушку в белом больше интересовало, женат я или нет, есть ли у меня жилплощадь и какие я предпочитаю средства передвижения. Я честно ответил:
— Велосипед. А прежде чем думать о женитьбе, надо, мол, устроиться на работу, хоть грузчиком на склад.
— Здоровье — то позволяет? — поинтересовалась толстушка в черном, — на вид — то здоровяк, словно дуб, а может, дупло уже есть и желуди — то гнилые.
— Дайте пятак, — разозлился я, толстушка в белом протянула мне новый железный червонец: — Пятаков сейчас нет.
Удвоились со злости мои силы, и я легко согнул в пальцах червонец — он был послабее старого медного пятака. Захлопали в ладоши толстушки. Оказалось, им нечего было делать, и они от скуки потешались надо мной. У той, что была в черном, недавно умер муж, и она веселилась особенно рьяно.
— А с работой как? — спросил я наивно. — Берете? Нет?
— Если только в мужья, по всем статьям подходишь, — сказала толстушка в белом.
— Я намерен еще немного пожить, — откланялся я.
Кадрами в фирме «Рога и копыта», куда я заглянул от любопытства, вдруг, Остапа Ибрагимовича там увижу, в наше смутное время и не такое возможно, занимался сам руководитель — краснолицый и потный, словно только что отплясал лезгинку. Я сразу понял: даст он фору не только Остапу Бендеру, и никогда не заготавливал рога и копыта, тем более их носителей вдвое стало меньше в наших селах.
— Нет ли у вас, дорогой генацвале, для меня работы, могу перетаскивать рога и копыта, или бычьи туши, мне все равно. Силу мою только что измерили на заводе две толстушки.
— Э, две толстушки, у меня их десять. Какой работа, сам ничего не делаю? И силы твоей не надо, сам пятаки гну. Смотри, — он вывалил из ящика стола с десяток согнутых пятаков. — После обеда их начну разгибать.
— А как же копыта, рога?
— Какие рога? У мужиков ваших ищи рога, лучше садись, давай выпьем по маленькой, — он достал из стола огромный позолоченный рог, — пятаки погнем.
Вот это винцо! Самогон у дворника Ефима в сравнении с ним — соляная кислота.
ИЩУ НЯНЮ
Дал объявление в газету и в местный телеканал: «Ищу няню, любого возраста, пола и любой ориентации своему годовалому дитяти. Можно мужика — не инвалида и без дурных привычек». А то был у соседа такой — в результате ребенок начал материться раньше, чем ходить.
Жена на работе, у нее зарплата в три раза больше моей, так что с ним сижу я. Вагоны с цементом, которые мы разгружали в студенческие годы, казались теперь детской игрой в песочек. Чувствую себя как на каторге, и спасти меня может только няня.
Я даже приписку в объявлении сделал — оплата любая, в пределах моих возможностей. Вот до чего довело меня родное дитя. А что будет, когда вместо соски возьмет оно в рот горлышко пивной бутылки.
Приписка сделала свое дело — повалили ко мне со всех сторон разные люди и действительно разной сексуальной ориентации.
Кажется, баба пришла: и накрашенная, и губастая, но говорит басом:
— Вот и я, образование высшее, педагогическое. В день беру по тысяче баксов.
— Вы не перепутали, я не на панель вас звал, а к ребеночку, годовалому, спокойному, как лемур.
— О, ля МУР, любовь. Как это мило. Я всегда к вашим услугам.
Пришла молоденькая робкая девушка, ангел во плоти:
— Где чадо? Надо посмотреть. Если похож на отца, одна ставка, если на мать — другая.
— Почему? Никогда не слышал о таком разграничении.
— Либо беса надо изгонять из чада, либо ведьму. Разные розги нужны. Меня драли лозой, она помягче.
Больше других мне понравились двое. Мужчина очаровал сразу. Симпатичный, веселый, с ямочкой на щеке, словно пальчиком в детстве в этом месте часто нажимал. И зарплату попросил приемлемую. Но предупредил, кричит он петухом по утрам, когда встает солнце. В детстве жил в деревне и всегда передразнивал горластых, вот и вошло в привычку. «Это я и спать не буду часов с пяти»? Как от сердца оторвал его. Но проводил до двери и обещал подумать. Если положение будет совсем критическое, припаду к его стопам, вернее, стопе, вторая нога у него была деревянная в виде чурки.
Как за соломинку ухватился за бабушку Пелагею Сергеевну, приехавшую в наш городок из Баклуш. Она была главной претенденткой на домашнюю няню. Я уже договорился с ней, но пришла с работы жена и задала дополнительные вопросы.
— То, что будешь жить и питаться у нас, Пелагея Сергеевна, мы согласны. И одежонку, как ты говоришь, тебе справим и обувку тоже. И половину моей зарплаты (как указывали в объявлении) будем тебе платить. Но скажи, есть ли у тебя опыт воспитательной работы?
— Какой работы?
— Ну, сколько было у тебя детей.
— Осемь, матушка, да двое помёрли.
— Где они сейчас работают, Пелагея Сергеевна?
— Двое нигде, шалберничают. Вовка с Митькой все еще в тюрьме, но скоро придут. Эх, и надают оне соседу по брылам: огород у меня, стервец, на метр отрезал забором. Переставит, небось. А девки в городе ошиваются. У одной детей отобрали за пьянство, другая проституткой стала, но одумалась. Скоро муж с острога придет, голову ей обещал оторвать.
— А супруг ваш что, смотрит на все сквозь пальцы?
— Нету у него пальцев. Отморозил по пьяни зимой. Был без рукавиц. Сунул руки в снег и уснул, сейчас берет, бедолага, стакан с самогоном двумя культями. Вот подзаработаю у вас деньжат, куплю ему бокал с огромной ручкой, чтобы туда культя пролезала.
— Все понятно, Пелагея Сергеевна, лучше мы вам такой бокал сразу подарим. Муж мой, как я вижу по его изменившемуся лицу, сам справится с дитятей. Балда, вон, сумел, а он чем хуже.
В ПОДВАЛЕ
Темный подвал. Свет падает из серого от пыли окошка. За столом из деревянных ящиков сидят бомжи, пьют пиво с кашей и всех подряд кроют матом. В сторонке устроились пятеро — трое хорошо одетых мужчин, женщина в кожанке и большая собака с влажными глазами.
Что привело их в этот приют для бездомных отторгнутых обществом людей? Какие обстоятельства предшествовали этому? Неустройство быта, ревность, измена? Или другие причины?
Такие смешные с грустинкой истории там, наверху, не всегда можно услышать. А здесь, в подвале, где выглядывают с любопытством из темных углов крысы и развешаны между стен гамаки паутины, они воспринимались более реально, как величественная панорама в трех измерениях.
Все крестьяне, в основном, крепкие, сильные, как сама земля. А этот был еще и под два метра: Микула Селянинович и только.
— Достался мне клочок земли, ну и что? — говорил он пятерым таким густым басом, что подрагивали стены и косились на него бомжи. — Чем я буду его обрабатывать, голыми руками? Оборвал все уши у лопухов, порезал руки об осот, а сорняки все равно ордой перли на участок. Надоело, бросил все и — сюда, в город. Вот и оказался в подвале.
Все посмотрели вопросительно на соседку, старую женщину, сидящую рядом с ним. До сих пор она выглядела стройной, подтянутой, видимо, долго занималась спортом. И старушка подтвердила это:
— Я учитель физкультуры, у меня тысячи учеников: пол- города. Обиделась я на них, вернее, на нашу нищенскую старость. Пришла на базар, все меня поздравляют с днем учителя, и делают подарки — духи, продукты, посуду, а самые непослушные — сапоги, даже кожаную куртку. Заплакала я, закрыла квартиру на ключ и — сюда к вам от унижения и безысходности. А соседка моя, математичка, наоборот, старается все покупать у бывших учеников: дешевле, а чаще — бесплатно. Я — лучше в прорубь. Вот заработает канал, пригонит в городской пруд воду — и…
— У тебя, старушка, болезненное восприятие действительности, слишком впечатлительная, так сейчас нельзя. У меня другое, — прервал старую учительницу молодой еще мужик в косоворотке, подпоясанной расшитым полотенцем и в сафьяновых сапожках — со сцены что ли? Как бы отвечая на этот вопрос, сказал: — С мусорки я сюда забрался. Там приоделся. Куцая у меня судьба, как хвост у зайца. Работал юристом. Сократили, обманули, выгнали. И подумал я, а если… и стал брать все брошенные у Малого Узеня дачи — с яблонями, грушами, смородиной… Мол, фруктами всех завалю, хоть и не буду обрабатывать и поливать деревья. Теперь вот здесь, в подвале прячусь. За воду, оказывается, надо было все равно платить. Шестнадцать дач, по пятьсот рублей, это восемь тысяч. Где я, безработный, их возьму? Кушак и копейки не стоит.
— Я как раз занимался дачами, огородами, земельными долями крестьян в муниципалитете.
— Чиновник, что ли?
— Да, чиновник, — покраснел тот.
— Если краснеешь, значит, есть за что?
— Есть, конечно, — развел руками чиновник. — За это и прогорел.
— Интересно. Редко вашего брата прижимают к ногтю, — снова сказал крестьянин.
— Не блоха, — вставил дачник.
— Не блоха, — согласился крестьянин.
Чиновник вытер платком вспотевшее лицо, перекрестился:
— Как на духу: из — за дефицита совести я погорел, как будто он только в нашей конторе? Приехал из губернии начальник и инкогнито ко мне в кабинет. Мол, землю хочет купить в муниципалитете, пусть будут овраги и балки, ему все равно. Заполнит их водой, и будет выращивать рыбу. Говорю, с водой как раз у нас плохо. Сами последний пруд допиваем, а канал неизвестно когда запустят. Успокаивает, его это проблема — сначала землю купить надо. Ну, я прямо без обиняков: откат — сорок процентов, за гектар земли — сто тысяч рублей. «Где у тебя совесть, — вдруг, закричал посетитель. — Я сам беру за гектар пятьдесят тысяч рублей, а ты…» Вот я и оказался здесь у знакомого бомжа, он у нас в муниципалитете все время роется в мусорном ящике. Мы ему иногда бросали туда по буханке хлеба.
В подвале стало тихо, даже бомжи присмирели, переваривая услышанное. Потом, как самый большой, заговорил крестьянин.
— А почему у нас пятый, Шарик, молчит, не рассказывает, как докатился до нулевой отметки этого элитного дома.
— Гав-гав! — тряхнул пес обрывками цепи на шее и показал обломанные зубы.
— Дайте Шарику кашки, у него самая веская причина появиться здесь, — предложил чиновник.
— Он пилил железо, как Овод, но не пилкой, а зубами, и сточил их, — добавила учительница. — Что может быть дороже свободы?
— Только полная свобода, — сказали бомжи.
РАБОЧИЙ И КРЕСТЬЯНИН
Речка. На берегу — рыбак с удочкой. Подходит уставший путник, скорее всего крестьянин. У него выдубленное ветром и солнцем лицо, пшеничные волосы. Он снимает ботинки, из которых идет пар, достает из сумки лапти.
— Через степь от города шел, взопрел весь, хочу искупнуться, да обувку сменить. До Баклуш еще далеко, — гость садится рядом с рыбаком. — А ты рыбу лавишь? Зря, нету ее тут. Вчерась неводом прошлись. Если только малек.
— Час сижу, хоть бы клюнуло, — ответил рыбак, забрасывая леску с поплавком подальше к камышам. — Может в тростниках запрятались караси. Будешь купаться, пошуми там.
— Нет, карася там не будет, трусоват — невод тащили лодкой через траву. Щука хитрее, заляжет в ямке на дне — не поднимешь.
— Ты, я понял, деревенский, из Баклуш. Там и деревьев вроде нет, если в огородах только. Откуда лапти? И век их давно прошел.
Крестьянин посмотрел на рыбака более внимательно:
— А ты, конечно, городской. Трутень или как?
— Рабочий я, строитель.
— Как вас раньше звали? Гегемон, что ли?
— Гегемон.
— Иди вон.
— Да, ликвидировали нас с тобой, как класс, одним росчерком пера.
— Тужились, тужились, брюхо надорвали, а что толку? Все Магнитки отобрали, где только прятались.
— Верно, землепашец, раздели до нитки. Вот к лаптям возвращаемся.
— А легко и недорого. Купил на базаре у одного пензяка. У них лип много. Заказал лаптей на все село. Назовем его не Баклуши, а Лапотуши, чем мы хуже Самары. Может быть, у них совесть взыграет?
— У кого? — рабочий отбросил в сторону удилище, все равно не клевало, стянул с головы вязаную шапочку, солнце уже поднялось над степью и начало припекать. — Где твоя земля?
— Какая земля, окстись? Не видел я ее никогда. В общем поле моя доля, в аренде, а богатств, как у латыша, хрен да душа, хорошо лапти купил.
— Ты кого имел в виду, когда спросил трутень я или нет?
— Сам знашь кого. Еще Некрасов их называл. Хоть чиновников. Тараканов меньше, чем их. Сидят в конторах, гоняют чаи, рассуждая обо всем и ни о чем.
— Макроразговоры ведут о нанотехнологиях, — объяснил рабочий. — А до сих пор кругляк в Китай составами прут. Скоро зонам в лесах придется потесниться.
— А эти депутаты, — продолжал рассуждать крестьянин. — Один, мы его знаем, из соседнего с Баклушами села, посоветовал недавно снести все маленькие деревеньки. Не надо, мол, тянуть туда воду, газ, свет. Вот заболтался землячок — четвертый срок протирает штаны в депутатском кресле. А беспогонники? Пять миллионов здоровенных мужиков охраняют столько же никому не нужных, о, Господи, как бы сказать помягче, задниц. Как будто в стране только и делают, что убивают друг друга, и на каждом этаже сидит снайпер, как говорил Борис Уральский. Вот бы их запрячь в плуг, тракторов не надо.
— И какой же можно сделать вывод, союзничек?
— Если пришел на рыбалку, поймай рыбу — вот в чем дело. Наши сельские депутаты раз пять поднимали вопрос о ремонте ограды на кладбище. Их человек десять — не меньше. Прибили бы по доске — и готов забор. Заболтались мы с тобой. Расскажи лучше о себе, а то обо мне спрашивашь и спрашивашь, как будто я украл лапти. Не мент ведь?
— Не мент. Если расскажу все как есть, рыба от жалости сама на крючок подцепится. Каменщик я. Только и примечательного, что раз пять падал с лесов. Заметил, что я ни разу не встал? Нет. А знаешь почему? Нога одна у меня деревянная. Брат протез сделал. Он столяр и механик. Не отличишь от германского. Образец брал у соседа торгаша на ночь, когда он спал. Даже вес был у них одинаковый. Вот мой лапоть, — поднял он штанину, показав отполированную деревяшку.
Первого меня и сократили: есть небольшая пенсия, не женат, детей нет.
— Как же ты будешь иметь детей, если не женат? — наивно спросил крестьянин.
— Сейчас это модно.
— Да, — согласился крестьянин. — Задницы по телеку показывают, даже передницы. Анфиска, соседка, неделю не могла взять в рот кусок хлеба: рвало ее. А задницы-то были худые, тьфу!
— Все время и я у ящика сижу: куда с одной ногой. Раз в гололед так шарахнулся, что сломал и вторую ногу. Представь: одна нога деревянная, другая гипсовая. Ужас. Только медсестры в больнице не смеялись. Говорили, видели и хуже. Чего уж хуже? Так что если разобраться, у тебя посочней жизнь. Гегемон с мастерком, блин, уж лучше в лаптях.
— Не завидуй особливо, товарищ, найдешь сидячую работу.
— Семечки что ли шелушить?
— Почему семечки, игрушки. Начни с простых — Гитлера с челкой, с этого длинноносого Буратино. Еще лучше — с Колобка. И пойдет.
— Эх ты, Лука-утешитель, самому, вижу, не легче, — с трудом, опираясь на клюшку, приподнялся рабочий.
— Я в работники иду к местному попу — будут и одежонка и харчи, на рыбалку с его чадом пойду.
— Чертей пугать, как Балда? Если с ними, вдруг, договоришься, обо мне не забудь.
— Смотри, — закричал крестьянин, — поплавок утоп.
Рабочий осторожно потянул леску и вытащил на берег огромную щуку — килограммов на пять.
Он первый раз за день улыбнулся, а вдруг по щучьему велению исполнится его мечта и у него отрастет новая нога, и поднимется он по лесам к манящему облаку с мастерком — эх, лучше и не надо!
ДОЖДАЛИСЬ
— Матрен, тебя били обухом по голове?
— На бойне не была, хоть ты и сравниваешь меня с коровой.
— С коровой-кормилицей, а это разные понятия.
— Дети, дети, куда их дети, — вздохнула Матрена.
— Высуши глаза, новость у меня сногсшибательная: мужиков в вечной мерзлоте нашли и оживили. Белокурые викинги. Целое войско. Бабы нарасхват пойдут. Даже мы с тобой.
— Наши одногодки есть?
— Разных полно. Сейчас викингов испытывают. Результаты показывают, больше всего охочи до баб: и то, десять лет были в походе.
— По заявлениям будут выдавать мужиков, или сами будем выбирать?
— Через сельсовет. Фотографии там вывесили, но с лица воду не пить. Плохо то, что викинги болтливым бабам кончики языка отрезают, чтобы шепелявили.
— Вся деревня, что ли, будет шепелявить? Марья Васильевна точно не возьмет викинга, хотя и двух может приютить — уж больно дородна. Откуда у нее такая говорливость, отец с матерью немыми были, общались только с быками.
— Обрезание ей мало навредит. Вот губастой Анке достанется. За блуд викинги своих жен со скал сбрасывают.
— У нас скал нет, на степной лысине живем.
— С крыши сбросят, для верности — вниз головой.
— Вот бы нашим поп-звездочкам в мужья викингов.
— А на телевидении кого будут показывать? Прав наш ветеринар, попа стала важнее головы, особенно пустой. Кузьмич, вон, приделал к ноге пружину и спрыгнул с дерева. До сих пор в больнице. А на двух пружинах мог бы удачно отскочить от земли. Отчудил и Васин, умелец без больших мозгов. Перетянул через речку трос и переправлял в корзине желающих. Корзина была старой, и дно отвалилось. Утонула бы Зайчиха. Зацепилась сарафаном за дерево и повисла вниз головой, красные трусы сползли. И смех и грех. Какой ей викинг?
— У нас чудаков полно. Делом бы занимались. Груши околачивать и мы можем.
— А викинги лучше? Перебьют наших мужиков, и сами уйдут. Останемся совсем одни.
— Амазонками будем, Матрен. В соседних Баклушах одни бабы, а живут, да еще детей рожают.
— От кого ж это, Ксения, интересно?
— От духа святого, Матрен. Наши мужики туда похаживают. Вот придут викинги, за околицу не ступят.
— Порядка будет больше.
— Всякое может быть. Какие у них обычаи? Заставят в прорубь лезть в честь своего Одина.
— Упаси Бог. У нас только Марья Васильевна на Узене зимой купается — даже пар идет.
— Как они тогда ей язык обрежут? Она и его закалила, все время ныряет с открытым ртом.
— Матрен, а страшно. А если и викинги закалены? Помнишь Верблюда, мужа Дашки. Так и не оправилась она после свадьбы, медовый месяц не выдержала.
— Ты, Ксения, не стращай. Верблюд сейчас на постое у Марьи Васильевны, сама слышала, птенчиком его зовет.
— Конечно, для нас лучше, если Дашка хилой была и сама умерла, но подстраховаться надо.
— Как это?
— Пусть первой выберет викинга Марья Васильевна и шепнет нам, что и как.
— А если сробеет викинг? Да, удерут все?
— Викинги никогда ни перед кем не робели, но риск есть. Что там за лязг, Матрен?
— Солдаты идут, с мечами, щитами. Рядом — бабы из Баклуш. Некоторые в обнимку.
— Что? — взревела Ксения. — Скорее в сельсовет. Останутся одни мамонты.
Не каждый спринтер мог бы догнать подруг, бегущих по улице с криком: «Хоть раненого»!
«ХРЯСТЬ»
— Акула! — закричал паренек с косой в руках. Он стоял на лодке и очищал берег от водорослей.
— Режь ей плавник. С размахом. Как на сенокосе. Ну? «Хрясть!». Молодец. Сачком подхватывай, чтобы сама себя не сожрала.
Вторая акула? Давай смелее. «Хрясть!» Как удачно. Под самый корешок. Не забывай про сачок. Так, есть.
Еще одна? Зубы скалит? Развернись плечо, размахнись рука. «Хрясть!» Мастерски. Завертелась остроносая? Сколько же их здесь? Откуда? Бей теперь по зуборяду. «Хрясть!» Первый блин не комом. Вот это улыбочка: рот стал вдвое шире.
Это вам не Египет, с кем связались? Всех без плавников оставим. Отступили, драпанули. Купайтесь, люди, веселитесь. А ты, девочка, что застыла на трамплине, как гипсовая? Прыгай смело. Делай свои сальто. Вечером уха будет из акульих плавников. Деликатес! Накормим всех.
Что ты говоришь, дедуля? Жена твоя хуже акулы? Давно бы с потрохами съела, да, хорошо, зубов нет? Лечи ее народными средствами: хрясть, и будет шелковая. Грубо? Да, но эффективно.
Что смеешься, икроногая? Судя по твоим огромным глазам и уверенной походке, немало повидала. Сразу четырех жеребцов спутала. Думаешь, не разбегутся? Проще простого. Позвоню твоему муженьку, и — хрясть, надолго излечишься.
Играйте, играйте в свой волейбол, девчата, не прислушивайтесь. Вы бы совсем разделись. Так лучше. Особенно когда прыгаете. Сколько мячей взлетает и хлопает одновременно?! Вы из сборной команды? Поэтому так много болельщиков, особенно самцов. «Хрясть!» Ты нападающая, девушка? Почему я так думаю? Сильно бьешь, чуть голова не перелетела через сетку. А я доволен. Иными глазами стал смотреть на мир. Щека, правда, долго кипела, остывая в прибое. Что там за заградительными буями сверкнуло? Не глаз ли акулы? Подожди, девушка, я с тобой пойду в море. У тебя есть с кем? Вон он ступает по пляжу — высокий, красивый, тоже спортсмен? Эй, вы там внизу, — кричу я и прыгаю, одержимый, с обрыва на песок. Хрясть. Кажется, нога сломалась. Перед собой вижу ее испуганные глаза и слышу шепот: зачем ты это сделал, дурачок? — Оказывается, летать я не могу, — говорю ей. — И ходить тоже, — добавила она.
ОТДОХНУЛИ
— Вижу, неплохо отдохнула, — встретил Алексей жену, возвратившуюся из пансионата.
— Дрожжи свежие. Процедуры — по желанию. Пили из серебряного источника. Особенно мужики по утрам. У Олега Ивановича даже глаза опухли. Спички между ними вставлял. А когда подмигивал мне, они ломались.
— Спички дерьмовые сейчас делают, надо было скотчем приклеить?
— А что подмигивал мне, тебе все равно?
— Пастухом быть не хочу, хотя, сама говорила, все мужики у вас в конторе козлы?
— И дамы не лучше. Что делала вечерами на танцах наша тихоня Елена Львовна? То юлой закрутится, то с осетином лезгинку отплясывает, откуда он взялся. Ноги у нее — слон позавидует, а сучила ими чаще меня.
— Ты так лечилась в пансионате?
— Сейчас ноги не те. Не получилось быстро и на соревновании по ориентации на местности.
— По ориентированию, хочешь сказать?
— Да, Елена Львовна лучше всех сориентировалась. Только к вечеру ее нашли в зарослях вместе с осетином.
— Надеюсь, ты не сбилась с курса?
— С Колькой Фокиным разве не собьешься?
— С Колькой?
— Да потеряла я его после второй лежки.
— Это что еще за лежки?
— Маршрутом они предусмотрены: для отдыха. Понравился мне новый метод лечения хандры, предложенный затейником Грибовым. Почувствовал скуку — выпей кубок восторга. Гениально! Напиток трехслойный — спирт, водка, ром. Помогал всем без исключения, даже Щуке, так мы зовем заведующую страховым отделом. Зубами щелкала, напевая «Помню, я еще молодушкой была…»
— Ты надеюсь, не злоупотребляла напитком? На свадьбе, помню, три стакана водки подряд без закуски выпила — так волновалась. Порядок хоть соблюдали?
— Конечно. Кому не хватало восторга, подходили к кубку еще раз. Мы все по порядку потом лежали, слева — Олег Иванович, справа — осетин. Фу, какая у него противная шерсть на спине, особенно когда вспотеет. Как Елена Львовна его терпит. Расскажи лучше о своих успехах, написал юмореску?
— Написал, о названиях наших деревень. Все время консультировала соседка по даче Верочка. Милая такая девушка. На одной ягодице у нее Сталин, на другой Гитлер. Когда она идет, они здороваются. Клево!
— Лук с репой посадил, или больше любовался вождями? — Феодосия лукаво прищурилась.
— Посадил. Без всяких консультаций. Даже Анне Петровне понравились грядки, приходила полюбоваться. Скучно ей одной на даче. А веселая. Жила, говорит, в детстве в Чугунке, посреди степи, вдали от железной дороги. Кто так назвал деревушку и почему, никто не знает. А села Осинов — Гай, Орлов — Гай, Александров — Гай? Откуда взялись эти Гаи? Рядом леса нет, дубравы тем более. Однажды увидела Анна мужчину, от одного вида которого ужаснулась: на лице — щетина, нос — пятачком, из халата выглядывает кончик хвоста.
— Вы из преисподней? — вырвалось у нее.
— Да, из Черной Падины.
— Это где? — побледнела Анна Петровна, зная, что падина — это овраг, балка.
— За Сухой балкой у Пьяного пруда.
Посетитель оказался пастухом, под его халатом был спрятан кнут. Вот такие байки рассказывала мне Анна Петровна. Я и записал их.
— А у Анны Петровны ничего нет на ягодицах?
— Не знаю, руками не вижу.
ГЕР МИЗЕР
— Внучка, ваш новый управляющий хоть молодой, прежний даже меня тискал в темном углу?
— Средних лет. Гер Мизер — из Германии. По-русски лопочет только «О, Вольга, Вольга!»
— Ты с ним уже переспала? Какая удача: на повышение пойдешь, а я, дура, долго кочевряжилась, вот и ушла на пенсию, вежливо говоря, техническим работником.
— Да нет же: это наш мэтр.
— Метр? И это для вас мизер? Совсем, девчата, избаловались.
— Не поняла ты, бабуля. Фамилия у него Мизер, а обращаются немцы друг к другу, добавляя слово «гер», где «г» фрикативное.
— И не обижаются? В мое время за это били.
— Гер — это господин, и на что им обижаться?
— О времена, о нравы: пенис называют господином. А что? Я понимаю: редко настоящих мужиков встретишь. Одни в женской одежде, другие совсем голубые.
— Гомосексуалисты.
— То есть педерасты.
— Какое грубое слово?
— Я не пойму, как могло случиться, чтобы мужик стал бабой. Другой ориентации? Пусть сено тогда жует.
— Бабуля, ты уж слишком. Гер Мизер вполне наш человек: пьет стаканами, не закусывая. И любит самогонку. А как он пляшет? Взял меня на руки и пошел вприсядку.
— Подожди, внучка, тут какой-то подвох. Не может немец барыню плясать. Значит, он раньше жил у нас и притворяется, что не знает языка. Ты ничего лишнего не сказала?
— Скорее всего, ты права, бабуля. Гер Мизер сильно изменился в лице, когда я перевела его фамилию на русский язык — «писюнчик». Мы с Вероникой ему массаж делали в гостинице. «Гут, гут, нох айнмаль! — просил повторить еще раз.
— Ты сегодня встретишься с ним?
— Да, он снова пригласил меня в номер.
— Значит, никакой он не голубой, слух просто пустил. Ты вот что сделай: позвони ему и попроси самому к тебе приехать. Трубку положи сразу, чтобы не успел возразить. Так быстрее его одомашишь.
— Наши программисты тебе, бабулька, в подметки не годятся. Все у тебя жизнью проверено.
— Если бы так, не напрягала бы сейчас мозги. Звони своему херу, в любви, как и в битве, промедление смерти подобно.
Через некоторое время внучка, глядя в окно, воскликнула:
— Бабушка, приехал гер Мизер с цветами, шампанским. А я ведь говорила с ним по телефону без переводчика?
— Запомни, внучка: и немые не всегда молчат.
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ
Девушка взобралась на перила моста. Было страшно. Внизу в воде ухмылялось привидение луны. Холодный ветер приносил с погоста запахи могил.
— Не спеши, успеешь ко мне, — раздался запыхавшийся голос. У перил появилась старуха.
— Ты смерть, — спросила девушка.
— Не на сенокос же собралась? Устала я от ваших причуд. А если все попрыгают с моста, что я буду делать? У меня план, и я его на сегодня выполнила.
— Отпусти, бабушка, невмоготу.
— Вот так все: возьми, отпусти, а разберешься — дружок обидел. Хоть никого не коси.
— К подруге ушел, лучшей.
— Знаешь, кем я была — Евой, а теперь хожу с косой: за грехи наказана, и поделом мне. А тебе радоваться надо. Скажи адресок, я им устрою.
— Не стоит, бабушка, насильно мил не будешь. У них любовь.
— По мнению ваших ученых, любовь — химическая реакция, добавь другие реагенты — и нет любви, останется успокоение в душе и теле. Поняла, чего тебе надо сделать?
— Найти свой реагент, но где?
— Я бы сказала, но старая, стесняюсь, вот, когда Евой была.
— Бабушка, а если вам курсы для заблудших девиц открыть?
— Хочешь сказать: и косу не надо будет точить?
— Наоборот, сколько они наплодят грешников?
— Стала уставать, хоть и бессмертная. Кошу и кошу, а вас все больше. Видишь, вон, идет человек. Жизнь его выжала и скрутила в пружину. Он, как и ты, идет на мост вместо того, чтобы разжать ее и выпустить силу. Все проблемы будут решены.
— Подскажи ему, бабушка.
— В мои обязанности милосердие не входит. Я ваша неизбежность, только я определяю, быть вам или не быть. Не люблю казнокрадов. Их кошу с особым усердием. Один даже в чреве прятал червонцы. Только косу затупила. Другой, олигарх, за день жизни остров мне сулил, накачанный нефтью.
— Олигарх? Реагент что надо, — спрыгнула с перил девушка.
— Я не стала тупить косу, отравила его руками жены, которую потом столкнул с яхты племянник. Ты думаешь, я примитивная, только размахиваю косой? В моем кодексе много статей. Недавно поступила просто оригинально. Даже удивилась своей находчивости. Потеряв голос, сунула свою лебединую шею в петлю певица Кошкина. Я разрубила веревку. Говорю ей: знаешь, какая красивая ты станешь после удушья? Язык вывалится, глаза выкатятся. Утопиться хочешь? Вообще останешься без языка и глаз, раки съедят. Прыгнешь с высотки? Перси поскачут мячами по мостовой. А как Клеопатра можно, успокоила ее, и положила в коробку пару мышей. Как я радовалась ее крику. Вообще я люблю, когда кастрируют свиней. Что может быть слаще этой мелодии?! Си бемоль, си бемоль вернулась, закричала певица, обнимая мои кости. Непостижимо: свинячья нота для нее дороже жизни. Заколебали меня ваши проблемы. Один выиграл миллион рублей по лотерее и спрятался с ним в погреб. Пришлось спускаться к нему, а я старая. Ни пенсии, ни льгот. Дела не ждут: розовеет восток, роса садится. А ты бегом к мужику: бережливый, перед смертью штаны снимает. Скажи, что я не скоро приду за ним. Не удивляйся, у каждого в душе свой жанр есть. Иначе скучно. А скелеты тоже были людьми.
ГАВРИЛИНА УХА
За Балаковом матушка — Волга широченна и глубока. Еле виден далекий бок Заволжья. Разогнавшись по степи, ветер гонит метровые волны к крутому правому берегу. А здесь в излучине реки изогнулся рыжей косой пляж санатория «Светлана».
Повсюду валяются поджаренные солнцем тела — после обязательных процедур все устремлялись на Волгу. Смотришь, через день — другой один перестал морщиться от боли, другой выпрямился, втягивая живот до позвоночника, третий вообще забросил костыли. Хуже, чем ты есть, никому выглядеть не хотелось.
Жил со мной в комнате Гаврила Ноев, любил похвастаться: и машины он лучше всех знает, и пел бы как Шаляпин, если б учился в консерватории, и любую рыбу добудет удочкой.
Решил я его проучить. Все продумал, взвесил и говорю:
— Давай, Гаврила, поспорим, кто из нас больше рыбы поймает. Удочки в магазине есть, червей накопаем, рядом и огороды и лес — проблем с наживкой не будет.
— Со мной тягаться хочешь? Да я потомственный рыбак, лавил вот таких, — он распахивал руки все шире, показывая, каких больших рыб ему приходилось ловить.
Сказано — сделано. Он ушел утречком на Волгу, я на автостоянку к своему «Жигулю».
В Балаково обратился к знакомому рыбаку, он только что вернулся с лова. За бутылку водки и пачку цейлонского чая (тогда он был в дефиците) мне наложили целую сумку разной рыбы, даже пару стерлядок не пожалели.
Приехал я в санаторий раньше, чем Гаврила вернулся с Волги. Кажется, у него расплавились глаза от огорчения, когда он посмотрел на мой улов — лещей, стерлядок, судака… Дрожащими руками он вывалил на стол из своей сумки с десяток мелких рыбешек.
— Вот все, что смог. Сдаюсь, — еле вымолвил он. Я гордился им: пересилил он себя и признал поражение. Потом мы, не умаляя до конца достоинства Гаврилы, смешали всю рыбу вместе и сварили уху в огромном котле на берегу Волги.
Угощал всех, кто подходил к нам, сам Гаврила:
— Пожалуйста, вкусите, вот вместе лавили, — показывал он на меня. И уха от этих слов казалась еще вкуснее.
ЗОЛОТАЯ КАПЕЛЬ, ИЛИ ЖИЛКОМХОЗ
Васька — сантехник выглядел клево: как жеребец с плаката у жилкомхоза. Такой же гривастый, губастый. На вопрос «Как жизнь?» всегда отвечал; «во!», переламывая большой палец. Он не был поэтом, но рифмовал потрясно. «Даже шайба — пятачок, если хозяин дурачок», — ржал, подмигивая лиловым глазом.
Пустил Васька по жилому сектору слух, что он троюродный внук Остапа Бендера, великого комбинатора, и научился у него выкручиваться в любой ситуации. Вот и сейчас, когда все шумят о каком-то кризисе, можно срубить кучу бобла. Васька заметил, что многим до фени этот кризис, так же веселятся, влюбляются, изменяют. Стоп: изменяют. Вот в чем соль, вот, где клад
Недавно звонят в дежурку домоуправления: соседка — стерва водой залила, срочно нужен трезвый сантехник. Васька ключи в руки — и по адресу, а там, ха — ха, знакомая Анна Гавриловна шастает бестолково по лужам в разных тапках и побледневший мужик в халате прячет лицо.
Устранил Васька течь, опрокинул рюмку водки и мужику:
— Иди сюда, Ваня Ванич, побазарим. Протек что ли от страха? Не будь в напряге, жене не скажу, но за это гони денежку. С тебя — кусок. Бесплатно даю только совет: «клевать на коров не надо, когда телок целое стадо».
— Это не Иван Иванович, а Иван Петрович, — обиженно поправила хозяйка.
— Эх, баба-баба! Ты в натуре дура или обкурилась. Ваня Ванич это, директор автобазы, чтоб ты знала. С него — кусок, с тебя — два. Добавка — за оскорбление. Помнишь митинг против роста тарифов ЖКХ, когда обозвала меня дыроколом в штанах? Вот теперь Ваня и Маня гоните мани, не то будет западло, как говорил на зоне наш пахан, царство ему небесное.
Никто особенно и не роптал на амурный налог Васьки. Отстегивали все, что с дурака возьмешь. А гонорар за гламурную информацию был хороший, больше платили те, кто забыл о совести в смутное перестроечное время.
Престарелая калоша Ильинична при встрече сразу совала тысячную купюру:
— Ну, не томи, говори.
— У твоей подружки из отделения дороги, — перебирал он губами, — сегодня дежурил поездной диспетчер Сидоренко. Застал его в зеленых трусах в красную полоску. Семафор, блин. Лопнула труба, и вода набралась даже в ботинки. Эти двое не слышали, уточняя графики движения…
А в доме, где магазин «У Алика», с пятого этажа сиганул в окно фермер Черногрудов. Застукал бабу муж.
— А фермер?
— Фермер? На удобрения.
Вот такой приблизительно информацией и потчевал любопытных Вася — сантехник. Бесплатно докладывал об увиденном и услышанном только начальнице ЖКХ Марфе Никитичне, которая смотрела на его выходки сквозь унизанные золотом пальцы.
Не все коту масленица, оторвали Ваську от кормушки. Сначала его обнаглевшего оттаскала за уши никогда не спавшая одна повариха Анька. Потом спустила с лестничной клетки встретившая мужа после плавания и не открывавшая долго дверь парикмахерша Тонька. А тут в промозглое хмурое утро позвали к предпринимателю Петькину: откормленные и отсиженные зады развалили унитаз. А веселье только разговлялось.
В одном из чуланчиков, и надо же было такому случиться, наткнулся на Марфу Никитичну, которую уже опрокидывал горбоносый мужик.
Вот и все: откапали денежкой краны, отзвенели монетками шайбы, вымели Ваську — сантехника из ЖКХ. Теперь, говорят, пасется в стаде литераторов, поголовье которого постоянно растет на зависть фермерам, и пишет воспоминания « Золотая капель, или жилкомхоз».
НОСТАЛЬГИЯ
Арматурой что ли громили этот бывший дом печати хулиганы: ни дверей, ни окон. На облицовочных плитах кровавые следы кирпичных ударов. Черные проемы кажутся вопящим ртом. И только чудом удержалась на планке фрамуга, ухом торчащая в кабинете старого редактора.
Опираясь на деревья, здание стоит под боком у пруда, где не затихает лягушачий гала — концерт. Может быть, и поэтому оттопырила ухо фрамуга. Тоскливо. Только ветер с воем гоняет по пустым коридорам и цехам обрывки бумаги — хуже песен попсы.
Не в сорочке родилось здание — в облицовочных плитах. Не везло ему с первого кирпича. По небрежности или с похмелья, думая, что продолжают строить насосную станцию на трассе Саратовского канала, опустили его строители ниже проектной отметки и зеркала пруда на целый метр — а чего мелочиться. Забыли они закон о сообщающихся сосудах. Не клиенты — вода пришла первой к печатникам. Точнее, сначала обследовали для себя жилплощадь лягушата, приведя в восторг впечатлительных девиц. Одну из них долго отхаживали мужики с красными крестами на спинах. Порфирьевич из сельхозотдела обозвал их пауками — крестовиками.
Воды было столько — в ботинках не пройдешь, только по настилам.
Укладывали их наспех: по камешкам, по кирпичикам, мать вашу. Как результат, поскользнулась корреспондент Козлова, сломав сразу руку и ногу. Ущерба для редакции никакого, так как писала она в основном подписи к фотоснимкам. А известности хотелось.
Утром услышала по радио сообщение о том, что ее братья Иван и Гаврила, угнали самолет из сопредельной страны, а ведь начинали с трехколесных велосипедов.
Поспешила к редактору газеты с вестью о своей известности и вот… кричала так — лягушата с перепугу в щели забились.
В тот год снова была засуха в Заволжье. Степь до самого устья Узеня покрылась паутиной трещин. Решили проектанты: зачем зданию в засушливой зоне крыша коньком. Пойдет и плоский вариант. Не были они провидцами. С приходом волжской воды по каналу и строительством водохранилищ изменился микроклимат в степи, в гости к Узеням стали наведываться дожди. Часто ливневые. Целый водопад обрушился с крыши в предзимье. Обледенев, рухнула водосточная труба, рассчитанная на полупустыню. Пробралась вода под битум, заливая помещения до первого этажа.
Вот тогда и дал объявление в газете редактор, чтоб люди приходили в редакцию в сапогах и желательно с зонтиком…
Русалочки из печатного цеха Римма и Эмма из угла в угол катали рулоны газетной бумаги, чтобы не намокли. Потом на праздники рекорды ставили по перекатыванию тракторных баллонов. Местный глава Иванушкин, бывший звеньевой пахотного звена, такой вид соревнования учредил.
Обиделся он за объявление на редактора, но с ним решил не связываться. Отчитал директора типографии — одного из членов своего звена.
— Отремонтируйте, наконец, крышу, сделайте дренаж. И снизу, и сверху вода. Станки погорели, люди — на бюллетнях, некому напечатать предвыбрные листовки.
В понедельник задумчивый фотограф прошел мимо здания редакции и типографии, не узнав его: верхние плиты были сорваны, оборудование валялось под распахнутыми окнами. Красивое на вид здание стало похожим на коровник. Редактор газеты только и сказал директору:
— Я знал, что ты дурак, Сидоренко, но не до такой же степени.
— Ладно, теперь приму меры я, узнав о действиях своего ставленника, пообещал глава администрации. — Никто скоро не увидит дом печати с площади, мы закроем его стеной мемориального комплекса.
И удивительно — сдержал слово: в двух саженях от редакции и типографии выросла стена высотой с кремлевскую. Построили ее срочно зимой, в раствор добавляли известь, и побледнела она. Может быть от содеянного: не стало солнца в кабинетах и цехах работников печати, камнем закрыли им вид на центральную площадь.
Потом стало хуже. Реформа, приватизация. Здание в результате ловких маневров мошенников перешло в руки частника. Тот заломил такую цену за аренду помещения, что сбежали в клуб газетчики, где с утра били в барабан и играли на контрабасе сбежавшие с уроков дебилы. Обанкротилась и прекратила свое существование типография.
Боязливо и спешно проходили мимо бывшего дома печати люди. Какие — то машины стояли в печатном цеху, рядом суетились незнакомцы с бегающими глазами. Потом, как вывели всех дустом, никого и ничего.
На фоне воздвигнутого на месте болота спортивно-оздоровительного комплекса бывший дом печати кажется домом Павлова. И не зайти туда не мог старый редактор, побывавший недавно в городе.
— Кто такой. Что надо? — вышел из комнаты, где раньше был склад, человек в тюбетейке. Он сгребал там лопатой мусор.
— Я здесь работал. Ностальгия замучила, решил посмотреть.
— О, и меня Фатима замучил, прогнал работать, а виза нет.
— Я бывший редактор, газета правил, — подстроился под узбека гость.
— Я тоже трактор правил, а здес лапатой нада.
— Чье же теперь здание?
— Знаешь новый магазин напротив касса? Его нашальник нанял меня.
— Понятно. Ну, яры. Привет Фатиме!
Шел обратно вдоль заросшего пруда. Одна из лягушек, вытянув из воды голову, громко квакнула ему: может быть, узнала? Четверть века работал здесь. А здание будто прислушивалось: оставалась еще открытой фрамуга.
КОТ — ДЕГУСТАТОР
По вторникам и четвергам в этот магазин завозили товар. И хотя торговых точек в городе было больше, чем жилых домов, Клавдия Ивановна Ракова заходила чаще сюда — обменяться новостями, посплетничать. Даже хлеб брала здесь — балаковский, энгельсский, саратовский. Только — не местный, который крошился и плесневел уже на другой день.
— Клавдия Ивановна, купите колготки. Клевые, песочного цвета, — заулыбалась на все тридцать два зуба продавщица Ксюша. — Прикиньте, сколько старых козлов осчастливите.
Ракова приложила колготки к животу, растянула:
— Какие емкие, на слона только. А цвет — для Бен Ладена: легко маскироваться в пустыне.
— Прикольно! А вот Марья Алексеевна взяла сразу дюжину, хотя она не слон и не Бен Ладен.
«О, Господи, заложит щука зубастая как пить дать. Не зря ей дали кличку Ксюшка — болтушка, и до пенсии не дотянешь,» — испугалась Клавдия Ивановна и решила вывернуться.
— Марья Алексеевна? Наш мэр? Я и говорю: безразмерные колготки, только на ее (о, Господи!) тело. Она сейчас на строгой диете, свободно умещается в кресле. А раньше гирь не хватало, когда взвешивалась. Добавляли сорокакилограммовую девчушку из фитнес-клуба. Сама видела, как Марья Алексеевна на масленицу перетянула на канате десять мужиков. Я и она, что цыпленок и курица. Колготки ей впору.
— Клавдия Ивановна, есть еще потрясная новинка — французские очки, — снова блеснула зубами Ксюша.
— Французские? А не на десятой дачной их отливают из старых расчесок? И стекла разные. Я еще не лишилась ума. Обламывай, Ксюша, своих деревенских.
— Потрясно! Но ведь берут. Я уж не говорю о Марье Алексеевне. Ваш начальник Петр Петрович для всего семейства их закупил, правда, еле разобрала, что он хочет.
— Петр Петрович? Для всего семейства? И Ванечке, и Манечке? Как они на него похожи! Ну, вылитые Петр Петрович. Рыженькие, лупоглазенькие. Как будто всегда носили очки. И супруге купил? Здорово! Ведь она на двадцать пять лет старше Петра Петровича. Закроет теперь морщинки у глаз, как волосики — просеки париком, который не снимает и ночью: боится испугать Петра Петровича. Мудрейшая женщина! И без того у него было два инсульта: не поймем, что лопочет.
От греха подальше купила Клавдия Ивановна красно-розовые очки. Но не кончились на этом ее беды. Видимо, день для раков был неблагоприятным. В продовольственном отделе толстушка Леночка стала заливать сразу:
— У нас овощи только с грядки, рыба еще утром плавала в пруду…
— А мясо еще вчера гуляло по лугам у Малого Узеня, — прервала Клавдия Ивановна. — Знаем мы ваши штучки. В прошлую пятницу всучила мне колбасу особую: крахмал да шкура. Кот не ест без валерьянки. Сегодня он сам будет выбирать себе еду. Дай — ка на пробу немного окорока.
Сидящий в сумке кот безразлично зевнул, глядя на протянутый кусочек окорока.
— Не съедобный, как и твоя особая колбаса.
Забраковал кот сардельки, сосиски, сырные продукты, напичканные добавками. Съел с аппетитом только кусочек огурца.
— Да он у тебя вегетарианец! — захлопала в пухлые ладошки Леночка. — А ты: несъедобный продукт, несъедобный продукт.
— Кто тут несъедобный? — к ним подошел директор магазина Щукин-Окунев. «О, Господи! Брат Марьи Алексеевны Иван Алексеевич. Точно выпрут из конторы…»
— Да вот, Иван Алексеевич, мы с котиком Чубайсиком колбаску выбираем, а у вас столько всего — глаза разбегаются, как в столичном супермаркете.
— Возьмите ему колбасу особую. Только привезли. Чуток жидковатая, но застынет, одеревенеет.
— О, тогда и мне взвесь с килограммчик, Леночка. Какая она у вас добрая, внимательная, Иван Алексеевич. Только у нее и беру продукты.
— У нас все добрые и внимательные, — буркнул, отходя, довольный директор.
— Это мой двоюродный дядя, всех наших взял к себе, считай, в каждом отделе сейчас есть Щукины — Окуневы, — похвасталась простодушная толстушка, взвешивая Клавдии Ивановне особую колбасу.
И только кот морщил и воротил от нее свою усатую рыжую морду.
БЕС… ГРАМОТНЫЙ
Над Заволжском нависла щекастая туча. На дома, лужи, лица прохожих легли тени. Настроение было прескверным: выгнали с работы по несоответствию занимаемой должности.» На редкость безграмотный», — сделала вывод аттестационная комиссия, а ее председатель намекнул на книгу рекордов Гинесса, насчитав в его заявлении пять слов который. Таким, говорит, не пресс-центр нужен, а пресс-молот рельсы гнуть. Шутник длинноносый. Сам недавно костыли забивал на железнодорожных путях, поэтому и горбатится, а корчит из себя Гоголя. Вот напишет он повесть «Вечера на хуторе близ Дьяковки». Глава там не просыхает, ведьмы и черти, считай, в каждом доме. Есть и кузнец, по выражению хуторян, немножечко глупой. Телеги выдает с запасным колесом, а полозья санок загибает с обеих сторон, чтобы не разворачивать.
Начнет свою повесть так, решил он: «Дьяковка была идентична Диканьке. Ночью фонарь горел только у дома местного главы, который еще спал и у которого до опохмелки оставалось время.
Прокукарекал петух, который спросонья перепутал крякающую птицу с хохлаткой и в хвост которого вцепился ревнивый селезень». Потрясно! Чем не Гоголь! А как к месту сказано: «идентична», вычитал на пакете с чаем: «идентичный натуральному». А то: нет у него запаса слов. Неизвестно у кого больше, препирался он с ехидными членами комиссии.
Кстати, в Дьяковке открылась столовая для безработных. Если прокиснут щи или каша, повар пишет в меню: «идентичные натуральным». Такой вот пройдоха, лет десять варил баланду зекам на зоне.
Пол-хутора часами бывало просиживали за околицей или в лопухах у сельского клуба. Для другой половины это хорошо — не рыщут по дворам, да и чем-то заняты, приобщаются к культуре.
В Заволжске закрыли общественные бани: после реформирования все службы ЖКХ стали частными. А кто будет работать себе в убыток? Подняли плату за ходку с веником до 200 рублей с носа, и сразу втрое стало меньше чистых горожан. От некоторых запахло.
Смекнул он, что есть тут выгода, и, была все же у него предпринимательская жилка, соорудил во дворе своего дома из глины, соломы и старого забора баню. Хотя и не идентичную общественной, но с предбанником, каменкой из брусчатки, которую выкопал из грязи на соседней улице.
Теперь его банька постоянно курилась дымком. Сначала обслуживал соседей, потом — их знакомых. И вот пошли заказы. Молодежь, особенно деповская, ходит парами. Иногда пососут пивка, перебросятся в карты, но без пережогов и лишних ходок. Навар? Даже пятаки не стал считать. А они: «безграмотный». Какие дураки! Скорее бес грамотный. Кто им будет собирать липовую информацию, говорить о том, чего нет. Длинноносый, что ли? Хрен с ними. Скоро он создаст свою службу быта «Мочалка и веник».
Впервые за многие годы он вздохнул легко и свободно, разорвав невидимые путы извечной боязливости и непротивления.
КОНКУРС
В балке задержалось облако тумана, в котором купались кони-подростки, их игривое ржанье доносилось до ипподрома конефермы, где шли скачки.
Среди зрителей — большой начальник из района Глеб Гаврилович Рожев и старший тренер Илья Хомутов. Слегка под мухой, хлопают в ладоши.
— Как, говоришь, зовут победителя? — спросил большой начальник.
— Гром, сегодня последний раз бегал. Хватит. Каких только призов у него нет. Если все повесить на грудь — будет вылитый Леонид Ильич, — хихикнул старший тренер, — теперь на отдых.
— Или на колбасу, — задергался щеками гость из района.
— Нет, кобыл будет объезжать, жеребец племенной, дороже твоего «Хаммера».
— А давай-ка, Илья, выпьем с ним за его победу коньячку грамм по сто, а?
— По сто грамм мы всегда ему даем после скачек, для восстановления сил. Моя методика, — похвалился старший из тренеров. Большой начальник пришел в восторг:
— А давай мы проведем конкурс между конем и человеком — кто больше выпьет и не свалится: в книгу рекордов попадем, — предложил он, потирая руки от предстоящего неповторимого действа.
— Ветврач наш, девка красивая, но упертая, может встать на дыбы, если увидит. Вставить бы ей удила в зубы да шпорами.
— Тоже мне — скотский врач, профессоров обламывали. Давай, веди Грома.
Недалеко от конюшен за ометами лугового разнотравья стоял «Хаммер». Облако тумана в недалекой балке почти рассеялось и было по колено жеребятам, бегающим все время наперегонки — еще бы: будущие рысаки, уже звал их к подвигам состязательный дух предков. Ближе к ометам расположились трое — большой начальник, старший тренер и Гром. Пили коньяк. Говор, если прислушаться, все больше походил на лошадиный. Гром, казалось, уже сидел на куче сена, приготовленного к раздаче. Ему заливали коньяк в рот стаканчиками, давая на закуску кусочки сахара. Гром млел от удовольствия.
— Так. По шешнадцатой, — еле выговорил большой гость, опрокидывая порцию благородного напитка.
— По шестнадцатой, — сделал то же самое старший тренер.
— Ио — го — го! — проглотил вылитый в пасть коньяк Гром.
Нарушила идиллию девушка на коне в костюме наездницы. Волосы ее развевались на ветру, на загорелом лице сверкали синющие глаза.
— Женщина — кентавр. Откуда? — спросил начальник.
— От верблюда, спешилась девушка.
— Так ты амазонка? Может быть, меня оседлаешь? Я тоже из породы рысаков.
— Вам бы в стойло пора, как и Грому. Боюсь, всех кобыл покроет, вон как возбудился.
— Кто ты такая?
— Ветврач, Светлана. А вы кто?
— Я тут командую. Вот пьем с конем на спор, кто кого. Пока равенство.
— И сколько уже пропустили?
— По шешнадцать триньков, — икнул большой начальник.
— Офигеть. Копыта отбросите. Прекратите спаивать коня. Вы давно втянулись, а он только по глоточку.
— Ио-го-го! — кто из них заржал, не поняла Светлана. — По глоточку! Так у него глоточек полведра.
— Илья, не стыдно: в собутыльники коня взял. А еще старший тренер.
— Не вставай на дыбы, Света, все под контролем. Пьем только пятизвездочный, а Грому скакать больше не надо, он уже пенсионер, с кобылами только.
— Он жеребец, не понимает, вы же люди, хотя, — махнула рукой, — далеко от него не ушли.
— Послушай, ветеринар, не мешай проведению первого российского конкурса между человеком и конем, — поднялся на ноги большой начальник. Он был вдвое выше Светланы. — Иди прочь, ставь кобылам клизмы, обижусь…
Илья делал ей знаки, кривил рожу, предупреждая, чтобы отстала.
— Вон как возбудился, — не нашлась что сказать Света.
— Еще по одной — и все на тебя набросимся.
— Ио-го-го! — заржали все трое, пугая в загоне кобылиц.
Первым свалился в стог и заснул, вдыхая аромат лугов, старший тренер, потом опустил отяжелевшие веки большой начальник. И только Гром бегал вокруг них, хватая губищами рукава рубашек и вылизывая остатки коньяка в стакане.
Подъехала Светлана.
— Хоть с конем, хоть без коня — результат один. Пойдем, Громушка, от греха подальше, — и повела его недовольного под узцы в конюшню.
СУМАСШЕДШИЙ ДОКТОР
Поехали на Иргиз за грибами. Тут река делает зигзаг и течет себе навстречу. После жаркой степи лесистые берега казались тайгой. Тень, прохлада. А ковер из прошлогодних листьев — мягкий, ноги тонут до щиколоток. Искать под ним грибы — нужен навык, но кое-что нашли, то ли сыроежки, то ли волжанки.
Это дерево росло рогаткой и я, дурак, забрался на него. О — го — го! — далеко разносился мой голос. Ау — ау, — отвечали со всех сторон коллеги, боясь заблудиться, но при всем желании не сделали бы этого: с одной стороны — степь, с другой — извилистое русло Иргиза.
— О — го — го! — вновь загоготал я и, сорвавшись, полетел вниз. Упал-то на ковер, но с сучком в спине.
Перепугались коллеги, увидев мое перекошенное от боли лицо и торчащий из спины сук: не насквозь ли проткнуло бедолагу.
Засуетились, заголосили бестолково.
— Заткнитесь, — гаркнула Анна Гавриловна. — На другом берегу Иргиза сумасшедший дом, надо привезти медика. Давай, Петя, поехали.
Она вскочила в «козла», так мы называли редакционную машину ГАЗ-69, за ней — водитель, успевший выбросить нам аптечку. Йод и вата с бинтом там были.
Машина укатила к переливной плотине, а оставшиеся занялись мной. Двое числились в военкомате медсестрами, но все бестолку — только измазали меня йодом.
Ждали мы долго, но, наконец, подкатил «козел», из которого вместе с нашими вылез маленький толстый человечек.
— Где тут раненый, — в руках он держал бутылку водки и сумку с хирургическими инструментами. Осмотрев меня, протянул бутылку:
— Пей и не бойся.
— Сколько пить, — спросил я дрожащими от страха губами.
— Всю пей.
Потом он, как мне рассказывали, зажал кончик сучка щипцами и рывком вытащил его. Вот тут пригодился йод. Доктор зашил мне рану и похлопал по плечу:
— До свадьбы заживет, — в глазах у него мелькнуло что — то дьявольское. — Трудно будет — приезжайте к нам в психушку.
— Уж лучше вы к нам.
— Приеду, годок остался.
Когда его увез Петя, я спросил журбабу Анну Гавриловну:
— Почему он так сказал?
— На поправку пошел, через год обещали выписать из дурдома.
— Так он сумасшедший? — пьяно выговорил я.
— Он действительно доктор, но свихнулся: жена с любовником укатила за кордон, — объяснила журбаба.
— Радоваться тут надо, — неуверенно пробасил фотограф Дмитрий Порфирьевич, от которого, говорят, уже три жены сбежало.
Разные люди. Разные нравы.
УКРАЛИ УЗЕНЬ
У бабки Фимы из Черной Падины была корова Ночка. Кормилица. Молоко меняла на концентраты, сено заготавливала на лужайке у излучины Узеня сама. Срезала траву серпом, перевозила ее в наволочке матраца на легкой велосипедной тележке. Сосед Пахом постарался, и серп точил, когда затупится.
В этот день она погнала корову на выпас к Узеню на зорьке, ночь еще цеплялась за дома и деревья, тень от которых становилась все короче и бледнее.
Ближе к речке больше было травы, в которой поблескивала утренняя роса. Бисером разлеталась она из — под копыт Ночки, подхватываемая проснувшимся ветром. Как проказник мальчишка носился он по степи, гоняя без отдыха колючие шары перекати — поля.
Но вот встала буренка, уперлась как в стену и бабка Фима: нет речки, куда делась? Или украли? Поблескивали только алые лоскутки луж, разбросанные на дне русла, да покачивалась на берегу редкая борода тростника.
— Караул, Узень украли! — оставив на берегу Ночку, побежала бабка в Черную Падину. Восход розовел, собирая остатки ночи по буеракам и балкам. Под ногами шелестела сухая трава, сбросив росу на землю.
Вопя, застучала в калитку крайнего дома, вытаращившего от страха глаза — окна.
— Узень у нас украли! — сообщила выскочившей на стук Марфе.
— Спятила что ли? Узень — речка, как можно ее украсть?
Марфа была начитанной, в сельской библиотеке работала. Даже сейчас держала двумя руками толстенную книгу, соответствующую по объему фамилии автора — Левы Толстого.
— Я не брешу, да и собаки у меня нет, одна корова. Там на берегу речки и оставила ее.
— Надо обратиться к участковому. Эдуард Семенович разберется. Чай в клубе сидели с ним вместе лет пять.
Местного участкового звали в действительности Мотя. Когда он работал в колхозе пастухом, еще мирился, а когда надел форму и стал представителем власти на селе, посчитал несолидным.
«Сменил кличку» — говорили острые на язык самогонщики Петровы. К ним он заходил частенько, борясь со всеобщим злом. Для него всегда стояла в красном углу бутылочка светленькой двойной очистки. Как для самого дорогого гостя.
Через час бабьей ватагой, мужики еще не проспались, двинулись к Узеню. В основном — старушки, а во главе — Эдуард Семенович. Некоторые взяли в руки поломанные черенки лопат вместо тросточки, в случае чего — по башке: куда речку дели?
А участковый навесил на ремень пустую кобуру, пистолет ему никто не выдал: сомневались начальники в его благоразумии, когда переберет.
Дошли быстро и загалдели все разом, некоторые бабы постарше заголосили:
— А где наш Узень батюшка, а как мы будем жити без него, чего будем пити, чего будем ести…
— Замолчите, забодай вас комар, — прервал всех Эдуард Семенович. Факт налицо: Узеня нет. Теперь надо установить: кража это, или он сам совершил побег.
— И раньше было такое у черной падины, когда здесь еще никто не жил, — сказала бывшая библиотекарша Марфа. А знаете почему падина — черная, так назвали и наше село, в ней много росло ежевики, и она всегда казалась черной. В книжке местного краеведа Изжогова прочитала, если он не наврал конечно.
— Будя тебе, — прервали старухи. — Что будем делать без Узеня? Пруд — то высохнет. Скотина подохнет, а за ней и мы.
— Вам и так мало осталось, — буркнул Эдуард Семенович.
Из — за лесополосы словно рукой махнули.
— Что это? — перекрестились все кроме участкового, хотя и его рука уже дотянулась до козырька фуражки: струхнул он не меньше бабок.
— Разберемся, — сказал по привычке.
Решили пойти за лесопосадку всем гужом. На миру и смерть красна. Однако в руках появилось гораздо больше палок: где и когда набрали?
За лесополосой им открылась невиданная в здешних местах картина. Ревели десятки землеройных машин, срезая и убирая древние пласты земли на месте обезвоженного русла Малого Узеня. Чуть выше была отсыпана земляная плотина, перегородившая привычный путь реке, и она текла в другую сторону.
Загорелый мастер с густыми бровями и с голубыми, как утреннее небо, глазами успокоил их, объяснив, что скоро рядом с их селом разольется степное море, а Узень они временно пустили по древнему руслу в обход строительства. Он никуда не денется, его снова направят в свое русло. Теперь воды хватит с избытком для развития всех пяти близлежащих сел, заверил он селян.
— Будет водохранилище, будет степное море, — объясняла буренке ситуацию бабка Фима, срезая серпом на берегу зеленую траву и складывая ее в мешок. — Бровастый сказал, что больше будет в степи дождей, значит, больше будет травы. Заживем, Ноченька, а резать траву мне еще легко. Серп вострый, спасибо Пахому. Чай, в молодости ухаживал за мной.
В луже у берега, где были коряги, раздался всплеск, другой. «Неужели рыба?» — подумала бабка и с серпом полезла под корягу. На нее смотрела круглыми немигающими глазами и скалила острозубую пасть с клыками громадная щука. «Отлеживалась в яме, наверное, и не заметила, как увели Узень строители».
Такую щуку в Черной Падине ловили лишь раз и то неводом. Она выставила ее напоказ: соседи были рыбаками, пусть видят: и она не лыком шита. Впереди шла корова, за
ней — бабка Фима с легкой тележкой, на которой лежали мешок с травой и щука — неизвестно кто тяжелее.
БОРОДА
Дмитрий Порфирьевич сидел на скамеечке у своего дома с расческой и линейкой в руках. Струилась вниз по животу борода, закрывала плечи грива волос. Видели вы руно, снятое только что с мериноса? Вот набросьте его на голову, и будет некое подобие Дмитрия Порфирьевича.
— Давненько тебя не видел, все пописываешь? — я о рассказах, не вообрази плохого.
— Думал, баранья шерсть сушится, а это ты, Порфирьевич, рад встречи с тобой.
— Ты всегда подначиваешь: борода, борода. Как будто другого у меня ничего нет. Лучше послушай, что тебе расскажу, может быть, используешь в своих балагурках, провел он расческой по бороде и приставил к ней линейку.
— У меня дед и прадед, и его дед носили пышные бороды, зимой шапок не носили — такая была на голове копна волос. По семейному преданию один из них поднимал привязанную к бороде годовалую свинью и получал ее в подарок, а другой, еще при царе, по его велению, тащил от дворца до дома вцепившуюся ему в бороду боярскую дочку. Чуть не умерла она от бессилья, но не разжала руки — так любила моего предка. Бороды у нас как семейная реликвия, и тут ничего не попишешь. Но всем я мешал. Как же: личики у них гладкие, выбритые, а у меня бородища.
Гнобили меня чиновники и в старые и в новые времена, не везло и в личной жизни. Работал я агрономом в пригородном совхозе, полюбил краснощекую доярку Лизу. Говорю ей: выходи за меня замуж. Смеется:
— За комок шерсти с глазами. Как целоваться с тобой?
К тому времени я дал свободу бороде, и она выросла на локоть. Да и как будто главное в жизни целоваться. Теперь Лиза мать — героиня, дюжину девочек родила. Слава Богу, не вышла тогда за меня замуж любвеобильная доярка, что бы я делал: совхоз развалился, агрономы никому не нужны, был бы дождик, был бы гром, помнишь такую поговорку?
Всякие чудеса в решете со мной случались. Во время уборки сена уснул в копне от усталости. Когда проснулся, не поверишь, из бороды вылетела птичка — успела свить гнездо: подручного материала много, хорошо — не утка.
А в Саратове, смех, в ЗАГС опоздал, чтобы засвидетельствовать акт бракосочетания бывшего однокурсника. Дунуло ветром и прищемило бороду дверью троллейбуса, проехал нужную остановку.
Я ведь, друг мой, и артистом был, играл в детском спектакле «Золотой ключик». Пришел в школу, детвора как закричит: Карабас Барабас, Карабас Барабас, — и все, стал артистом.
А однажды спасла меня бородушка, — Дмитрий Порфирьевич ласково ее погладил, — не выворачивал бы сейчас наизнанку душу. Давно это было. Вез я из Москвы пуда два семян люцерны для размножения — подарили селекционеры из Канады: опытные образцы с невиданными в нашей засушливой зоне урожаями. В парашютной сумке вез. Шел в совхоз от автобусной остановки через навесной мост — старый, настил сгнил и часть досок выпала. Провалился я, повиснув на тросе над Узенем. Сумка — на плече, тянет вниз. Вскарабкаться на мост никак не мог, только силы потратил. О себе не думал, хотя вода весной в Узене ледяная, только о семенах. Как их спасти? Пальцы начали ослабевать, сбросить бы сумку с плеча — и нет вопросов. Только зачем же было огород городить. И вспомнил я прапрадеда, его призовую свинью. Изловчился, перекрутил несколько раз вокруг троса бороду, зажал ее рукой — и стало легче.
А тут и люди подошли. Молодые ржали, как кони, видя агронома висящего над речкой на бороде, постарше — лодку подогнали под ноги. В предания теперь попаду, как пить дать, черт побери. Борода — моя судьба, каких только приключений с ней не было?! Мы в совхозе всегда получали высокий урожай. На выставку достижений народного хозяйства меня не брали. «Если его только показывать, — подсмеивались чиновники, — пусть побреется». Не брали и в область на совещания. И лишь когда в совхозе получили по триста пудов зерна с гектара, не отвертелись, пригласили на актив.
Сел я на последнем ряду, но заметили, подошли двое, взяли за руки и — в парикмахерскую. Говорят: подстригись — и срочно в зал, а сами ушли.
Подстригли меня, стал вылитый Карл Маркс. Может быть, ностальгия у мастера была по старым временам, ходили слухи, успела она поработать секретарем райкома партии по идеологии, и образ великого бородача всегда стоял перед ее глазами. Вот и слепила копию.
Сел снова в уголке на заднем ряду зала. Увидел меня докладчик, подзывает помощника:
— Это кто там на заднем ряду? Не могу сосредоточиться, робею, больно на Карла Маркса смахивает, а мы тут такое на уши вешаем…
Выгнали меня с совещания областного актива. Да, дружище, с Марксом меня часто путали, даже падали в обморок. Зашел в общественную приемную нашей партии, объясняю, что я с вопросом о земле. В программе у вас что записано: «земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает», а сейчас снова хозяева и батраки появились. Заведующая — в обморок, присутствующие мужики стали обливать ее водой, делать искусственное дыхание, сжимая груди.
Рядом находилась приемная КПРФ, и туда я зашел, а что мне терять кроме собственных цепей. Там все вытянулись в стойку, всхлипнули: «наконец-то» и запели «Марсельезу» Почему не «Интернационал»? Все время поют или причитают, блажные, прости, Господи, мою душу грешную.
Сказать тебе новость, только не смейся: нашел и я свой бизнес, а куда денешься. Пришли вчера двое, у вас, спрашивают, волосы не продаются? Покупаем дорого, до тридцати тысяч рублей за килограмм, если длина их сорок сантиметров. Столько я и за год не заработаю. Решил постричься. Волосы у меня на голове за сорок сантиметров, а на бороде еще длинней — две линейки как раз.
За год еще отрастут, и я снова постригусь. Производство волос будет непрерывным. Если смерть не испугается меня, лет до ста расти ей без старости. И никакой кризис мне не страшен.
НЕЧИСТАЯ СИЛА
Сгорбленная старуха сидела под яблоней и смотрела на закат. Очень любила она время, когда угасал день. Лента Узеня за огородом оставалась светлой и после того, как скрывалось солнце. Но тени густели, плащ ночи накрывал все.
Ее всегда тянуло к темным силам, и не случайно звали ведьмой. Долго не засыпала, если не сделает окружающим пакость, даже родственникам.
— Опять одна, а мир такой огромный, — вышел из огорода черт, такой как рисуют на картинках: с носом пятачком, с рожками и хвостом. Копытцами стук — стук. Она не испугалась его, даже обрадовалась, пригласила в дом.
— Пойдем, чайку попьем, поболтаем, рогатенький.
— С превеликим удовольствием, хотя ты еще не ведьма, но так тебя все зовут.
— Откуда знашь, — осмелела она и взяла его за руку.
— Откуда знашь? Оттуда. Черт я или не черт? У нас в преисподней на всех досье имеется, особенно на таких, как ты, сочувствующих.
— Хочу служить Мефистофелю, вашему главному Сатане. А если и вечную жизнь подарит, даг и душу ему отдам, как в книжке — «Фауст» называется. Все время ее читаю, другие и не открываю. Вот умище даг умище.
— Заслужить надо, хотя с этим у тебя и неплохо, а вот испытания пройти придется. А где сейчас дочь твоя?
— Не выдержала, в секту сбежала. Захотелось самостоятельности.
— Знаем, знаем. Ни детства у нее не было, ни друзей. Семь классов едва окончила и — в обтирщицы тепловозов: все время в яме, там и зачали с пьяным слесарем внука твоего. В секту хлыстов, говоришь, сбежала? Это хорошо: наша бесовская секта. Ты душу истязала, там — тело. Самогоночку продолжаешь гнать?
— Без нее как прожить?
— Без нее можно, с ней нельзя, — черт засмеялся, прикрыв лукаво копытом свиную рожу. — От твоего самогона загнулись и попали к нам восемь здоровенных мужиков, остальные на подходе. Молодец, зачтется. А внук твой как, учится?
— Внук тоже захотел самостоятельности, не укоротила, хуть и делала все, что можно и не можно.
— Разбирали мы дело. Денег у тебя полно, все чулки забиты, а он перебивается с хлеба на квас, зимой ходит в твоих войлочных ботах «прощай молодость». Но игрушки, как в детстве, любит мастерить. Смотри, из тебя чучело сделает, — снова захихикал черт. — Злишься на него, что Бабой Ягой обозвал?
— А посмотрела я в зеркало, переборщил он, — взъерепенилась старуха. — До Бабы Яги мне еще далеко, хотя, признаю, нос загнулся к самой губе и зуб один всего остался.
— Ладно, ладно, не кипятись. Меньше надо сидеть на трубе и самой ее чистить. Падала с трубы? Вот — вот, падала. Тут уж и метлу, и ступу тебе приписали. — Черт глотнул горячий чай. — А внук твой с головой. Пошел учиться, где есть общежитие, денег за учебу не берут. Умных противников всегда следует уважать.
— Сначала меня колдуньей называли, а сейчас ведьмой кличут. После того случая с ямой. — Черт знал об этом случае.
Когда бабки не было дома, внук с одноклассниками вырыл во дворе яму, прикрыли ее сушняком, чтобы не заметила бабка и провалилась туда, а сами притаились за забором и прильнули к щелям: интересно же.
Набралась в яме вода и просочилась сквозь саманную стенку сарая. Бабка обо всем догадалась и решила использовать ситуацию с выгодой для себя, укрепить веру болтливых селян в свои колдовские чары. Воздела свои руки к бездонному в тучках небу и, как показалось подросткам, сдвинула их.
— О, Мефистофель, прошамкала она, — подскажи, где поставили мне ловушку негодные дети. — И загремел гром, сверкнула молния.
У подростков от страха поднялись вместе с кепками волосы и бросились они, вопя, по сторонам.
В деревне узнали в тот же день о происшествии. «Это же надо — тучи стягивает, гром — молнии вызывает». Даже учительница естествознания в первый раз перекрестилась — «хуже не будет».
— Хочешь стать бессмертной и жить с нами, пройди три испытания, — сказал ей при следующей встрече черт. Посиди-ка ты в погребе с недельку, это первая ступенька в преисподнюю. Я закрою его для надежности, чтобы не гневить Сатану, всякое может быть. Еды в погребе полно, но много не ешь, привыкай, в аду суп не варят.
Через неделю вернулся черт, открыл погреб, вытащил наверх полуживую старуху.
— Молодец. Теперь ты должна просидеть в земляной яме, которую вырыл внук, до тех пор, пока не выпьешь ведро своего самогона, обязательно с табаком. Разрешаем тебе взять с собой банку соленых огурцов.
Ушел черт, села старуха в яму с водой.
В деревне слышали, как пела ночью в огороде, или ворожила, ведьма. И в другие дни не переставала пугать селян. Раздавались то «во саду ли, в огороде», то «огней так много золотых…».
— Что с ней? — спрашивали внука Алешку, который работал на уборке урожая в другой бригаде, тот только пожимал плечами и ухмылялся.
— Даже герои сказки всегда выполняют три задания, — успокаивал старуху черт, явившись к ней из чулана. «Откуда хошь может вылезти. Еще бы — нечистая сила!» — гордилась она своей дружбой с бесом.
— Надо будет тебе теперь покаяться в грехах перед односельчанами. Дочь твоя в нашей бесовской секте — перед ней не надо извиняться, а вот перед своим внуком обязательно. Поняла? Возьми в руки метлу, будешь ломать ее пред всеми по прутику. Если не попросишь прощения, не пройдешь обряд посвящения в настоящие ведьмы.
Стояло бабье лето. Солнышко пригревало землю, одарившую людей хорошим урожаем. Амбары полнились зерном, погреба ломились от овощей и фруктов. По такому случаю собрались на деревенской площади крестьяне. Приставили друг к другу задами грузовики — вот тебе и сцена. Хор теперь не был в моде, распался на дуэты, соло. Голосили бабы, но посматривали на сбивающихся в кучки мужиков.
Все замолчали, увидев поднявшуюся на подмостки ведьму с метлой.
— Каюсь за все свои грехи, за то, что обижала дочь и внука. Перед всеми каюсь, кого пужала вот этой метлой. Простите. — Слова перемежались с треском переламываемых прутьев.
Стало так тихо, что все услышали легкий смешок за сценой, откуда вышел черт.
— Давай попляшем, бабка, — крикнул он и запрыгал козлом вокруг старухи.
«Черт и ведьма. Где это видано?», — послышались удивленные голоса.
— Это ее внук кочевряжится, у нас в училище черта играет в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Разыграл он старуху, — сказал Гришка. Но его никто не слушал.
ДВУЛИКИЙ ЯНУС
Где достать миллион? Один, ушлый такой, советовал: да под ногами, нагнись и бери. Пытались у нас многие, даже предпринимательством занялись, инициативу проявили. Фига!
Всегда деловым был бывший электромонтер Витька Смыслов, изучал коньюнктуру рынка, обстановку. Закрыли общественные бани, он сразу смекнул: надо построить собственную. Сказано — сделано, такой он решительный и смелый. Даже ходит как петух, качая головой снизу вверх. Впечатление усиливалось, когда надевал когти и двигался от столба к столбу.
Прогорел, как заготовленные для бани дрова: многие соседи уехали в другие места на заработки, рядом даже стояли брошенные дома. Никакого навару.
Второй, по фамилии Беспалый, открыл рискованный бизнес: стал вечерами кидаться под машины. Прибыль — с гулькин нос: на лекарство много денег уходило. Однажды не увернулся, и лежит теперь в гипсовом панцире, двигаются только веки и язык.
А таксиста — анархиста Махно, так его прозвали, избили пьяные мужики. То ли цену за проезд заломил, то ли отказался везти. До сих пор заикается и ходит вприсядку словно пляшет. Нам смешно, а ему уже не до предпринимательства. По слухам, отдубасили его завистливые конкуренты, но кто его знает.
Думал я день, думал другой и надумал. А что если создать детективную службу «Янус двуликий», которая бы вскрывала другую темную сторону человека, его второе «я». По моральному кодексу капитализма это вполне возможно. Человек двуличный: семьянин — ловелас, честный — вор, справедливый — лгун, и таки далее, и таки далее, как говорит наш уважаемый глава администрации Зайцев.
В службу вошли сокращенный фотокорреспондент местной газеты Птибурдуков, уволенный из органов сыщик Богомазов, по прозвищу «ресторанный капитан». Водку в питейном заведении ему наливали для конспирации в компот, знали об этом все и посмеивались. Третьим был, как всегда и везде, я, умеющий раскрыть душу самому дьяволу.
Составили список самых богатеньких, собрали на каждого досье: куда, когда, на какие деньги, где?
Выехали с Птибурдуковым в санаторий «Светлана». Сразу удача: 99,9 процентов жен, кроме хромой учительницы Альбины Биктимировны, наставили рога своим мужьям, а в звонках домой вздыхали: любят, соскучились. Какое двуличие, притворство, волна капитализма обдала и вторую половину нашего общества, вероятнее всего, с ног до головы. Лучше уж сказать: еду развлечься, поедешь в другой раз и ты, мой дорогой.
Все об этом знают, но делают вид, что ничего не происходит. Лопочут с трибун и без них о крепкой семье, о чести и совести, а в глазах шашлык и много — много пива.
Чтобы бороться с таким двуличием, и была создана наша служба.
Он был маленький пухленький человечек с большим карманом, работал директором детского дома. Крал все, что плохо лежит и стоит, для своих любимых детей Мани, Тани и Ани, для его молчаливой женушки, у которой при таком богатом рационе почти не было подбородка, и в профиль она напоминала воблу. Интуиция подсказывала ей: не все ладно в их благоустроенном мирке, надкусывали ее пончика другие женщины.
Собрали мы на него компрометирующие материалы и говорим: — Иван Семенович, конечно, любви все возрасты покорны, но зачем же с девочками — моложе дочек. И ему под нос, утонувший в щеках, бросаем эротические снимки. Рассказали о разговоре с женой, о ее тайных мыслях. Если он заведет курортный роман или, не дай Бог, изменит, она отрежет ему секатором все, что осталось и выбросит в окно вместе с ним.
— Сколько? — сразу сказал пончик.
— Наворовал ты много, у нас три условия: больше — ни, ни, ни, купишь новую одежду для всех детдомовских ребят и будешь дарить каждому к празднику хорошие подарки, если, конечно, не хочешь на лесозаготовки. Наш гонорар 10 процентов от украденной тобой суммы.
— Что? Вы знаете, сколько это? — вырвалось у него.
— Знаем, поэтому и называем точно процентную ставку рефинансирования. До таких подлецов руки у государства пока не доходят, мы ему помогаем. Народная мудрость гласит: с волками жить — по-волчьи выть.
Не нарадуется жена пончика, опоясалась немного жирком. Спала с лица сухость, и стал чаще открываться рот: «Мой Ваня только о дочках и заботится — о Мане, о Тане, об Ане» — отвечает она одинаково на вопрос: как дела?
Не убегают теперь из детдома дети, зачем? К праздникам и дню рождения каждый получает по большому пакету подарков. Даже зимой стоят свежие фрукты на столах — где может быть лучше? Опер Богомазов разорвал на груди гимнастерку, доказывая бывшим сослуживцам эффективность нашего дела, а закон сейчас, аргументировал он, не обходит разве что безногий. Уравновешивает другая сторона — воры и взяточники.
Все в городке знали, что Гробов берет взятки, возмущались, но несли, как предки дань Мамаю. В других конторах брали еще больше, кажется, оставляли голыми, и некоторые выходили из кабинетов, закрывая руками по привычке интимные места.
Мы записали разговоры Гробова с посетителями. Интермедий потешнее не доводилось слышать.
— Здравствуйте, Павел Викторович, я к вам, — сказал один из них.
— Вижу, что ко мне, других тут нет.
— Я о водопроводе под домом. Сгнил. Заменить бы.
— Знаешь, сколько стоит эта работа?
— Знаю.
— Принес?
— Принес.
— Чего же риторику разводишь, Цицерон? Давай конверт.
— Добрый день, Павел Викторович. В прихожей яблоку негде упасть, думал, не прорвусь. Инвалид я. Не могу без транспорта, Хоть бы коляску — самоходку.
— А потом скатерть — самобранку, или ковер-самолет, — буркнул недовольно Гробов. — Нынче электроколяски дороже «Оки».
— Мне на машине нельзя, — отстегнул старик руку и положил на стол. Потом достал ключ, обыкновенный накидной, и, открутив гайку, снял с болта ногу.
— Ты это чего? Погоди. Давай разберемся.
— Денег у меня нет, могу только бартером, — продолжал размонтироваться старик. Вытащил зубы, глаз. Стал откручивать под животом.
— Подожди, Семен Семенович, — сразу вспомнил имя инвалида Гробов. — Я не возьму с тебя ничего. — Инвалид продолжал орудовать ключом.
— А мне все равно теперь, где раскладываться, бюрократы проклятущие.
— Маша, — закричал Гробов, — скорее сюда, — в комнату вбежала словно разрисованная акварелью секретарша.
— Быстро на склад, несите сюда инвалидную коляску — самоходку, с электрическим приводом. Семен Семенович один у нас в городе без руки, без ноги, и даже без.., — он испуганно посмотрел на руку старика, все еще откручивающую гайку.
— У вас перед входом, Павел Викторович, бумажка с надписью: «Чего же вы заходите, мимо не проходите». Ваши ребята пошутили или из ходоков кто?
— Ты чего приперся, расстроен я. Опять место под гараж просить будешь?
— В центре бы, Павел Викторович. Я ваш постоянный клиент, — достал он из кармана пухлый конверт.
— Некогда мне лясы разводить, — показал он два пальца. — Надбавка за непредвиденные расходы.
— Какой базар, начальник, — достал второй пакет посетитель.
— Ух, отошло, — погладил себя по животу Гробов. — А то приходят тут разные роботы.
Павел Викторович, ознакомившись с нашими документами и видеофильмом, согласно кивнул головой и только сказал:
— Волчья у вас хватка.
— С волками жить, по-волчьи выть, — и ему мы напомнили русскую пословицу.
Кто — то из заказчиков или обиженных кинул нас. Пришли из органов двое — наглые, без комплексов. Выбирайте, говорят, крыша или крышка, закрыть или открыть дело. А знаете? С крышей легче стало работать: ни дождя, ни снега. Лишь ветерок выдувает из кармана мелкие ассигнации. Крупные мы держим в другом месте.
Три года прошло. Потемнели ночью без света улицы городка, стиральную доску стали напоминать дороги, закрылись общественные бани. Словно иголка букашку приколола наше поселение к степи мачта ретранслятора. Жирели лишь мздоимцы и узаконенные спекулянты всех мастей.
За бездействие и коррупцию трижды выражали недоверие и смещали с должности главу муниципалитета. Чего захотели? Над ним нет другой власти. Он даже приковал себя наручниками к батарее и продолжал работать. Скажет секретарше: — Подержи листок, — и расписывается.
В такой обстановке взялись мы за дело.
— Иван Яковлевич, — зашли к нему в кабинет, — отстегните наручники, посмотрите дело. В нем все — от ваших потешных проделок в детстве до взяток и подкупа областных чиновников.
— Наручники снимать не буду, какие шустрые. Были до вас и круче. А за шантаж ответите. По судам я ходок, так и сохраняю должность.
— Все так и не так, дядя Ваня. Пробегите глазком по делу, советуем. Там есть заключение психиатрической комиссии о вашей, извините, дебильности. Другими словами, вы набитый дурак, и вам запрещено работать. Снимайте наручники и пишите заявление. Потом в сад к своим декоративным курочкам. Интересно вам, от кого мы узнали о заключении психиатров? Не хотели, но скажем: от вашей собственной жены. Пока вы сидели тут прикованные наручниками, она оттопыривалась с вашим лучшим другом и сейчас летит с ним над Атлантикой. И еще, хорошо запомните, круче, чем сейчас, можем быть только мы.
В РЕАЛЬНЫЙ МИР
Запел Шаляпин. Костя достал мобильник, скривился. В ушах стоял гул. Голова трещала. Полный аут. Куда он летит? Зачем? Видите ли, так захотела она: не пропадать же путевке, и потом она делает ему подарок перед свадьбой, сам — то он пока ноль без палочки или палочка без ноля. Красивый, здоровенный, но деревенщина…
— Где я, спрашиваешь? Он посмотрел в иллюминатор. — А я знаю? Лечу, белые облака, как океан ледовитый. Кажется, белый медведь закусывает нерпой.
— Какие глюки, какие дозы? Не гони, завязал я. И травкой не балуюсь, за компанию с Герой если? Кстати, как она там в своем «Олимпе»? Примерила нового коня к своим оглоблям?
Что это я все время какаю? Сутки уже прошли, интересно же. А Гера, сам знаешь, любит перепрягаться. Ей до фени, есть зелень или нет, был бы мустанг необъезженный. Проснулся только? Увидишь ее, чмокни для приличия за меня, чмокни, говорю, дурак, а не зажми, скажи, на облаке в штанах лечу замаливать ее грехи. А как ты назовешь этот допотопный самолетик?
Сидящая рядом в кресле солидная дама перекрестилась и посмотрела на него с умилением.
— Вы знаете Геру с Олимпа? — спросила она.
— А кто ее не знает. Немного с приветом, правда. Считает, что в прежней жизни богиней была. Откуда, удивляется, у нее такая ненасытная страсть к противоположному полу.
— Это мифы древней Греции. И Олимп — только гора, где живут боги.
Снова запел Шаляпин.
— Простите, сударыня, друг мне новости с земли перебрасывает. Да, да, слушаю тебя, овощ. Как корневища, не высохли? Поливаешь их регулярно? Коньяком? Не лепи. На пиво у меня всегда занимал. Чего узнал о Гере? Кстати, о ней соседка по креслу дала уточнение. Говорит, она не с Олимпа, там только боги живут. А глаза бешеные, колется, наверное. Что, что отмочила моя нареченная, когда я улетел? Всему Олимпу водки поставила? С какой радости? Квартиру я ей подарил? Да нет у меня никакой квартиры, сам живу в чулане у знакомых. Скорее всего, старый мерин Перун подарил.
— Извините, молодой человек, что вмешиваюсь в ваш содержательный разговор, но боги в Греции пили не водку, а виноградное вино, размешанное морской водой.
— Круто. Вот почему попахивает оно у Геры мочой. Только гландами закусывать.
— Историю Руси надо лучше знать, — не слушала его старая дама. — Перун — это языческий идол, божество.
— Ты даешь, сударыня. Все у тебя боги. А Перун, где жил, тоже на Олимпе? К вашему сведению, его построили к олимпийским играм, там, в ресторане, и работает Гера. А Перун, ее директор, и есть старый мерин, который еще стучит копытами. Загрузилась, сударыня. Сама — то куда летишь?
— Вообще мне нужна гора Олимп. Приснилось мне, что я была женой Зевса. Знаешь, как меня зовут?
— Не — а.
— Гера, — взгляд дамы резанул сполохом нечеловеческого огня, — и я умею перевоплощаться.
— Одна Гера тут, другая в ресторане «Олимп». Круто.
Костя осмотрел салон самолета. В немногочисленных креслах сидели одни женщины, и все смотрели пристально на него.
— Геры? — он быстро набрал номер телефона.
— Привет. Ты в ресторане? А кто рядом со мной. Твоя тетка Гера? Ты купила две путевки и одну отдала ей, чтобы следила за мной. У вас все женщины в семье Геры, почти богини? Как я понимаю Зевса. Доставалось ему. Никогда не буду в его роли. Это старый мерин оставил тебе квартиру? Перун — твой дядя, родной брат тети Геры? Полный улет. Послушай, дорогая, не нужна мне твоя хаза. Увидишь овоща, пусть не поминает меня лихом: выхожу я из самолета, дальше пойду пешком. Судя по карте, мы над Заволжьем. Если вы боги, не расшибусь и женюсь на тебе, если нет, такова судьба степного иноходца. Чао, Гера, будь богата и здорова.
Костя встал, взял тяжелую брезентовую сумку и, кивнув тете Гере, вышел из салона. Надеть парашют и шлем для него было минутным делом — это его двухсотый прыжок, а с таких самолетов он прыгал еще в армии. Аэродинамического удара он почти не почувствовал и раскрыл парашют над тихим Узенем около примкнувших к нему Баклуш, где он родился и вырос, где покачиваются на ветру выцветшие зори и вековой вяз на плотине опустил в воду высохшие ветви словно уставший путник. Он увидел на окраине деревни родительский дом, похожий на старушку — мать в ситцевом платочке, задравшего вверх голову близорукого Шарика и двух веселых гусей. Реальный мир, родина.
МАША, МИША И ЕГО ТЕЩА
— Маша, купила мне новый веник? — спросил Миша.
— Купила: и тебе и маме — дубовый и березовый, не запарьтесь. Соседка наша, Анна Куприяновна, чуть не расплавилась, стала на тебя похожа, кожа да кости. Говорит, пьяный банщик плеснул на каменку вместо кваса пиво. Уснула она в парилке.
На другой день.
— Ты что наделал, Миша? Вместо дубового веника взял в баню лавровый. Я же его купила для щей. А мама по близорукости оборвала в щи твой дубовый. Наелась их и одеревенела, даже язык торчком торчит.
— На что намекаешь, Маша: чтоб я поел перед сном этих щей? Неплохо, что у тещи не двигается язык, меньше болтать будет.
— Только бы язык, Миша. Теперь в баню ее на коляске повезешь, хочет размягчить в парной окаменевшее тело.
На третий день.
— Любимый, я сегодня не пойду на работу, скажу, заболела. Минутки не дал поспать, проказник.
— Как теща, оклемалась? Это надо три круга проехать в старом трамвае по всему городу.
— Она моргала, но все отворачивались от нее, думали глухонемая или глупенькая. Ты же не стал ее ждать у бани с коляской.
— Значит, не помогла ей баня. Это сколько же она съела щей, если я возбудился с одной тарелки, словно пачку виагры проглотил.
На четвертый день.
— Миша, Маша, отхожу я, слава Богу, — крикнула из своей комнаты теща.
— Вот и все, Маша, умирает твоя мама. Надо вызывать скорую.
— Как умирает? Отходит она, слышишь, заработал язык.
— Лучше бы вообще он не работал, только руки и ноги, чтобы полы мыла и готовила.
— А кто будет отвечать по телефону, что тебя нет дома. Ты же знаешь: я не могу врать, а мама…
— Не зря она была синоптиком сорок лет. Бросит, бывало, скрученные бумажки в шапку и вытаскивает наугад погоду. Иногда совпадало.
— Так-то так, но живем мы в маминой квартире, на твою зарплату можем купить собственную только в двадцать втором веке, сомневаюсь, что нашей эры. Живем, как у Христа за пазухой. Беречь ее надо.
— Лишь бы не комментировала футбольные матчи, особенно, если играет «Спартак». Достается и судьям и комментаторам. Странно, что она не различает футбол с игрой в лапту. Вот так в каждом деле, вытягивает из шапки скрученные бумажки.
— Что ты плетешь, Миша. Без твоей тещи, а моей мамы мы бы давно разбежались, два никчемных придурка. Ты сколько раз ездил на рыбалку?
— Сто раз.
— Ни одной рыбы не поймал. Сколько написал рассказов?
— Десятка три будет.
— Все — в корзину, ни одного не опубликовал. Сколько раз ты разбивал или тебе разбивали очки? И кто покупал тебе другие?
— Ну, теща.
— Не нукай. А кто всегда прибивал к подошвам твоих ботинок каблуки?
— Я же говорю, теща.
— Скажи откровенно, что ты сделал в доме за десять лет?
— У нас домашними делами занимается твоя мама.
— И что надо делать?
— Вызывать скорую, не дай Бог отойдет.
На пятый день.
— Детки, эх и попарилась я тогда в бане. Банщик попался тот же, что и Анне Куприяновне. Говорят, он влюбился в нее, после того, как она стала стройной и изящной. Посоветовал мне банщик принять в парной на грудь спирт с перцем. Я и приняла: всю грудь сожгла. А если бы выпила, как надо было, отпели бы давно. До сих пор шелушится кожа. Теперь я березовым веником полы мою. Запарю его в тазу, и — айда. Чувствуете, какой запах, как в березовой роще.
— Как в бане, скорее, — поправил зять.
— Купила попугая и канарейку — пусть щебечут и передразнивают нас, — будто не слушала его теща. — После вениковой причуды я стала видеть ночью и могу расколоть ладонью кирпич. Так что, милый зятек, не подвернись под горячую руку.
— И ноги сгибаются, мама?
— А как бы я мыла полы, доченька, лежа?
— Значит, помогла баня, не зря я тебе вчера купила веник из кедровой хвои, лучше всего кровь разгоняет.
— Боюсь, после него я догоню вас по возрасту, будем ровесниками.
— Мы тоже иглами позабавимся в баньке, — вставил зять.
— На наркотики потянуло без настоящего дела, Миша?
— Я работаю.
— Из тридцати рассказов хоть есть один хороший?
— Жду ответа редактора. О вашей жизни я написал, Раиса Гавриловна. Поучительная история.
— Спасибо, зятек, о чем же ты там написал?
— О том, что вы не просто теща, а самая любимая мама.
Раздался звонок. Вошел посыльный, он принес контрольный номер очередного журнала «Балагур», с обложки которого улыбалась Раиса Гавриловна с березовым веником в руках.
НЕ ВЕЗЕТ
Эх, ребята, надоело мотаться по лазаретам. Вы думаете, я такой толстый, под халатом у меня еще одна одежда гипсовая. Не гнутся ни руки, ни ноги, хожу как на ходулях. И все из-за того, что не везет мне с раннего детства. Еще в роддоме меня перепутали с китайским дитятей. И только к годовалому возрасту родная мать доказала, что глаза у меня совсем не узкие.
На следующий год унесла меня волчица к себе в логово к волчатам. Вместе пили ее молоко, о чем я не помню, естественно, в два года — то, мать рассказывала. Да вот, видите, кончики ушей пообгрызаны. Волчата крупненькими были.
А вскоре мне руку братец чуть не перерубил топором. Нашли палочку с вырезанными на коре узорами и решили поделить пополам. Пожадничал я, подвинул руку ближе к середине.
Взрослел я, ребята, и беды мои становились серьезнее. Проклинать судьбу я начал по — настоящему в студенческие годы. Все лето разгружал вагоны с цементом, баржи с арбузами и бутовым камнем, развозил товары по магазинам, заработал много денег. Правда, после разгрузки сыпучего цемента долго плевался в прохожих камешками. В новом плаще, костюме и кожаных ботинках повис на подножке трамвая, набитого людьми. Решил спрыгнуть у кинотеатра, не доезжая остановки: опаздывал на свиданье. Поскользнулся, упал, содрал до костей и руки, и ноги вместе с плащом и костюмом. У одного ботинка оторвалась подошва. Я попал в больницу, девушка от обиды перевелась в другой вуз.
Буду краток, вы сами оцените, какую подлянку подсовывает мне моя судьба. Потянувшись за рубашкой к веревке, я упал с балкона пятого этажа, где мы хотели отметить день рождения друга. Скорая не хотела брать меня. «Его нужно в морг, околевает», — сказал фельдшер. Сбросились ребята, у кого что было, и увезла меня скорая. С помощью болтов, спиц и пластин кое — как собрали меня эскулапы, деньги пришлось занимать даже у дальних родственников, некоторые не припомнили нас.
Только встал на ноги, сунул в живот острый нож, перепутав меня с любовником жены, одуревший от водки армянин. Хорошо попал в пластину, умер бы сразу. А вскоре в непогоду улетел на «Москвиче» с моста по откосу. Водитель был новичком, умер сразу, а я оклемался, вышли из строя в основном запасные части: разлетелись стягивающие суставы болты, лопнули спицы и пластины.
Не поверите, у меня есть на счету два прыжка с парашютом. Во второй раз не раскрылся он, такое случается крайне редко, но с другими, не со мной. Попал в засыпанный снегом глубокий овраг, где меня еле нашли. Выжил.
Прикольно. Ехал я из армии, и непонятно почему сел в поезд, идущий в другую сторону. Хорошо разбудил ревизор, уже к Байкалу подъезжал из Красноярска.
Были и неправдоподобные истории. Вы знаете, как заготавливают лес? Нет, конечно. Везут сваленные хлысты на эстакаду, там сортируют. Я колол дрова для паровозиков узкоколейки, метровые комли. В одном обнаружил дупло, а в нем золотые часы с ремешком.
— Откуда взял? Утащил? — начали наезжать на меня. Хорошо, что главный инженер потерял их за год до моего появления на лесопункте. Уже не прикольно было.
Эх, ребята, всю жизнь копил я деньги на машину, и вот, ЧП, шевелятся только веки и язык.
Утопленнику везет больше. Поручили мне купить цветы для начальницы к 8 Марта, увидела жена. Господи, что было, пришлось покупать очки и новый букет цветов.
Много я натерпелся от своей жены. Сварила розовый клей для окон, а я подумал, что это кисель. Две недели не ходил в туалет.
Недавно в троллейбусе передал деньги для кондуктора и не дождался билета. А тут контролер. Сосед по креслу все видел, но и слова за меня не замолвил, гад.
А в магазин мне лучше не заходить. Попросил сосед купить по пути бутылку водки. И в это время один за другим зашли туда двое — пьяный в стельку знакомый сапожник и моя начальница. Обнял меня сапожник и не отпускает. Я вырываюсь, но куда там… Начальница теперь не верит, что я трезвенник, и лишь всегда выпендривался. А что? Ноги ломаю, фонари под глазами замазываю, клей пью, поневоле засомневаешься. Вот так и живу. Вчера председатель профкома у меня в палате был, сказал, что мне не оплатят бюллетень: в конторе десять лет и семь из них проболел. Жена хочет прогнать, дескать, по больницам да госпиталям я больше отираюсь, подруги ее уже бабушками стали, а она еще чувство материнства не испытала. Лекарствами пропахла, как сапожник сивухой.
Все надо мной смеются, устали, говорят, сочувствовать.
Если я расскажу, что приключилось со мной на Новый год, и в конюшню не надо ходить, чтобы услышать ржанье. Нарядился Дедом Морозом и прискакал из больницы на костылях домой. Там — гульба, дым коромыслом.
— С Новым годом, — говорю, с новым счастьем!
— И этот на костылях, — возмутилась жена. — Иди лучше в больницу, поздравь немощных. Некоторые там прописались. А у нас тут здоровенькие, в основном жеребцы. — Подвыпившие мужички утвердительно кивнули. Один из них, в моей пижаме, хлопнул жену по заду:
— И кобыла есть, давай старик Мороз выпьем за супружескую верность, ха — ха — ха.
Ушел я, ничего не сказав. Уже у порога услышал голос жены «И берут таких олухов в Деды Морозы».
— Вот, ребята, думаю, что делать? Третий прыжок с парашютом — обязательно. Проветрю мозги, а если что — туда и дорога.
ЗВЕРИ И ЛЮДИ
Кроны деревьев прильнули друг к другу, и словно в шатре лежал лев. Рядом паслись антилопы гну, но попробуй, схвати за загривок — выгонят из джунглей. Убежал бы от новых порядков к белым медведям или к пингвинам, но холодно на полюсах и далеко — видел на глобусе — не добраться.
Под нижними ветвями баобаба, на верхушку которого залетали только птицы, стояла палатка доктора Донгуза. Он изучал повадки зверей, лечил их. Шимпанзе доставали ему с пальм бананы, гориллы разбивали кокосовые орехи, а дикобразы приносили высохшие листья для постели. Он выучил язык зверей, и мог переброситься парой слов с каждым.
Лев рассказал о своем намерении уйти из джунглей и примыкающей к ним саванне. Причины у него были веские.
— Представьте себе кокосовый орех, запущенный в вас гориллой, — говорил он доктору. — Меня, царя зверей, снесли с трона. Слазь, кончилось ваше время, орал горилла, бахвалясь тем, что ближе всех к человеку и выучил пару строк поэта.
Теперь обезьяны у трона, на котором сидит, не поверите, заяц, хотя он из другого ареала, теперь это стало возможным. Все речи — о капусте, моркови, пальмовых листьях и плодах.
Раньше как было? Во главе стаи или стада стоял самый клыкастый и могучий вожак. Побеждал всегда сильнейший. Пришли к власти другие, что им законы природы? Началось в лесу не самоуправление, а самоуправство. У руководства одни и те же особи, многие — без клыков от старости, передвигаются, опираясь на хвосты. У зайца хвоста нет, и он приспособил для передвижения брошенную на свалке инвалидную коляску. Удобно: есть место для свежих овощей.
— Развал, беспорядок, — возмутился дятел. Но его быстро перевели санитаром на делянку, где росли саженцы.
Смирились звери. Заяц стал определять степень их важности соотношением длины передних зубов и ушей к общему весу. Даже слон уступал ему, не говоря о других. Хотела лиса внести поправку в новый закон: мол, надо учитывать и длину хвоста, но заяц, отклонил ее, хотя среди обезьян были недовольные.
Завтра выборы нового царя зверей. Сорока давно протрещала, что останется на троне заяц, а кормушками снова будут заведовать спящие в гнездах человекоподобные. Надо уходить, — закончил свой рассказ лев.
— Куда ты, Левушка, один пойдешь? На границе саванны заметут, хорошо — в клетку попадешь, а если на шубу? Надо помозговать, — доктор почесал под шляпой волосы. — Вот что: я пойду с тобой. Станем артистами. Ты будешь плясать, ходить на задних лапах, отвечать на вопросы, то есть делать самое невероятное. Прокормимся. Дойдем куда надо.
Солнце в джунглях скрывается рано, ночь наступает быстро, и тени приносят прохладу. Вылез из шатра лев, потянулся, как все коты, и по-привычке рыкнул, да так, что сам испугался. Замурлыкали, собираясь вокруг него, большие кошки, лизали языками его запущенную гриву. Обгрызть бы, да времени нет, надо подаваться в бега.
Доктор и львиная семья шли по саванне, покрытой густой зеленой травой с островками баобабов, на которых резвились человекоподобные, занимая верхние этажи. Чтобы не тревожить их, жирафы объедали кусты акаций.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, лето сменилось осенью, жара — прохладой. Встречные люди дивились: лев, львицы и человек в огромной шляпе с фоторужьем на шее.
— Артисты мы, даем в поселениях представления. Приходите, увидите чудеса. И приходили люди, спрятав от страха под одеждой обрезы и финские ножи. Лев ходил на передних лапах, считал до десяти. А когда запел вместе с доктором дуэтом «Семеновну», присели от изумления люди, бросая новенькие червонцы в шляпу, которую держала в зубах голубоглазая львица.
— Почему ходите без клетки, — придрался сельский голова.
— Звери ручные, любят свободу, — не соврал доктор.
— Бумагу возьмите в муниципалитете. Скоро южные земли северных пространств. Там львов не видели — одни волки. Их вой до нас доносят ветры — мороз по коже. А еще северней — белые медведи, для них твои львы котята.
— Спасибо, господин голова, за предупреждение.
Дали они десять или одиннадцать таких представлений. Особенно запомнились два. Артисты всегда старались обходить мегаполисы, но зацепили один и сразу попали в нелегкую ситуацию. Пришлось применить весь накопленный в пути опыт.
В сумасшедшем доме местные народные избранники организовали клуб нудистов. Кто догадается? Дурак, он и голый — дурак. Никакого риска. А тут представление львов — они вообще без второй сигнальной системы, то есть без разума. Их чудаковатый руководитель не в счет: путешественник за сенсациями в жизни флоры и фауны. Второй степенью защиты было обсуждение в перерывах проекта законов в пятом и шестом чтениях.
— Впервые в мире выступает секс — львица голубоглазая, — объявил Донгуз. — Все захлопали, даже дураки, прикрывавшие до этого руками интимные места. — Львица изгибалась, мурлыкала, села на колени пьяного депутата.
— Не лезь под шубу, бакланчик, не то ухо откушу, — прорычала львица.
— О, дева, не тронь избранника, у него мандат неприкосновенности, — завопил дурак, ведущий шоу.
— А что же он под мужика загримировался, — засмеялась львица так, что зазвенели бокалы…
Все обошлось, когда доктор Донгуз объяснил пьяному депутату, что голубоглазая львица совсем не светская, а еще дикая, из джунглей.
Была сложность и со львом. Вцепилась ему в гриву толстушка, то ли из дураков, то ли из депутатов — голые же все — и кричала:
— Какая индивидуальность, на льва смахивает.
Затащила все же она его в комнату, и слышно было, как рычала львицей толстушка.
Все обошлось. Кто-то бросил в шляпу артистов ассигнацию с тремя нулями.
Секс-клубов больше на пути не было. Лишь раз оконфузился лев перед зрителями. Мальчишка в очках, наверное, победитель школьных олимпиад, задал вопрос:
— Пусть гривастый, он среди вас самый умный, скажет, какую оценку получают сейчас отличники в школе?
Лев сразу рыкнул пять раз.
— Неправильно: десять. Так решили наши депутаты: кризис охватил не только экономическую сферу нашей жизни.
Звери и доктор ускорили свой шаг, стараясь уйти подальше от слишком умных детей. В небе засияли другие созвездия, и стало видно Полярную звезду. Вскоре они встретили стаю волков в овечьих шкурах.
— Своя шкура не греет? — спросил лев.
— Откуда вы? Таких беженцев у нас еще не было. Мы господствуем здесь, работаем чабанами. Пришли из лесов. В степи сейчас оазис для зверья. Брошенные земли заросли, в лесопосадках — не проберешься. Еще при Катьке сюда ссылали людей, места тут гиблые, перспективные для нас. Овец — отары, зайцев за уши вытаскиваем из чертополоха, воды — два Узеня, завсегда попить можно. Оставайтесь с нами: клыки и когти у вас добрые. Будете сторожить овец. Собаки с перепугу убежали от нас, а некоторых, — он усмехнулся, — мы скушали. Больно вкусные.
— У нас заяц — на троне сидит, — ответил лев. — По итогам выборов привезли из ваших мест. Ему кроме капусты ничего не надо. А у руля и ветрил — гориллы. Если останемся, не замерзнем?
— Под гривой жарко будет, а на спину набросим бараньи шкуры. Твои кошечки влезут в них целиком и будут еще привлекательней. Мы выгрызаем мясо из тушек, не портя шкуры, чтобы не слетали при беге.
— А притремся мы друг к другу? — засомневался лев.
— Притремся, кошечки твои очень милые.
— Я не об этом, — рыкнул лев, — я о наших привычках.
— Привычки сходные: лови да жри.
— Пополам не треснем от избытка мяса, мы львы не прожорливые.
— А на север не идите. Там хозяйничают белые медведи. У них строгий порядок: сами себя выбирают, едят всех — моржей, нерп, рыбу разную. В их владении вся северная земля от семидесятой широты. Будете у них вместо собак в упряжках.
В стороне по старой дороге, опираясь на палки, шли, прихрамывая, кабаны. У одних были вырваны клыки, у других перебиты ноги, и у всех перевязаны лыком головы, из которого торчали пятаки — розетки.
— Откуда путь ведете, странники? И в каких баталиях получили свои раны? — вежливо спросил лев. Раньше он был царем зверей, и строгая интонация в рыке осталась, не ответить было нельзя. А волк, шельма, стоял рядом и усмехался.
— И куда теперь плывете? — ответил, скривившись, как будто у него болел зуб, старый кабан. Он знал сказки Пушкина: в детстве их нахрюкивала ему мать. — Ищем новый ареал обитания. Говорят, здесь есть для нас все условия. Даже дубы в посадках растут.
— Оставайтесь у нас, сказал кабану волк и по свойски подмигнул льву. — Надоели нам зайцы и бараны, свинина не помешает. Тебя, кабан, поставим старшим над твоим стадом. Но за доброту придется платить дань.
Кабаны заковыляли к Узеню в заросли, которые простирались до горизонта: попробуй, найди их там? Но договор есть договор.
— Кто их так разукрасил? — спросил лев.